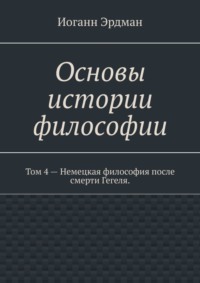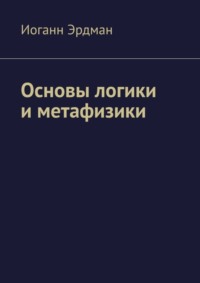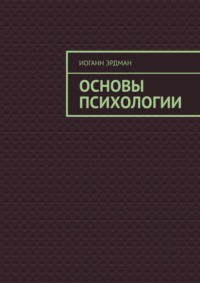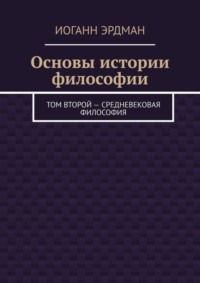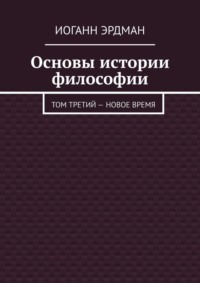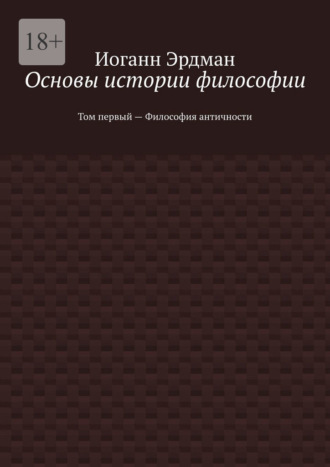
Полная версия
Основы истории философии. Том первый – Философия античности
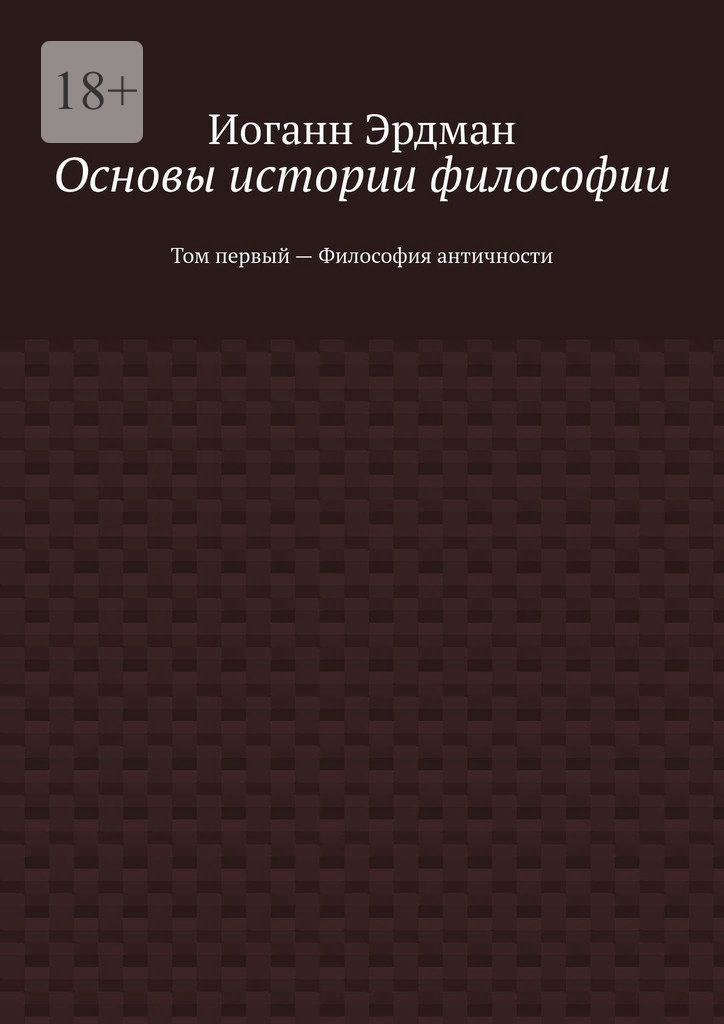
Основы истории философии
Том первый – Философия античности
Иоганн Эрдман
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Иоганн Эрдман, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0062-9072-3 (т. 1)
ISBN 978-5-0062-9073-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие к четвертому изданию
Книга Иоганна Эдуарда Эрдмана «Основы истории философии» – самое выдающееся изложение полного развития западной философии с гегелевской точки зрения, появившееся со времен гегелевских «Лекций по истории философии». Она почти полностью взята из самых ранних источников и везде сосредоточена на том, что является философски важным.
Эрдманн был особенно призван выполнить эту задачу. На протяжении десятилетий он читал зиму за зимой лекции по истории философии, прежде чем решил предложить своим многочисленным благодарным слушателям возможность узнать больше именно из «Основ». Однако он уделял гораздо больше внимания необходимой филологической подготовительной работе по изучению источников античной философии, чем фактическому содержанию изложения. Если философское содержание этой подготовительной работы было лишь второстепенной целью, она становилась для него непривлекательной. В более поздних изданиях он также дал реконструкцию философии греков, которая не всегда учитывала неопределенное состояние наших знаний. С другой стороны, Эрдманн, представитель двух поколений немецких философов, вышедших из теологии, имел не только основательное теологическое образование, но и глубокое понимание учений средневековой философии. Изучение источников этого периода, характерное для его изложения, доставляло ему удовольствие. Прежде чем взяться за разработку Основ, большую часть своей научной работы до этого он посвятил философии нового времени. Тот, кто сравнит настоящие замечания с содержанием шести томов его попытки научного изложения современной философии, легко увидит, как много он добавил, даже к зрелым, превосходным обсуждениям последних двух томов этого масштабного труда. Это касается не только богатых изложений многообразных направлений философской мысли в XVII и XVIII веках и особенно в первой трети нашего столетия, но и реконструкции ведущих философских систем. Наконец, почти незаменим подробный раздел «Немецкая философия после смерти Гегеля».
Скромность, с которой Эрдман говорит об этом «приложении» в предисловии ко второму тому, – не что иное, как намеренная скромность. Тем не менее, трудно найти кого-либо, кто смог бы проработать философскую литературу этого периода в Германии, особенно периода 1830—1860 годов, так же, как это сделал он, и, конечно, никого, кто смог бы представить все продукты развития и распада этой фазы с такой же степенью понимания. Эрдман пережил интеллектуальные течения того времени во всей полноте своих сил. То, что он, несмотря на свою твердую, непоколебимую партийную позицию, смог освещать их как сторонний наблюдатель, является незабываемым свидетельством его исторического такта.
Учитывая эти достоинства книги, я не сомневался, что на просьбу моего дорогого друга и издателя фон Эрдмана о том, следует ли организовать новое издание вышедшей из печати книги, я должен был ответить утвердительно. Однако я очень сомневался в том, что смогу выполнить настоятельную просьбу Вильгельма Герца и Карла Бартельса, старшего друга покойного, и провести необходимую ревизию. Решающим фактором стало то, что я был убежден, что действую в духе моего высокочтимого тезки.
Задача пересмотра была в целом ограниченной. Эрдман не только писал книгу с «точки зрения» своей систематической позиции и формировал ее оттуда по единому лекалу; он также запечатлел на каждой странице печать своей индивидуальности, интеллектуальной идиосинкразии, которая сформировалась так же прочно и резко, как и его внешнее лицо: эту позицию нельзя было изменить; в остальном я должен был быть скромным. Иначе мне пришлось бы писать новую книгу. Поэтому мне не разрешалось выходить за рамки пересмотра.
Соответственно, я вносил изменения в текст только там, где их допускала системно-конструктивная структура целого и индивидуальная окраска линии мысли, и там, где исследования последних десятилетий, казалось, делали их обязательными. Тот факт, что, несмотря на уверенность в общей постановке задачи, я часто почти в каждом предложении сомневался, правильно ли я поступаю, будет учтен знающими людьми там, где они поступили бы иначе, возможно, лучше. Более далеко идущие изменения в тексте первого тома я счел уместными почти только в изложении «Философии античности». Многочисленные улучшения, в основном дополнения, происходят из рукописного экземпляра Эрдмана, который профессор Юлиус Валлер, двоюродный брат покойного, был достаточно любезен, чтобы предоставить в мое неограниченное распоряжение. Ни эти улучшения, ни мои собственные дополнения не были помечены как таковые. Мой небольшой вклад не должен быть причиной нарушения единства целого.
Я и издательство особенно обязаны моему другу, профессору д-ру Клеменсу Баумкеру из Бреслау, который по моей просьбе взял на себя труд дополнить мои скромные познания в средневековой философии многими параграфами из богатства его тщательных и обширных источниковедческих исследований. Объем внесенных им улучшений едва ли меньше, а их содержание в основном значительнее, чем мой вклад в этот период.
Транскрипцией имен в разделе, посвященном арабской и еврейской философии, я обязан опыту моего уважаемого коллеги д-ра Ауг. Фишера.
Многократные ссылки на собрание сочинений Риттера и Преллера (Historia Philosophiae Graecae, ed. VII curav. Fr. Schultes» et Ed. Weltmann, Gothae 1888), а также Мюллаха (Fragmenta Philosophorum Graecorum, Parisiis: I 1860, II 1867, III 1881) в конце параграфов первой части были опущены с целью экономии места, поскольку ссылки можно найти в обеих работах без лишних слов.
Галле, 31 марта 1895 г.
Бенно Эрдман.
Предисловие к третьему изданию
Поскольку для рецензентов нового издания, а зачастую и для читателей книги, обычно важно быстро определить отклонения от предыдущего, я указываю дополнения, которые обогатили или исказили настоящее издание. Разумеется, только самые обширные, потому что, хотя иногда итог прочтения целого произведения для моей книги сводился к нескольким коротким предложениям, я не имел права ссылаться на эти случаи, поскольку не хочу предлагать читающей публике историю моего наброска вместо моего наброска истории. В соответствии с этим я прежде всего отмечу, что в §110 «Гермес Трисмегисто» обрел подробное описание вместо прежнего простого упоминания его имени. Поскольку я, к сожалению, не знаком с арабским языком, ссылка блаженного епископа Шпейера в письме ко мне от 8 ноября 1873 года на «юношеского редактора арабского Трисмегиста» осталась для меня незамеченной. Я могу только согласиться с пожеланием почтенного человека, высказанным в том же письме: чтобы кто-нибудь издал Theologia Aristotelis и Liber de causis одновременно с Hermes. – Дополнения в §135 о латинских апологетах – это одновременно благодарность Эберту за наставления, которые дала его прекрасная книга о христианской латинской литературе. В §147 делается попытка добиться заслуженного признания ранее только упоминавшегося Исидора Севильского, а в §155, по предложению Прантля, – Вильгельма Хиршауского. В §182 учитывается «Аристотелевская теология», которая ранее игнорировалась. В полностью переработанном §187 наибольшие затруднения мне доставил Аверроэс, о доктрине которого, как мне кажется, я сказал несколько вещей, которые еще нигде не были прочитаны. Тщательная работа Джоэля привела к дополнениям в следующих параграфах, а также в §237 «Философии Возрождения» Фр. Шульце. Раздел 232, в котором рассматриваются немецкие реформаторы и их влияние на философию, отсутствует в предыдущих изданиях.
В соответствии с ранее изложенным принципом, я добавил названия книг, из которых я узнал примечательные вещи. С другой стороны, поскольку я точно указываю, где в «Преллере и Риттере» и где в «Мууахе» напечатаны все ссылки, мне показалось излишним приводить некоторые из них в отдельности. Поэтому я удалил цитаты из предыдущих изданий. Все остальное, что я хочу сказать читателю, можно найти в предисловиях к предыдущим изданиям, которые я перепечатал именно по этой причине.
Галле, 31 июля 1876 года.
Доктор Эрдман.
Предисловие ко второму изданию
Поскольку предисловие к первому изданию, которое я перепечатываю именно по этой причине, устанавливает точку зрения, с которой следует оценивать эту работу, здесь остается обсудить только различия между этим вторым изданием и первым. За тем лишь исключением, что прежнее изложение доктрины Вайгеля было заменено на совершенно иное, хотя бы потому, что я включил в него Себастьяна Франка, который там был опущен, а также по другим причинам, я ничего не удалил, а лишь изменил, внеся дополнения. Несколько увеличенный формат, тем не менее, позволил выполнить пожелание издателя, чтобы прежнее количество листов не превышалось. Большинство этих дополнений было вызвано различными рецензиями на мою книгу, многие из которых были незаслуженно благосклонны. Большинство моих критиков сочтут, что я последовал их призыву. Там, где этого не произошло, они могут не сразу подумать, что я их проигнорировал. Но если причинам, приведенным в моей книге для отделения Анаксагора от более ранних философов, противостоит лишь сомнительный вопрос: нужно ли это делать? – если мое обоснованное причинами отделение неоплатонизма от античной философии рассматривается как неслыханное новшество, хотя Марбах в своем учебнике и, как я знаю из его собственных уст, Брандт в своих лекциях проводили именно такое различие, – если, наконец, мое доказательство того, что томизм и скотизм представляют собой различные фазы схоластики, встречает лишь императивное отношение к тому, что эти две философии различны, на императивное утверждение, что обе они находятся на одном уровне (правда, с немедленно добавленным утверждением, что Дунс относится к Фоме, как Кант к Лейбницу), мне оставалось, поскольку моя книга не ставила своей целью полемику, лишь промолчать о таких бездоказательных или самоопровергающих изложениях. Я мог бы последовать и другим предложениям, если бы те, кто мне их высказал, не сделали это невозможным. Например, анонимный автор в «Allg. Augsb. Ztg.», которого в остальном нельзя обвинить в отсутствии ясности, не пожелал указать мне на те места, где моя книга пытается вызвать аплодисменты с помощью «театральных отступлений», и поставить меня перед необходимостью доказать ему, устранив их, что я испытываю по крайней мере такое же отвращение к похитителям сцены, как и он.
В том, что второе издание содержит значительное количество названий книг, отсутствующих в первом, виноваты не рецензенты. Они включены не для того, чтобы сделать мою работу полезным справочником: даже если бы я был способен написать такой справочник, я бы, конечно, воздержался от этого сейчас, когда у нас есть такой хороший справочник в «Grundrisse» Уэбервега. Напротив, то, что я заявил в качестве своего намерения в предисловии к первому изданию: указать в каждой части, где можно найти советы и наставления для более глубокого знакомства с философом, – было сделано недостаточно, пока скрывались названия книг, из которых я сам черпал наставления и о которых я, следовательно, знал по опыту, что в них можно найти. Теперь они добавлены, и среди них есть те, которые я с пользой для себя прочитал только после выхода первого издания. Ограничение только теми книгами, которые были мне полезны, основано на совершенно субъективном принципе и должно было привести к большой неравномерности в отношении литературы; однако, если бы я отказался от этого, моя книга потеряла бы свой характер и, таким образом, свою главную, возможно, единственную ценность.
Ведь вся моя работа основана на принципе, который можно назвать субъективным, и, как и цитируемая в ней литература, не демонстрирует единообразия в своих отдельных частях. Если бы я хотел, чтобы мое представление истории философии напоминало великие панорамы, которые можно увидеть, только обойдя круговую галерею и часто меняя точку зрения, но которые могут быть созданы именно потому, что над ними одновременно работают несколько художников, я бы искал соратников и последовал примеру знаменитых современных работ по патологии и терапии. Поскольку я принадлежу к старой школе, я не захотел этого делать, а взял за образец не создателей панорамы, а пейзажиста, который изображает местность такой, какой она предстает с одной, неизменной точки зрения. Будь то то, что выбранный объект был слишком велик для меня, будь то, что я не начал работать над ним достаточно рано, будь то, что я не посвятил ему достаточно времени, будь то, наконец, что все это вместе взятое, короче говоря, никто лучше меня не знает, что то, что я выставил миру, не является картиной, к которой ее мастер приложил последний штрих. Поэтому ее следует рассматривать как эскиз, в котором лишь отдельные части были выполнены более точно, а именно те, которые касались никогда не повторяющихся световых и цветовых эффектов, в то время как другие оставались эскизными, поскольку их можно было дорисовать на досуге в студии на основе предыдущих этюдов или чужих картин. Без фотографии: Я прежде всего стремился изобразить те системы, которые были обойдены вниманием других, таким образом, чтобы получить полное представление о них и, возможно, пробудить желание узнать их лучше. Это было сделано, в частности, потому, что главной целью моего изложения всегда было показать, что история философии управляется не случайностью и бессистемностью, а строгой последовательностью. Для этого, однако, философы не первой степени часто оказываются едва ли не важнее величайших (подобно тому как амфибии и другие промежуточные стадии являются таковыми для системы животного ряда). Однако более всего моя главная цель требовала неуклонного следования одной точке зрения; поскольку двое не могут стоять на ней одновременно, в изложение могло быть включено только то, что я сам видел, если не находил. Если я не ошибаюсь, внимательный читатель прочтет в моей книге радостное сознание того, что я не отклонился от этого; этот открытый, я хотел бы сказать, невинный характер потерял бы свою физиономию или мог бы быть лишь искусственно возобновлен, если бы я, не проверяя, копировал других, даже если бы это был лишь железный инвентарь однажды установленных названий книг. Если я не ошибаюсь, я сказал. Без такого ограничения я говорю, что теперь, но только теперь, я уверен, что все, что я позволил сказать автору, часто, возможно, по недоразумению, возможность которого я не отрицаю, но всегда своими глазами, было найдено у него. С некоторыми высказываниями мне было бы теперь очень трудно найти то место, где они находятся в моих выдержках, с другими даже невозможно, не перечитав всего автора, потому что без выдержек из текста я работал в изложении. Однако сейчас я нахожусь в счастливом положении человека, который, получив вексель, датированный местом его проживания и написанный его собственной рукой, отказывается его принять, не убедившись по своему путевому дневнику, что его в этот день не было дома, потому что он никогда не выдает векселей. Любому человеку неприятно, когда его упрекают: то, что ты якобы сказал, нигде не написано, и поэтому я приводил цитаты там, где опасался этого, а когда это случается со мной, я обычно ищу сначала в своих выдержках, а потом в самих выдержках из книг, чтобы посмотреть, не найду ли я цитату. Если я ее не нахожу, то отказываюсь от удовольствия уличить другого человека; этот вопрос меня больше не волнует, поскольку в противном случае он мог бы стать причиной бессонной ночи. Конечно, я не могу донести эту свою уверенность, основанную на субъективных основаниях, до других, и если они найдут утверждения без моих ссылок, они обратятся к другим источникам. Тем лучше! Как я не люблю их, homines unius libri, так и моя книга не хочет увеличивать их число.
Галле, 28 апреля 1869 года.
Доктор Эрдман.
Предисловие к первому изданию
История создания этого конспекта, возможно, поможет избежать незаслуженных выставок в дополнение к многочисленным заслуженным.
Поскольку высказывание Шлейермахера: «Профессор, который диктует предложения своим слушателям, фактически претендует на привилегию игнорировать изобретение искусства печати», кажется мне забытым многими, но никем не опровергнутым, я напечатал конспекты для некоторых моих лекций, где мне казалось желательным, чтобы мои слушатели унесли домой то, что я говорил в коротких предложениях, отредактированных не только ими, но и мной. Я не считал такой конспект необходимым для истории философии. Долгое время, когда меня неоднократно спрашивали, какой сборник я бы рекомендовал, поскольку «Grundriss» Леннемана вышел из печати, а «Marbach», вероятно, никогда не будет завершен, поскольку в то время нельзя было ожидать усердной работы Уэбервега, я мог рекомендовать только Рейнхольда, как бы ни оставляла желать лучшего его книга. Но когда я увидел, как (что, несомненно, испугало бы самого автора) краткий конспект Швеглера и в конечном счете весьма жалкие репродукции этого беглого труда стали единственным источником, из которого черпала свои знания учащаяся молодежь, особенно те, кто готовился к экзаменам, я попытался составить конспект, который дал бы моим слушателям сжатое изложение того, что я представил, но в то же время указал в каждой части, где можно найти советы и указания для более глубокого изучения. В отношении античной философии, поскольку у нас есть прекрасные работы Брандтса и Целлера и достойная похвалы коллекция ссылок Преллера и Риттера, а также гностиков и Отцов Церкви, этой точки зрения можно было придерживаться, и поэтому первые пятнадцать листов этого конспекта содержат лишь несколько разделов, более подробных, чем обычно дается в моих лекциях. Если бы мне удалось закончить свою книгу таким же образом, то название «Grundriss», вероятно, было бы дополнено более подробным обозначением «für Vorlesungen», и она вышла бы в одном томе, а не в двух. Но я сразу же понял, что это невозможно, когда я пришел к схоластике. Как бы я ни уважал работы Тидеманна о древних, H. Риттер» и Хауртайм среди современных, сколько благодарности я испытываю к специализированным работам по отдельным схоластам и сколько восхищения вызывает огромная задача, которую Прантль выполнил в отношении средневековой логики, я нашел так много в философах, начиная с IX века, Кроме того, мне так часто приходилось отступать от традиционного расположения и компиляции, что, в частности, потому, что я хотел воздержаться от полемики в этой книге, для обоснования своей точки зрения потребовалась большая детализация. Включение цитат в текст было необходимо в любом случае, поскольку мы не располагаем хронологией средневековых философий, подобной той, которую Преллер и Риттер приводят для античности. Ограничительное добавление «для лекций» пришлось опустить, так как в те несколько недель, которые отводятся на Средние века в моих лекциях, я могу втиснуть лишь очень сокращенную выдержку из того, что содержат последние двадцать четыре листа этого тома. В результате разного характера, который это придало первой и второй третям этого тома, некоторые читатели могут заметить, что философия Средних веков занимает более чем вдвое больше места, чем античность. Тот, кто захочет упрекнуть меня в этой непропорциональности и указать на многие более поздние изложения истории философии как на образец, достойный подражания, должен прежде всего помнить, что там, где Брандт, Зедер и другие убедили меня в правильности своих утверждений, мне, естественно, не нужно было включать их обоснование, но каждое из моих утверждений, оспаривающих традиционные мнения, должно было быть обосновано.
Во-вторых, я хотел бы заметить, что не склонен подражать тем, кто начинает с утверждения, что Средние века не требовали здравой мысли, и далее не обращает на нее внимания, если только Теннеманн не расскажет им какую-нибудь диковинку, чтобы они могли присоединиться к нему. Возможно, это очень устаревший взгляд, но я считаю, что лучше сначала изучить учения этих людей, а затем спросить, действительно ли они, которые, помимо всего прочего, дали нам всю нашу философскую терминологию, даже не думая о догматике, не считаются ни с чем? Я прекрасно знаю, что то, что мы вывели сами, а не рассказали кому-то другому, по этой самой причине для нас важнее, чем для других, более того, возможно, важнее, чем оно есть на самом деле; и поэтому я не стану спорить с теми, кто упрекнет меня, что, поскольку мне самому пришлось так долго работать с Раймундом Луллом, я теперь обременяю моего читателя столь подробным изложением его великого искусства. Однако я объявлю эту длину совершенно бесполезной только в том случае, если Тадлер скажет мне, что он (к счастью, больше, чем я) смог очень хорошо узнать из описаний учения TLwZ, как получилось, что число луллистов однажды почти сравнялось с числом томистов, что Джордано Бруно был в восторге от этого человека, что Исдбниц так высоко его ценил и так много у него заимствовал, и так далее. Цель этого аргумента такова: парировать критику за недостаточно подробное изложение тем оправданием, что там, где я говорю только то, что можно найти в других местах, мне позволено быть кратким, но там, где я отклоняюсь от того, что говорили другие, я должен быть подробным и т. д.
Галле, 13 октября 1865 г.
Эрдман.
Введение
§1.
Если бы не существовало другого способа обращения с историей философии, кроме чисто научного, для которого все системы одинаково истинны, потому что они всего лишь мнения, или скептического, который видит во всех них одни и те же ошибки, или, наконец, эклектического, для которого во всех них есть частицы истины, то были бы правы те, кто в интересах философии предостерегает от обращения с ее историей вообще или по крайней мере для начинающего. Вопрос о том, есть ли лучший вариант и какой из них правильный, может быть решен только путем обсуждения концепции истории философии.
§2.
Философия возникает, не останавливаясь на факте существования (мира), а переходя к познанию его причин, наконец, его абсолютной причины, т. е. его необходимости или разумности. Однако она не является делом только отдельного мыслителя, в ней заложены теоретические и практические убеждения человечества, так же как мудрость отдельного человека заложена в максимах и принципах, а мудрость народов – в пословицах и законах. Как народ или страна выражает свою мудрость и волю устами своих мудрецов и законодателей, так и мировой дух (т. е. человек или «человечество») выражает свое (мир выражает свое) через философов. Поэтому, если вместо философии сказать «мировая мудрость», то это слово world в genetico означает одновременно sxdgecti и objecti.
§3.
Как человек, без ущерба для своего единства, проходит через различные возрасты жизни, так и дух мира последовательно является духом различных эпох и веков. Человек восемнадцатого века – это не человек семнадцатого. Если использовать ту же метонимию, которая заставляет нас говорить «мир» вместо «дух мира», «времена» вместо «дух века» и «век» вместо «дух века», то каждый век имеет свою мудрость, каждый век – свою философию. Те, кто говорит об этом первыми, – философы этих разных времен. Именно они действительно понимают время, а философия века, как его самопонимание, лишь формулирует то, что бессознательно жило и инстинктивно действовало в этом веке, выражает его тайну, то есть то, что «один» считает истинным и правильным.
§4.
Зависимость от конкретного времени, в которую попадает каждая философия в силу того, что она является конечной истиной только для нее, не умаляет ее абсолютного характера в той же мере, в какой долг перестает быть безусловным, поскольку разные вещи являются долгом разных эпох. Не становится он и преходящим, ибо судьба мальчика – послушание – сохраняется как послушание в мужчине, научившемся повелевать с его помощью. Тот факт, что философия, как плод, всегда следует за расцветом эпохи, часто заставляет считать ее причиной гибели, которую она никогда не приносит, но всегда только предает. В частности, всякое беспристрастное благочестие не уничтожается ею вначале, а прекращается прежде, чем философские порывы успевают проявиться.
§5.
Как мировой дух проходит через различные духи времени, в которых состоит мировая история, так и его сознание, мировая мудрость, проходит через различные сознания времени, и в этом состоит именно история философии. Там, как и здесь, ничего не теряется; напротив, то, что имеет своим результатом одно время и одна философия, становится материалом и отправной точкой для следующего. Поэтому различие, более того, конфликт философских систем не является доказательством против того, что во всех философиях развивается только одна философия, а скорее говорит именно в пользу этого утверждения.