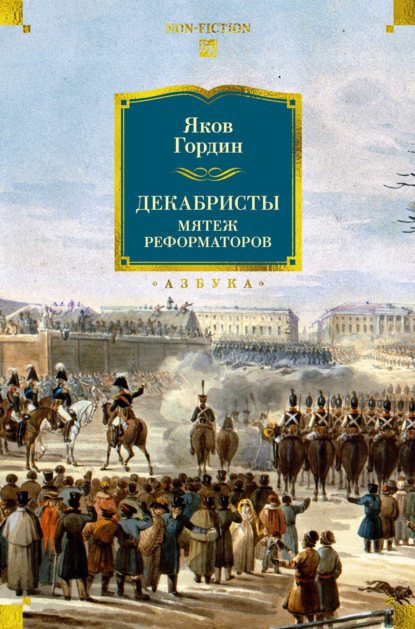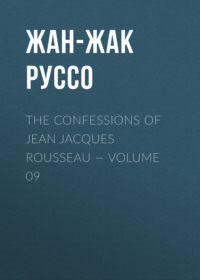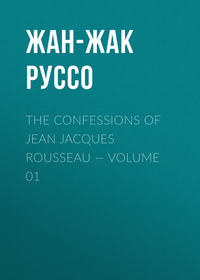Полная версия
Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя
На следующий день нас опять собрали для поучения, и только тут я в первый раз начал раздумывать о том шаге, который собирался сделать, и об обстоятельствах, побудивших меня к этому.
Я говорил, повторяю и буду, может быть, еще повторять то, в чем с каждым днем все больше и больше убеждаюсь: что если когда-либо ребенок получил разумное и здоровое воспитание, то это я. Родившись в семье, выделявшейся среди других своими добрыми правилами, я получил от всех своих родственников лишь уроки благонравия и примеры порядочности. Отец мой, хотя и любил житейские удовольствия, был человек не только твердой и безукоризненной честности, но и очень религиозный. Безупречный в глазах окружающих и христианин душой, он с ранних лет внушил мне чувства, которыми сам был проникнут. Из трех моих теток, скромных и добродетельных, две старшие были очень набожны, а третья, девушка, исполненная прелести, ума и чувства, была, может быть, еще более набожной, хотя меньше это показывала. Из лона этой уважаемой семьи я попал к г-ну Ламберсье. Духовное лицо и проповедник, он тем не менее был глубоко верующим и поступал почти так же хорошо, как проповедовал. Его сестра и он сам своими мягкими и разумными наставлениями укрепили в моем сердце уже заложенные в нем основы благочестия. Эти достойные люди прибегали к таким верным, таким осторожным, таким разумным приемам, что я не только не скучал на проповеди, но уходил оттуда всегда глубоко тронутый, с решением вести хорошую жизнь, и нарушал его очень редко, постоянно думая об этом. Набожность моей тетки Бернар больше надоедала мне, потому что она превращала ее в ремесло. У своего хозяина я над этим не задумывался, хоть и не изменил своего образа мыслей. Мне не попадались молодые люди, которые могли бы меня совратить. Я стал шалуном, но не вольнодумцем.
Итак, из религии я усвоил все, что доступно ребенку моих лет. Даже больше, потому что – зачем мне утаивать свою мысль? – детство мое вовсе не было детством в собственном смысле слова: я всегда чувствовал и мыслил, как взрослый человек. Только вырастая, вернулся я к общему уровню; родившись же, я был далек от него. Надо мной будут смеяться, что я с таким скромным видом выдаю себя за чудо. Пусть, но, насмеявшись вдоволь, пусть попробуют найти ребенка, которого бы в шесть лет интересовали, увлекали и приводили в восторг романы, так чтобы он плакал от них горячими слезами; тогда я пойму смехотворность своего тщеславия и признаю, что не прав.
Так, когда я высказывал мысль, что совсем не надо говорить детям о религии, если хотят, чтобы она когда-нибудь у них была, и что дети не способны познать Бога хотя бы так, как мы, я исходил в своем чувстве из своих наблюдений, а не из собственного опыта; я знал, что на основании его нельзя делать выводы о других. Найдите шестилетних Жан-Жаков Руссо и в семь лет начните говорить им о Боге – ручаюсь, что вы ничем не рискуете.
Каждому, я думаю, понятно, что для ребенка и даже для взрослого иметь религию – значит следовать той, в которой он родился. Иногда от нее что-нибудь отнимают, но прибавляют к ней редко: догматическая вера есть результат воспитания. По этому общему правилу я был привязан к вере моих отцов, а кроме того, питал в то время характерное для нашего города отвращение к католицизму, который нам изображали как ужасное идолопоклонство, а его духовенство рисовали в самых черных красках. Доходило до того, что я не мог заглянуть внутрь церкви, встретить священника в стихаре, услышать колокольчик процессии, не содрогнувшись от ужаса и страха, которые скоро перестали овладевать мною в городах, но еще долго охватывали меня в деревенских приходах, более похожих на те, где я эти чувства впервые испытал. Правда, этому впечатлению странным образом противоречило воспоминание о ласках – священники в окрестностях Женевы охотно расточают их городским детям. В то время как колокольчик процессии пугал меня, – звон к обедне и к вечерне напоминал мне о завтраке, закуске, свежем масле, плодах, молочных продуктах. Прекрасный обед г-на де Понвера тоже произвел большое впечатление. Вот почему я стал легко относиться ко всему этому. Думал я о папизме лишь в связи с удовольствиями и лакомством и без труда свыкся с необходимостью жить в его окружении, но мысль о том, чтобы торжественно вступить в него, являлась мне лишь мимолетно и относилась к далекому будущему. А теперь ничего уже нельзя было изменить: я смотрел с самым неподдельным ужасом на своего рода обязательство, принятое мною, и на его неизбежное следствие. Будущие новообращенные, окружавшие меня, были не способны укрепить мое мужество своим примером; и я не мог скрыть от себя, что святое дело, которое я собирался совершить, было, в сущности, не чем иным, как поступком бандита. Хотя я был очень молод, я чувствовал, что, какая бы религия ни была истинной, свою я собираюсь продать и что, если даже мой выбор удачен, я солгу в глубине сердца Святому Духу и заслужу презрение людей. Чем больше я об этом думал, тем больше негодовал на самого себя и стенал о своей судьбе, которая довела меня до этого, как будто эта самая судьба не была делом моих рук. Бывали минуты, когда эти размышления приобретали такую силу, что, если бы дверь хоть на мгновение оказалась открытой, я бы, конечно, сбежал, – но это было невозможно, да и решимости моей хватило ненадолго.
Слишком много тайных желаний боролось с нею, чтобы не победить ее. К тому же упорство в принятом решении не возвращаться в Женеву, стыд, самая трудность обратного перехода через Альпы, затруднительность моего положения вдали от родины, без поддержки, без средств к существованию – все это, вместе взятое, заставляло меня смотреть на угрызения своей совести как на раскаяние запоздалое; я преувеличивал, упрекая себя в том, что сделал, чтобы оправдать то, что собирался сделать. Отягчая заблуждения прошлого, я смотрел на будущее как на их неизбежное следствие. Я не говорил себе: «Еще ничего не сделано, и ты можешь остаться невинным, если захочешь», а говорил: «Сокрушайся о преступлении, в котором ты виновен и которое вынужден довести до конца».
В самом деле, какая редкая сила духа нужна была мне в моем возрасте, чтобы отказаться от всего, что я до тех пор обещал или на что дал повод рассчитывать, и, разрывая цепи, которыми сам себя сковал, бесстрашно объявить, что хочу остаться верным религии своих отцов, принимая все возможные последствия! Эта сила не свойственна юному возрасту, да и маловероятно, чтобы она дала нужные результаты. Дело зашло слишком далеко, от него не захотели бы отказаться, и чем больше росло бы мое сопротивление, тем с большей силой и всевозможными способами постарались бы его подавить.
Меня погубил тот же самый софизм, к которому прибегает большинство людей, жалуясь на недостаток сил, когда уже слишком поздно ими воспользоваться. Добродетель имеет для нас цену лишь вследствие нашей ошибки, и, если бы мы захотели всегда быть благоразумными, нам редко представлялась бы необходимость быть добродетельными. Но легко преодолимые наклонности увлекают нас, не вызывая сопротивленья; мы поддаемся легким искушениям, презирая их опасность. Нечувствительно мы попадаем в гибельные положения, которых легко могли бы избежать, но выйти из которых уже не можем без героических усилий, пугающих нас, – и наконец падаем в пропасть, взывая к Богу: «Зачем ты создал меня таким слабым?» Но, вопреки нам, он отвечает нашей совести: «Я создал тебя слишком слабым, чтобы выйти из пропасти, оттого что создал тебя достаточно сильным, чтобы туда не попасть».
Собственно, я еще не принял окончательного решения стать католиком; но, видя, что срок пока далек, постепенно приучал себя к этой мысли и, находясь в ожидании, надеялся, что какое-нибудь непредвиденное событие выведет меня из затруднения. Чтобы выиграть время, я решил энергично защищаться, насколько это было для меня возможно. Вскоре тщеславие заставило меня забыть о моем решении, и, как только я заметил, что иногда сам ставлю в затруднительное положение тех, которые собирались меня поучать, я тотчас переходил в наступление, пытаясь окончательно их разбить. Я даже проявил в этом деле чрезвычайно глупое рвение, и, в то время как мои наставники обрабатывали меня, я старался обработать их. Я самым искренним образом полагал, что, стоит мне только убедить их, они неизбежно станут протестантами.
Таким образом, они совсем не нашли во мне той податливости, которой ожидали, – ни со стороны моих познаний, ни со стороны воли. Протестанты обычно более образованны, чем католики. Это и понятно: учение первых требует обсуждения, учение вторых – подчинения. Католик должен подчиняться решениям, которые ему сообщают, протестант должен научиться решать сам. Это было известно, но ни мой возраст, ни мое положение не давали оснований ждать особых затруднений для опытных людей. К тому же я еще не был у первого причастия и не получил тех наставлений, которые ему предшествуют; это тоже было известно, но никто не знал, как хорошо зато я был обучен у г-на Ламберсье, ни того, что у меня под рукой имеется небольшой и весьма неприятный для этих господ запас сведений в виде «Истории церкви и государства», которую я выучил чуть не наизусть у отца и с тех пор почти забыл, но которая восстанавливалась в моей памяти, по мере того как спор разгорался.
Первое собеседование вел с нами старый священник, низенький, но довольно почтенный. Для моих товарищей собеседование это было скорее уроком катехизиса, чем богословским спором о вере, и священнику больше приходилось поучать их, чем отвечать на их возражения. Но со мной дело обстояло иначе. Когда очередь дошла до меня, я то и дело прерывал его, не упуская случая поставить его в затрудненье. От этого собеседование сильно затянулось и стало очень скучным для присутствующих. Старый священник много говорил, горячился, молол вздор и выходил из трудных положений, отговариваясь, что плохо понимает по-французски. На другой день, опасаясь, как бы мои нескромные возражения не посеяли соблазна среди моих товарищей, меня поместили отдельно, в другую комнату, с другим священником, помоложе, – очень красноречивым, то есть любителем пышных фраз, и самодовольным превыше всех ученых в мире. Однако я не позволил ему слишком подавить меня своим внушительным видом и, чувствуя, что в конце концов только исполняю свою обязанность, стал отвечать ему довольно уверенно, донимая его, как только мог, то тем то другим. Он думал побить меня св. Августином, св. Григорием и другими отцами церкви, но, к своему великому удивлению, обнаружил, что я управляюсь со всеми этими отцами почти так же легко, как он сам, и не потому, чтобы когда-нибудь читал их, – как и он сам, может быть, – но потому, что запомнил много отрывков, приведенных у Лесюэра; и как только он мне цитировал кого-нибудь из них, я, не оспаривая этой цитаты, приводил ему из того же отца церкви другую, чем неоднократно ставил его в тупик. Но в конце концов он одержал верх надо мной по двум причинам: во-первых, сила была на его стороне, и я, чувствуя себя, так сказать, в его полной власти, – как ни был молод, хорошо понимал, что не надо выводить его из терпения, так как заметил, что и моя эрудиция, и я сам очень не понравились маленькому старику-священнику; во-вторых, молодой священник был человек образованный, а я нет. Поэтому в своих доказательствах он пользовался методом, который был мне недоступен; когда же он чувствовал, что прижат к стене неожиданным возражением, он откладывал ответ до другого дня, заявляя, что я отклоняюсь от темы. Иногда он даже отвергал все мои цитаты, утверждая, что они фальшивы, и предлагал мне пойти за книгой, уверенный, что я их там не найду. Он знал, что ничем не рискует и что, несмотря на мою показную ученость, я слишком неопытен в обращении с книгой и слишком плохой латинист, чтобы отыскать в толстом томе отрывок, даже зная наверное, что он находится там. Я даже подозреваю его самого в подделке, в которой он обвинял пасторов, – в том, что он присочинил отдельные места, чтобы увильнуть от неудобных для него возражений.
Пока продолжались эти пустые споры и дни проходили в диспутах, бормотании молитв и ничегонеделании, со мной случилось скверное происшествие, чуть не окончившееся для меня очень плохо.
Нет такой низкой души и такого варварского сердца, которые были бы совершенно не способны к какой-либо привязанности. Один из двух бандитов, выдававших себя за мавров, полюбил меня. Он часто подходил ко мне, болтал со мной на своем ломаном франкском наречии, оказывал мне мелкие услуги, иногда делился со мной за столом своей порцией и то и дело целовал меня с пылкостью, очень меня тяготившей. Несмотря на вполне понятный ужас, который внушало мне его лицо, похожее цветом на коврижку, украшенное длинным шрамом, и его горящий взгляд, казавшийся скорее свирепым, чем нежным, я терпел его поцелуи, говоря себе: «Бедняга почувствовал ко мне большую привязанность, – я не должен его отталкивать!» Мало-помалу его обращение становилось все более вольным, и он стал заводить со мной такие странные речи, что мне казалось, он сошел с ума. Однажды вечером он захотел лечь спать со мной; я воспротивился, говоря, что моя кровать слишком узка. Он стал уговаривать меня, чтобы я лег на его постель; я опять отказался, потому что этот несчастный был так нечистоплотен и от него так несло жевательным табаком, что меня тошнило.
На другой день, довольно рано утром, мы были с ним вдвоем в зале собраний; он возобновил свои ласки, причем движения его стали такими неистовыми, что он сделался страшным. Наконец он дошел до самых непристойных вольностей. Я бросился на балкон, взволнованный, смущенный, даже испуганный, как ни разу в жизни, и близкий к обмороку.
Я не мог понять, что было с этим несчастным; я думал, что у него припадок падучей или какого-нибудь другого еще более ужасного исступления; и, право, я не могу представить себе ничего более отвратительного для спокойного наблюдения, чем такое бесстыдное, гнусное поведение и такое ужасное, воспламененное самой грубой похотью лицо. Я никогда не видал другого мужчины в подобном состоянии, но, если мы бываем такими с женщинами, они должны быть очень ослеплены, чтобы не прийти от нас в ужас.
Я поспешил как можно скорее рассказать всем о том, что произошло. Старуха-начальница велела мне молчать; но я видел, что это происшествие ее сильно взволновало, и слышал, как она ворчала сквозь зубы: «Can maledet! brutta bestia!»5
Так как я не понимал, почему должен молчать, я продолжал болтать, несмотря на запрещение, и доболтался до того, что на другой день один из наставников сделал мне строгий выговор, обвиняя меня в том, что я порочу честь святого дома и подымаю шум из-за пустяков.
Он продолжал свое внушение, объяснив мне многое, чего я не знал, и не подозревая при этом, что просвещает меня, так как был уверен, что я защищался, зная, чего от меня требуют, и не соглашаясь на это. В своем бесстыдстве он зашел так далеко, что стал называть вещи своими именами и, воображая, что причиной моего сопротивления была боязнь боли, уверял меня, что эта боязнь неосновательна и мне нечего было тревожиться.
Я слушал этого мерзавца с тем бóльшим удивлением, что он действовал бескорыстно, он поучал меня как будто для моего собственного блага. То, о чем он говорил, представлялось ему настолько обыденным, что он даже не постарался остаться со мной с глазу на глаз; в качестве третьего лица с нами был церковник, которого все это тоже нисколько не пугало. Непринужденность беседы так подействовала на меня, что я пришел к мысли, будто это обычай, принятый всеми, и я только не имел случая раньше с ним познакомиться. Поэтому я слушал без гнева, но с омерзением. Впечатление от пережитого и в особенности от того, что я видел, так сильно запечатлелось в моей памяти, что при одной мысли об этом меня начинало тошнить. Хотя я ничего больше не узнал, отвращение к происшествию распространилось на его защитника, и я не мог настолько сдержать себя, чтобы он не заметил плохого действия своих уроков. Он бросил на меня неласковый взгляд и с тех пор не щадил усилий, чтобы сделать мне пребывание в убежище как можно более неприятным. И настолько в этом преуспел, что я, понимая всю невозможность выйти отсюда иным путем, поспешил вступить на единственный путь, ведущий к выходу, хотя раньше старался отдалить это мгновение.
Этот случай послужил мне в дальнейшем защитой от предприимчивости подобных проходимцев; люди, слывшие такими, видом своим и жестами всегда напоминали мне моего страшного мавра и внушали такой ужас, что мне было трудно его скрыть. Напротив, женщины от этого сравнения очень выиграли в моих глазах, мне стало казаться, что я обязан вознаградить их нежностью чувств, своей личной почтительностью за оскорбления со стороны моего пола, и самая безобразная дурнушка при воспоминании об этом лжеафриканце становилась в моих глазах существом, достойным обожания.
Что сказали ему самому, я не знаю, но, за исключением матушки Лоренцы, никто как будто не стал относиться к нему хуже, чем раньше. Как бы то ни было, он больше ко мне не подходил и не заговаривал со мной. Через неделю его с большой торжественностью окрестили, одев в белое с ног до головы, чтобы изобразить чистоту его возродившейся души. На другой день он вышел из убежища, и я больше никогда его не видал.
До меня дошла очередь через месяц: столько времени потребовалось на то, чтобы моим наставникам досталась честь такого трудного обращения, причем, пользуясь теперешней моей покорностью, меня подвергли проверке по всем догматам. Наконец, когда мои руководители нашли, что я достойно обучен и подготовлен к повиновению, меня отвели в процессии в соборную церковь Св. Иоанна, где я должен был торжественно отречься и принять все аксессуары крещения, хотя в действительности меня не крестили. Однако обряды при этом установлены почти такие же, как при крещении, для того чтобы внушить народу убеждение, что протестанты не христиане. Меня одели в серое платье особого покроя, с белыми нашивками, специально предназначенное для такого рода случаев. Два человека, впереди и позади меня, несли медные чаши, ударяя по ним ключом; каждый присутствующий клал туда милостыню сообразно со своим благочестием или участием к новообращенному. Одним словом, ничто из католической пышности не было упущено, чтобы сделать торжество более поучительным для публики и более унизительным для меня. Недоставало только белой одежды, которая была бы мне очень кстати, но мне ее не дали, в отличие от мавра, – ввиду того, что я не имел чести быть неверным.
Этим дело не кончилось: пришлось потом идти в инквизицию получить там отпущение в грехе ереси и вступить в лоно церкви с той же церемонией, которой был подвергнут Генрих IV в лице своего посла. Вид и манеры высокопреподобного отца инквизитора отнюдь не рассеяли тайного ужаса, охватившего меня при входе в этот дом. После целого ряда вопросов о моей вере, о моем положении, о моей семье он вдруг спросил меня, не осуждена ли моя мать на вечную муку. Ужас подавил первое движение моего негодования, и в ответ я лишь выразил надежду, что она не осуждена и что Бог просветил ее в последний час. Монах замолчал, но сделал гримасу, которая показалась мне мало похожей на знак одобрения.
Когда со всем этим было покончено и я уже думал, что устроюсь наконец согласно своим надеждам, меня выставили за дверь, вручив на двадцать с лишним франков мелкой монеты, собранной в мою пользу. Мне посоветовали жить, как подобает доброму христианину, оставаясь верным благодати, пожелали мне успехов, захлопнули за мной дверь – и все исчезло.
Так в один миг померкли все мои великие надежды, и от своекорыстного шага, который я только что совершил, у меня осталось лишь воспоминание, что я превратился в отступника и попал впросак. Нетрудно вообразить, какой резкий переворот произошел в моих взглядах, когда после всех проектов блестящего будущего оказалось, что мне грозит полная нищета, и после того, как утром я думал о выборе дворца, в котором буду жить, а вечером увидел, что принужден ночевать на улице. Могут подумать, что я сразу впал в отчаяние тем более жестокое, что, сожалея о своих ошибках, должен был горько укорять себя и видеть, что все мое несчастье – дело моих собственных рук. Однако ничего этого не было. Впервые в жизни я более двух месяцев подряд провел взаперти, и первым чувством, которое я испытал, было чувство вновь обретенной свободы. После долгого рабства я вновь сделался хозяином самого себя и своих действий, очутился в большом городе, изобилующем всякими возможностями, в городе, где жило много состоятельных людей, которые, конечно, не преминут принять меня к себе, как только им станут известны мои таланты и достоинства. К тому же у меня было время, чтобы ждать, а двадцать франков в кармане казались мне неисчерпаемым сокровищем. Я мог располагать им по своему желанию, не давая никому никакого отчета. Впервые я чувствовал себя таким богатым. Далекий от мысли предаваться отчаянию и слезам, я только сменил одни надежды другими, без всякого ущерба для своего самолюбия. Никогда не был я так уверен в себе и так спокоен; мне казалось, что моя карьера уже сделана, и я радовался, что обязан этим только самому себе.
Прежде всего я обегал весь город, торопясь удовлетворить свое любопытство и проявить свою свободу. Я ходил смотреть, как сменяется караул; военная музыка мне очень понравилась. Я следовал за процессиями, с удовольствием слушая монотонное пенье священников. Я ходил смотреть королевский дворец; я приближался к нему с опаской, но, видя, что другие входят туда, последовал за ними; меня пропустили. Может быть, я был обязан этой милостью маленькому свертку, который был у меня под мышкой. Как бы там ни было, попав во дворец, я высоко возомнил о себе и уже смотрел на себя почти как на его обитателя. Наконец я устал шататься взад и вперед и почувствовал голод; было жарко; я зашел к торговке молочными продуктами; мне дали джунки, простокваши и пару продолговатых пьемонтских хлебцев, которые я предпочитаю всякому другому хлебу, – за пять-шесть су я пообедал так, как мне редко случалось обедать за всю мою жизнь.
Нужно было отыскать себе пристанище. Я уже знал по-пьемонтски достаточно, чтобы меня могли понять, поэтому мне нетрудно было его найти; и у меня хватило благоразумия выбирать скорее по состоянию своего кошелька, чем по своему вкусу. Мне указали на одну солдатку с улицы По: за одно су она давала на ночь приют безработной прислуге. Я нашел там пустую койку и занял ее. Хозяйка была молодая женщина, недавно вышедшая замуж, хотя у нее было уже пять или шесть человек детей. Мы спали все в одной комнате – мать, дети и постояльцы; так было все время, пока я у нее жил. В общем, это была славная женщина, ругавшаяся как извозчик, вечно растрепанная и кое-как одетая, но с добрым сердцем и услужливая; она относилась ко мне дружелюбно и бывала мне даже полезна.
Я провел много дней, предаваясь наслаждению независимости и удовлетворяя свое любопытство. Я бродил по городу и за городом, разыскивал и посещал все места, казавшиеся мне любопытными и новыми, а для молодого человека, только что вылетевшего из своего гнезда и никогда не видавшего столицы, все было любопытно и ново. С особой неукоснительностью бывал я в дворцовой церкви, каждое утро присутствуя на королевской обедне. Мне казалось прекрасным находиться в одной часовне с королем и его свитой; но уже начавшая проявляться страсть к музыке влекла меня туда больше, чем пышность двора, которая, оставаясь всегда одинаковой, очень скоро перестает поражать. В то время у короля Сардинии был лучший в Европе симфонический оркестр: Соми, Дежарден, Безуцци блистали там один за другим. Но молодому человеку, приходившему в восторг при звуках самого простого инструмента, если только он не фальшивил, этого даже и не нужно было. Вообще все это великолепие, поражая мое зрение, вызывало во мне лишь тупое восхищение, без всякой зависти. Единственное, что меня влекло к дворцовому блеску, – это желание посмотреть, не найдется ли там какой-нибудь юной принцессы, достойной моего поклонения, с которой у меня завязался бы роман.
И у меня в самом деле чуть не завязался роман, – правда, в менее блестящем обществе, но, будь он доведен до конца, я почерпнул бы в нем в тысячу раз более восхитительные наслаждения.
Хотя я был очень бережлив, мой кошелек становился все более тощим. Бережливость моя происходила не от благоразумия, а скорей от простоты моих вкусов, которые и до сих пор остались у меня неизменными, несмотря на привычку к роскошным обедам. Я раньше не знал, не знаю и теперь ничего лучше деревенского обеда. Молочными продуктами, яйцами, овощами, сыром, пеклеванным хлебом и сносным вином меня можно всегда хорошо употчевать, мой отличный аппетит довершит остальное, если только дворецкий и лакеи, снующие около меня, не раздражают меня своей назойливостью. Когда-то я обедал за шесть или семь су гораздо лучше, чем обедаю теперь за шесть или семь франков. Итак, я был умерен в пище: ничто не соблазняло меня отступить от этого; пожалуй, я не прав, называя это умеренностью, так как я насыщался с великим сластолюбием. Груши, джунка, сыр, пьемонтский хлеб и несколько стаканов монфератского вина, до того густого, что хоть ломтями режь, делали меня счастливейшим из лакомок. Однако можно было ожидать, что мои двадцать франков скоро иссякнут. Это становилось со дня на день очевиднее, и, несмотря на легкомыслие, свойственное моему возрасту, беспокойство о будущем скоро перешло у меня в настоящий страх. Из всех моих воздушных замков остался только один: надежда найти себе занятие, которое дало бы мне средства к существованию; но и это было не особенно легко осуществить. Я подумал о своем прежнем ремесле; однако я знал его недостаточно, чтобы работать у мастера, да и мастеров-то в ту пору было в Турине не слишком много. Поэтому я решил в ожидании лучшего ходить из лавки в лавку и гравировать монограммы или гербы на посуде, в надежде соблазнить людей дешевизной, предоставляя им платить мне по собственному желанию. Почти всюду я получал отказ, а то, что мне приходилось делать, были такие пустяки, что я с трудом зарабатывал себе на несколько обедов. Но однажды, проходя рано утром по Contra nova, я увидел в окне одного магазина молодую хозяйку, такую миловидную и привлекательную, что, несмотря на свою застенчивость с дамами, не колеблясь, вошел и предложил свой скромный талант к ее услугам. Она не прогнала меня, напротив – усадила, заставила рассказать мою незатейливую историю, пожалела, сказала, что я должен быть мужественным и что добрые христиане меня не оставят; потом, послав к находившемуся по соседству золотых дел мастеру за инструментами, которые были мне нужны, поднялась на кухню и сама принесла мне завтрак. Такое начало показалось мне хорошим предзнаменованием, и то, что последовало, не опровергло его. Она, по-видимому, осталась довольна моей работой, а еще больше моей болтовней, когда я почувствовал себя немного уверенней; она была блистательна и нарядна, и, несмотря на ее ласковый вид, блеск ее внушал мне почтительность. Но ее доброта, радушный прием, участливость и ласковое обращение привели к тому, что я почувствовал себя свободнее. Я заметил, что имею успех, и мне захотелось его увеличить; но, хотя она была итальянкой и слишком хорошенькой, чтобы не быть немного кокетливой, она вместе с тем была так скромна, а я так робок, что трудно было ожидать, чтобы дело скоро наладилось. Нам не дали времени окончить начатое. Тем с бо`льшим очарованием вспоминаются мне краткие мгновения, которые я провел с ней; могу сказать, что в это время я вкусил во всей их новизне самые нежные и чистые наслаждения любви.