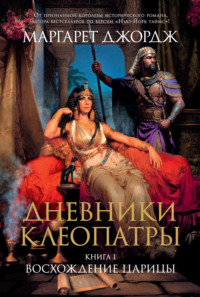Полная версия
Нерон. Родовое проклятие
Клавдий поднял руку и приказал работникам, которых собрали на пристани:
– Разорить и утопить! З-заберите все ценное, затем ув-ведите в центр озера и затопите. – Он наклонился ко мне и взял за руки. – Сенат хочет осудить Калигулу на «проклятие памяти»[4]. Он был с-сумасшедшим и жестоким, я не м-могу позволить кому-то п-публично обесчестить м-моего кровного родственника. Н-но я могу сделать это сам. Его исключат из официальных с-списков, его статуи снесут, имя сотрут с м-монументов. Все с-свидетельства его безумия, р-расточительства и жестокости будут уничтожены. С-сегодня лунное затмение, и Диана не оскорбится: она н-не увидит, что мы с-сделаем.
Мне пришлось напрячь слух, чтобы услышать его слова за громким стуком молотов и треском досок обреченных на смерть кораблей. Работники перебрасывали на берег бронзовые морды, на каждой было закреплено большое кольцо.
Клавдий поднял одну и, прищурившись, на нее посмотрел:
– М-мастерская работа. Х-хочешь такую?
– Нет! – Я даже отшатнулся. – Уничтожь их всех!
– Мы их переплавим.
Клавдий повертел голову кабана в руке, и клык зверя поцарапал ему палец.
* * *На закате разоренные корабли с бульканьем ушли под воду посреди озера. Пузыри, рябь на воде, а потом – тишина.
– Все, м-маленький Луций, их больше нет, – сказал Клавдий, – и т-тебе больше не н-надо бояться воды.
Обратно мы ехали молча, но где-то на полпути нас встретила группа конных преторианцев.
– Он здесь, з-заберите его и п-препроводите в Рим. – Клавдий повернулся к Силану. – Ты под арестом п-по обвинению в заговоре п-против императора. Я ожидал, что ты н-нанесешь удар во время этой поездки, п-поэтому весь день за нами с-следовали мои телохранители. – И он кивнул преторианцам: – Уведите его.
– Я ничего не сделал! – взвизгнул Силан. – Ничего! Я твой верный подданный!
Но Клавдий только грустно на него посмотрел.
– Тогда я скажу! – выкрикнул Силан. – Спроси свою жену! Спроси Мессалину! Она не один месяц меня преследовала, пытаясь затащить в свою постель. Я отказался, и вот ее месть!
– Уведите его, – повторил Клавдий.
Преторианцы спешились, подошли к карете, выволокли Силана и заставили его сесть верхом на лошадь.
– Она шлюха! – не унимался Силан. – И убийца, если готова убить меня за это! За то, что я ей отказал… Я, ее отчим. Она – мразь!
– За клевету на м-мою супругу ты заслуживаешь с-смерти, – сказал Клавдий.
И на моих глазах императорские гвардейцы увезли Силана. Какое-то время я еще слышал его крики, а потом все стихло.
– Луций, на этой р-развилке мы расстанемся, – повернувшись ко мне, дружелюбно сказал Клавдий. – Я вернусь в Рим, а тебя с-сопроводят на виллу к тете. В-вот письмо, которое объяснит, п-почему ты вернулся один.
И он сунул письмо мне в руки.
* * *Вся радость, какую я испытал, глядя, как уходят под воду преследовавшие меня по ночам монстры, исчезла на фоне ужаса, охватившего дом тети. Лепида, прочитав письмо, будто сломалась. Она заголосила, убежала в свою спальню и там, заливаясь слезами, рухнула на пол.
– Силан, Силан… Что он сказал? – спрашивала она, цепляясь за мою руку.
Моя высокочтимая тетя превратилась в скулящее нечто, которое умоляло меня рассказать хоть что-то о случившемся. А я… я не мог толком ей ответить, потому что все произошло слишком быстро.
– Он… он все время кричал, что невиновен.
Это все, что я мог вспомнить.
– Конечно он невиновен! – Тетя усилием воли села и вытерла слезы со щек. – Но кто на него донес? Клавдий пишет о снах, которые видели Мессалина и его вольноотпущенник Нарцисс, и якобы они доказывают измену…
– Силан сказал, что Мессалина хотела ему отомстить… и сделала это таким образом.
– Отомстить? Но за что? Я всегда думала, что он ей нравится.
И тут осмелился подать голос один из сопровождавших меня преторианцев:
– Слишком нравился. Силан сказал, что она пыталась его соблазнить, а получив отказ, пообещала его уничтожить.
– О нет! – Тетя схватилась за голову. – Нет! Не может быть!
* * *Но так оно и было. Вскоре вся история всплыла. Не о соблазнении – это осталось частным делом, которое никто не мог обсуждать. Заговор против Силана основывался на соучастии Мессалины и ее сообщника Нарцисса: то он, то она приходили к Клавдию с жалобами на сны о Силане, который якобы замышлял убить императора. Легковерный Клавдий счел, что их схожие сны служат для него предупреждением о задуманном покушении. На деле же это лишь доказывало, что Мессалина и Нарцисс прекрасные актеры и сообщники.
То, что ими двигало, достойно лишь презрения. Мессалина принесла в жертву собственному тщеславию жизнь человека и сделала свою мать вдовой. Это был мой первый жестокий урок, благодаря которому я понял, на какое зло способны люди, движимые грязными резонами. И я выучил его на всю жизнь. Всегда надо быть настороже. Пусть меня считают жестоким. Лучше быть жестоким, чем мертвым.
* * *Тетя слегла и не вставала с постели несколько дней, а в это время шла подготовка к фиктивному суду. Как-то вечером она послала за мной. Меня проводили в комнату с бюстами, там возле жертвенника с дымящимися углями стояли тетя и какой-то мужчина с закрытым вуалью лицом.
Холодная и неподвижная, тетя сама была почти как статуя. Она умерла и воскресла, обретя новую форму, – теперь я видел перед собой ее бледное подобие или даже пустую оболочку.
– Мы приняли решение спасти Силана, – без выражения сказала тетя. – Есть только один способ. Не секрет, что император верит в вещие сны. Причем даже во сны других людей. Естественно, собственные имеют для него гораздо большее значение. Мы знаем, как прислать ему сон, особый сон, который раскроет правду.
Тут стоявший рядом с тетей мужчина молча кивнул, но она так его и не представила.
– Широко известно, что невинный и незамутненный разум юного создания – лучшее вместилище для снов, – сказал мужчина тихим и мягким голосом, который напомнил мне шорох песка в пустынных долинах. – Поэтому мы и выбрали тебя, Луций. Мы покажем тебе картину, посмотри на нее и хорошенько запомни. А потом вдохни эти испарения.
И он бросил на угли какие-то крупинки или семена – угли зашипели, от них поднялся пар, и в воздухе разлился резкий горький запах.
– Это запечатлит картину в твоих снах. Спокойно иди в свою комнату, ложись и не двигайся до утра. Картина просочится во сны Клавдия, вытеснит все остальные и останется в его разуме.
Все происходящее и так было похоже на сон: просторная, освещенная всего двумя факелами комната с углями в жертвеннике, едва различимые в полумраке бюсты и похожие на призраков люди, которые взяли меня за руки и подвели к жертвеннику.
Мне хотелось закричать: «Нет! Нет! Я не стану этого делать! Не впускайте свою магию в мой мозг!» Но вместо этого я, словно лунатик, прошел весь ритуал: наклонился над углями и вдохнул дым, от которого помутилось в голове; затем посмотрел на картину, где похожий на Силана мужчина отворачивался от Мессалины, а та хватала его за тунику и пыталась затянуть на кровать. Была и вторая картина, на ней Силан, без ножа, совершенно безоружный, стоял на коленях перед Клавдием.
Тетя взяла меня за плечи:
– А теперь я отведу тебя в комнату и уложу в кровать. Лежи тихо и не открывай глаза до самого утра.
Могу сказать, что мне не приснилась ни одна из показанных картин, хотя по прошествии времени они не раз всплывали в моем сознании. Но я надеялся, что благодаря магии тети Лепиды они каким-то образом переместятся в сознание Клавдия.
Вскоре Силана казнили, так что вряд ли это произошло.
VII
Жизнь на вилле тети претерпела изменения, да и как иначе? Мы следовали привычной рутине, а тетя, словно призрак, бродила из комнаты в комнату.
Однажды она крепко прижала меня к себе и прошептала:
– У меня нет детей. Моя дочь мне не дочь. Луций, теперь ты мой единственный сын.
Но больше она никогда этого не повторяла. Мы с Парисом вернулись к нашим занятиям, какие-то были правильными, но большинство – интересными.
Стоит ли говорить, что приглашений из императорского дворца не присылали, и я понимал, что никогда не увижу гонок на колесницах и больше никогда не услышу божественных звуков кифары. Ничего не будет, кроме этой спокойной, однообразной сельской жизни. Солнце будет подниматься и опускаться над полями и лесами, времена года будут перетекать друг в друга, но земля под его лучами не изменится и навсегда останется прежней.
За мной приглядывали гораздо меньше, чем до того «случая» (так мы это называли, чтобы укротить воспоминания и жить дальше). Я мог не только играть со своими колесницами, но и рисовать довольно грубые картинки и лепить из глины кособокие горшочки. Я даже сумел уговорить Париса добыть мне маленькую флейту, чтобы научиться играть простенькие мелодии.
Тишина виллы то усыпляла, то напоминала землю зимой, которая вынашивает то, что вырвется весной наружу. Все это однообразие, покой и рутина служили хорошей почвой для семян, которые проросли и зацвели пышным цветом в моей будущей жизни. Но для этого требовалось время. Спешка вредит творчеству, у творчества должны быть крепкие корни.
* * *Я лежал на полу и рисовал сорванный в саду цветок, который уже начал увядать. Это продлилось недолго – вскоре в коридоре послышались шаги, но я не придал этому значения. Потом я услышал тихие голоса, но тоже не обратил на них внимания, подумав, что какой-нибудь торговец доставил на виллу свой товар.
– Так вот как вы тут с ним обращаетесь! – воскликнул вдруг кто-то на пороге моей комнаты.
Я поднял голову и увидел незнакомую женщину, которая не сводила с меня глаз.
Если скажу, что она занимала весь дверной проем, будет ли это чем-то вроде послезнания? Она не была толстой или даже крупной, но при этом казалась очень внушительной. Я тогда сразу вспомнил об амазонках, про которых мне рассказывал Парис, и подумал: «Вот, значит, какими они были?»
Волосы женщины были забраны назад, только локоны спускались с висков. Нос был прямой, губы изогнутые, но не крупные. Глаза широко поставлены, взгляд пристальный. Женщина смотрела на меня, а я думал, что она очень похожа на Афину.
– Я хорошо о нем забочусь, – сказала тетя Лепида. – Для меня он как родной сын.
– О, значит, ты бы поселила родного сына в комнатушку с жесткой кроватью, одела в тряпье и приставила к нему бездарных учителей? Актера и парикмахера? Как ты можешь так обращаться с внуком Германика и праправнуком божественного Августа?
Моя одежда – тряпье? Никогда не замечал. И Парис был прекрасным наставником, без него моя жизнь стала бы невыносимо скучной.
– Это несправедливо! – воскликнул я. – Я люблю своих учителей, они хорошие. И тетя прекрасно ко мне относится.
– Ха! – рассмеялась странная женщина, но смех ее прозвучал неестественно. – Это потому, что ты не знаешь лучшего. Да и откуда тебе это знать? Ты так мал, что скоро все это забудешь.
И тогда я с грустью подумал, что пусть я мал, но у меня уже есть куча воспоминаний, которые я бы с радостью навсегда забыл: Калигула, корабли, Силан, магия. А теперь еще эта женщина хочет, чтобы я забыл обо всем хорошем, что было в моей жизни.
– И других слов при встрече с ним у тебя не нашлось? – возмущенно спросила тетя. – Ты не заслуживаешь называться матерью!
Мать! О нет! У меня не было матери. Во всяком случае, я ее не знал – то есть знал лишь ее имя и то, что она исчезла. В отличие от моего отца, от нее не осталось праха, который мы захоронили бы в семейной гробнице Домиция. Она была нереальной.
– А ты? Ты – мать шлюхи и убийцы! Боги не позволят, чтобы ты и дальше воспитывала моего любимого Луция. – Женщина наклонилась и посмотрела мне прямо в глаза. – Я твоя мать. Я пришла, чтобы забрать тебя домой.
* * *Так закончилось мое проживание на вилле тети Лепиды – внезапно, как и оборвалась жизнь Силана. Меня увезли, даже не дав попрощаться с Парисом и Кастором. Забрали, как какой-нибудь бездушный предмет, и переместили в новый дом с новой женщиной, которая объявила себя моей матерью и ожидала, что я тоже стану так ее называть.
Новый дом был в Риме, на полпути к холму Палатин и совсем недалеко от императорского дворца. Женщина – Агриппина – без умолку говорила всю дорогу до Рима, но при этом смотрела прямо, так что со стороны могло показаться, будто она беседует не со мной, а сама с собой.
– Ну хоть дом я подыскала. Калигула забрал все наше имущество, даже мебель… и все продал. Обобрал до нитки. Дядя Клавдий был так добр, что все нам возместил, но старый дом, естественно, вернуть не смог. Но у нас все получится. Это лучше, чем проклятый остров, на который меня сослал брат. – Женщина хмыкнула. – Конечно, я могла бы превратить захоронение его пепла в настоящее зрелище, но на деле предпочла бы развеять его над Тибром.
О да, она была сестрой Калигулы. Все это с трудом укладывалось в голове, но даже одно то, что у них была общая кровь, пугало меня до смерти. Вдруг она сорвется и обезумеет, как брат?
Паланкин остановился, нам помогли сойти на землю. Мы стояли перед домом на полпути к вершине холма. У входа росли кипарисы, вокруг простирался регулярный парк. Меня вели к дому, а я смотрел на зависавших над пионами пчел, пока…
– Шевелись! Что ты там забыл? – окликнула женщина.
Мы вошли в залитый светом атриум с блестящим мраморным полом и высоким, облицованным слоновой костью и золотом потолком, в центре которого было огромное, пропускающее солнечный свет окно. Под этим великолепным потолком был небольшой пруд. Я подошел к нему и опустил в воду пальцы. Пруд был мелким, но из-за выложенного голубой мозаикой дна казался довольно глубоким. Я посмотрел наверх, на проплывающие в небе облака, которые были словно продолжением потолка.
– Идем же! – Агриппина взяла меня за руку.
Она потянула меня за собой, прежде чем я успел разглядеть выполненные в желтых, ржаво-красных и синевато-зеленых тонах росписи на стенах. Теперь меня тащили по проходам, которые вели к закрытому, окруженному комнатами саду. В беседке в центре сада сидели работники – увидев нас, они сразу вскочили на ноги.
– Нечем заняться? – спросила их Агриппина. – Уже закончили?
– Нет, – ответил один из работников. – Просто присели перекусить.
– Я вам не за перекусы плачу, – отрезала Агриппина. – Вставайте и принимайтесь за дело.
Она провела меня в комнату по соседству с садом. Комната была маленькой, свет внутрь проникал в основном через дверь в сад, но там стояла довольно крепкая кровать, а еще светильник с масляными лампами, несколько трехногих столов, небольшая кушетка и сундук.
– Ну хоть комнату смогли приготовить, – сказала Агриппина. – Она твоя, Луций.
И тут она присела на корточки и впервые по-настоящему посмотрела мне в глаза. У нее даже голос изменился.
– Я подолгу думала о тебе в изгнании. Ты просто не можешь понять или представить, каково это. Мой единственный ребенок… Нас разлучили, а тебя отдали на милость родственникам. Все это время я не знала, смогу ли когда-нибудь вернуться к тебе и снова быть с тобой. Перечень женщин нашего рода, которых сослали на остров, просто пугает: Юлия – дочь Августа и моя бабка; Юлия Младшая – ее дочь; моя мать Агриппина, в честь которой меня назвали. Я должна была стать следующей, но я здесь, и ты теперь со мной. Больше нас никогда не разлучат, и мы больше никогда не будем зависеть от милости других. Это я тебе обещаю. Честью клянусь. Я все сделаю, чтобы ты был в безопасности, я всегда буду рядом, буду защищать тебя и направлять.
Она не сводила с меня глаз, а глаза у нее были серые, как у Калигулы. По спине пробежали мурашки, и я даже испугался, что она заметит.
– Я твоя, а ты – мой, мы одни против всего мира. Но я больше не позволю взять над собой верх, так что не бойся, малыш, теперь ты можешь спать спокойно.
Она стиснула меня так сильно, что стало трудно дышать. Ее тело было крепким, и я, прижатый к нему, поверил, что оно и правда послужит мне укрытием от всех грядущих бурь.
* * *Дети выносливые, они через многое могут пройти. Какое-то время я скучал по тете Лепиде, но вскоре новая жизнь в Риме захватила меня целиком. Обстановка большого дома, в котором я теперь жил, с каждым днем становилась все богаче. В атриуме и гостиных не покладая рук трудились художники. Работники на мускулистых плечах вносили в дом кушетки с ножками в форме черепашьих лап, столы из мавританского дуба, бронзовые инкрустированные треноги и жаровни. Затем дело дошло до предметов искусства: мраморные скульптуры, бронзовые бюсты, мозаика. Некоторые скульптуры были настолько совершенны, что я подолгу на них смотрел и ждал – вдруг задышат?
– Греки, – как-то сказала мне Агриппина, – ни в чем они особо не преуспели, но их статуи! Тут они действительно непревзойденные мастера. Всегда можно отличить римскую копию от греческого оригинала.
Я нахмурился, и она это, конечно, заметила.
– Если греки хороши только в искусстве, почему ты именно греков выбрала мне в наставники?
Наставников у меня было двое – Аникет и Берилл.
– Что ж, мне следовало сказать, что они хороши только в двух вещах – искусстве и науке.
Двух важнейших вещах в этом мире!
– Агриппина…
– Перестань называть меня Агриппиной, – сказала она. – Я понимаю, мы с тобой в каком-то смысле еще чужие люди, но ты должен называть меня мамой. Если не будешь этого делать, никогда не станешь воспринимать меня как свою мать. Агриппиной меня может называть кто угодно, но матерью – один-единственный человек. Я жду и надеюсь, что он будет так делать.
Она обняла меня и поцеловала в висок.
* * *Время шло, и постепенно большой дом стал казаться мне своим. Я освоился и, если можно так выразиться, пустил корни, даже роскошь приелась и стала для меня обыденностью. Разве не все так живут? Рабы всегда где-то поблизости и всегда готовы выполнить любое распоряжение матери, да и мое тоже; цветы в теплицах не знают смены времен года; пол подогревается снизу, так что мои маленькие ступни не мерзнут, даже когда на изгородях из можжевельника появляется изморозь.
Новые наставники были очень внимательны, но трепетали передо мной, – в общем, с Парисом не сравнить. Аникет – дюжий молодой грек – был вольноотпущенником с широким открытым лицом; смешливый и всегда готовый угодить. Берилл из Палестины был потише и более сдержан. И оба страстно увлекались грековедением.
Однажды Берилл нарисовал большую схему, в которой отразил всех гомеровских персонажей и соединил их линиями – получилось словно паутина.
– Ты должен это увидеть! – сказал мне Аникет.
Он взял меня за руку и отвел в большой атриум. Небо в тот день было безоблачным, и солнечный свет заливал все вокруг.
– Вот! – Берилл остановился напротив одной из больших фресок. – Кто это?
Я посмотрел на очень мускулистого разгневанного мужчину с трезубцем в руке, изображенного на сине-зеленом фоне.
– Нептун.
– Мы говорим о Гомере! – возвысил голос Берилл. – Не следует называть богов римскими именами. Его правильное греческое имя – Посейдон. Посейдон!
– А почему он так зол? – спросил я, не в силах понять: боги всегда на кого-то или на что-то разгневаны?
– Его недовольство вызвала Троя, – пояснил Аникет. – Но рассуждать, чем именно, нам не обязательно. А теперь посмотри сюда – вот она, Троя.
Он подвел меня к следующей фреске: на ней был изображен расположенный на вершине холма огромный город с высокими стенами и башнями. Вокруг до самого моря простирались широкие долины. У берега стояли на якоре корабли, а на суше – шатры, целый город из шатров.
– Эта картина искажает действительность. Кораблей должно быть больше – тысячи! Но конечно же, художник не мог изобразить их все. Да, тысячи кораблей прибыли к Трое, чтобы вступить в сражение с троянцами.
– А зачем? – задал я смыслообразующий вопрос.
– Чтобы вернуть Елену, – ответил Берилл и вздохнул так, будто ему было тяжело представить, что кто-то не в курсе всей этой истории.
– А кто такая Елена? И почему они так сильно хотели ее вернуть? Одного корабля для этого бы не хватило?
– Кто такая Елена? – переспросил Аникет и, улыбнувшись, закрыл глаза. – Елена – воплощенная красота. Она – наши недостижимые желания. Она то, что ты утерял и должен снова найти. Елена – то, чем невозможно обладать.
– В своей витиеватой манере Аникет пытается сказать, что существуют Елена настоящая и та, которая живет в твоем сознании, – пояснил Берилл. – Реальная Елена была царицей Спарты в Греции, и она была замужем за Менелаем из рода Атрея. Она сбежала с троянским принцем Парисом… Или ее похитили? И ее супруг вместе со всеми своими сородичами и подданными отправился в Трою, чтобы ее освободить. Они объявили войну Трое, осада города продлилась десять лет, и по прошествии этих десяти лет Троя пала и была разрушена.
– Совсем? До основания?
Мне не хотелось верить, что прекрасного города, изображенного на фреске, больше не существует.
– Да, – сказал Аникет, – но троянец по имени Эней смог бежать из горящего города. Он вынес на спине своего старого отца и сумел добраться в Италию. Его наследники основали Рим, так что в каком-то смысле Троя хоть и была разрушена, но продолжила свое существование.
Я посмотрел на следующую фреску из той серии. На ней было изображено спасение Елены Менелаем. Он крепко держал ее за запястья, а свой смертоносный меч уронил на землю. И смотрел он не на прекрасные груди Елены, а ей в лицо.
– Она не такая уж и красивая, – заметил я.
И правда, ее лицо было ненамного красивее тех, что мне уже приходилось видеть.
– Ни один художник не в силах запечатлеть ее красоту, – заступился за фреску Аникет. – Это невозможно. Кроме того, автор фрески никогда ее не видел и, стало быть, не мог справиться с этой задачей. Что ему оставалось? Он использовал замену, все, что смог найти.
– А как она на самом деле выглядела?
– Гомер не стал ее описывать, – сказал Берилл. – Он лишь передал чувства тех, кто ее видел. И этого достаточно.
– Знаешь почему? – спросил Аникет, присев рядом со мной, чтобы мы могли смотреть в глаза друг другу. – Так вот послушай, это очень важно. Вся суть в том, что у каждого свое представление о красоте. Любая попытка описать красоту потерпит поражение, потому что ее невозможно описать для всех. У всех красота разная, поэтому Елена – царица в разуме людей. В твоем разуме, в твоем воображении.
– Кроме того, – добавил Берилл, – Гомер и сам ее не видел.
– Куда уж ему было, слепому? – рассмеялся Аникет.
Они уводили меня дальше, а я все оглядывался в надежде хоть мельком увидеть, какая она была на самом деле, но фрески так и не выдали мне этот секрет.
На других стенах были изображены греческие и троянские герои, с которыми я позднее познакомился очень даже неплохо. Ахилл, Агамемнон, Одиссей, Патрокл, Гектор, Приам, Гекуба.
А потом мы подошли к фреске с изображением человека, который разительно отличался от всех героев. На нем были штаны, головной убор наподобие колпака, и он был вооружен луком со стрелами. Последняя фреска в том атриуме.
– А вот Парис, – сказал Аникет. – Первопричина всего!
Здесь, в углу, освещение было более тусклым, и я подошел ближе, чтобы лучше его разглядеть. Лицо благородное; смотрит с городской стены Трои на равнину; натянул тетиву и целится в противника.
– Неудивительно, что Елена с ним сбежала, – заметил я.
– Луций! – возвысил голос обычно сдержанный Берилл. – Парис вовсе не благородный герой. На самом деле он трус.
– Почему?
– Потому что он не сражался на мечах или копьях, как другие. Вместо этого он прятался в укрытиях на стенах и убивал издалека.
– Но если цель войны – уничтожить врага, есть ли разница, каким способом? И разве не разумнее убивать издалека, избегая опасности быть убитым самому?
– Когда-нибудь ты поймешь, – сказал Берилл, – а сейчас ты еще слишком молод.
– А в кого он целится? – спросил я, потому что не видел, куда должна была прилететь стрела Париса.
– В Ахилла, – ответил Аникет. – Ему надо было попасть в единственное уязвимое место великого воина – только так он мог его сразить.
– И он его убил?
– Да.
– Получается, трус убил самого сильного воина греков?
– Да. В жизни такое часто случается. Пусть это послужит тебе уроком.
– А я думаю, что урок таков: быть метким лучником – очень ценное умение, а новые способы добиться цели могут быть лучше старых.
– Ты слишком молод, тебе не понять, – покачал головой Берилл.
VIII
Времена года снова сменили друг друга, и только тогда пришло приглашение из императорского дворца. Это случилось в разгар лета, незадолго до восхода Сириуса, когда жители бегут из Рима в более прохладные области.
– Ну наконец-то, – сказала мать. – Сучка дает мне понять, что мы ниже всех на ее горизонте. Последние гости перед отбытием на императорскую виллу в Байи.