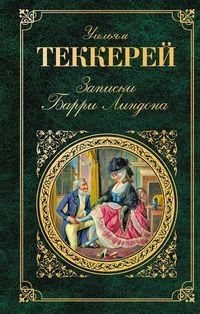Полная версия
Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим

Уильям Теккерей
Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим
William Thackeray
THE MEMOIRS OF BARRY LYNDON, ESQ.
Оформление обложки Татьяны Павловой
© Р. М. Гальперина (наследники), перевод, 1963
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Глава I. Моя родословная и мое семейство. Я одурманен нежной страстью
Так уже повелось с адамовых времен, что, где бы какая ни приключилась напасть, корень зла всегда в женщине. С тех пор как существует наш род (а это и есть почитай что с адамовых веков, столь древен, и славен, и знатен наш дом, как всякому известно), женщины оказывали на его судьбы поистине роковое влияние.
Мне думается, в Европе не сыскать дворянина, который не был бы наслышан о доме Барри из Барриога в Ирландском королевстве, а уж более прославленного имени не найти ни у Гвиллима[1], ни у д’Озье[2]; и хотя, как человек бывалый, я знаю цену нелепым притязаниям иных выскочек, чье родословье короче воробьиного носа, и первым готов смеяться над самохвальством иных моих соотечественников, кои объявляют себя потомками ирландских королей и о вотчине, где впору прокормиться разве что свинье, рассуждают, точно это княжеское поместье, – а все же из уважения к истине долгом считаю сказать, что род мой был самый знатный на всем острове, если не в целом мире, и что его владения, ныне столь ничтожные – так как львиную долю их отторгли у нас войны, предательство, преступная мешкотность и расточительство предков, а также их приверженность к старой вере и династии, – были некогда необозримы и охватывали многие графства во времена, когда Ирландия была еще благоденствующей страной. И я по праву увенчал бы свой фамильный герб ирландской короной, когда бы множество пустоголовых выскочек не унизили это высокое отличие, присвоив его себе.
Кабы не женщина, смею вас уверить, я ныне и сам бы носил эту корону. Вы, кажется, удивлены? А между тем что может быть проще! Найдись отважный военачальник, который возглавил бы рать моих соотечественников, на место скулящих трусов, склонивших выю перед Ричардом Вторым[3], ирландцы были бы сейчас свободными людьми; найдись решительный вождь, который дал бы отпор кровавому насильнику Оливеру Кромвелю[4], мы бы навеки разделались с англичанами. Но ни один Барри не встретил узурпатора на поле брани; напротив, мой предок Саймон де Барри перебежал к первому из названных монархов и женился на дочери мюнстерского короля, сыновей которого он безжалостно зарубил в бою.
Во времена же Оливера наша звезда закатилась, и ни один Барри не мог уже кликнуть клич против кровавого пивовара[5]. Мы не были больше владетельными князьями, наш злосчастный род еще за век до этого утратил фамильное достояние вследствие гнусной измены. Я доподлинно это знаю, так как не раз слышал от матушки, она даже запечатлела этот эпизод в домотканой родословной из узорчатой шерсти, висевшей на стене нашей желтой гостиной в Барривилле.
То самое ирландское поместье, на которое ныне притязают англичане Линдоны, было некогда нашей родовой вотчиной. Рори Барри из Барриога владел им еще при Елизавете, а также доброй половиной Мюнстера в придачу. Род Барри и род О’Мэхони исстари враждовали между собой, и вот случилось, что некий английский полководец проходил через владения Барри с вооруженным отрядом в тот самый день, когда О’Мэхони вторглись в наши земли и захватили богатую добычу, угнав наши отары и стада.
Сей молодой англичанин по имени Роджер Линдон, Линден, или Линдейн, был принят семейством Барри со всем радушием, а так как они как раз собирались вторгнуться в земли О’Мэхони, он охотно пришел им на помощь со своими копейщиками и выказал такую доблесть, что О’Мэхони потерпели непоправимый урон, тогда как Барри не только вернули свое достояние, но, по свидетельству старинной хроники, захватили у неприятеля вдвое больше добра и скота.
Наступали холода, и гостеприимные хозяева упросили молодого воина у них перезимовать, а людей его расквартировали по хижинам вместе со своими висельниками – по солдату на каждого холопа. Англичане, как им свойственно, издевались над ирландцами, вследствие чего драки и убийства не утихали, и местные жители поклялись разделаться с чужаками.
Барри-сын (от коего я веду свой род) не меньше ненавидел англичан, чем любой селянин в его поместьях, и, когда на предложение убраться восвояси англичане ответили отказом, он сговорился с друзьями вырезать их всех до одного.
И надо же было заговорщикам посвятить в свои планы женщину, наследницу Родерика Барри! Она же, питая склонность к англичанину Линдону, выдала ему сию тайну, и проклятый англичанин, упреждая заслуженное возмездие, сам напал на ирландцев, и в свалке был убит Фодриг Барри, мой предок, а также сотни его людей. Камень на перекрестке Барри-Кросс у Карригнадихиоула еще и сегодня указывает место, где произошло это чудовищное кровопролитие.
Линдон взял в жены дочь Родерика Барри и стал подбираться к его поместью; и хотя живы были прямые потомки Фодрига Барри, чему я живое доказательство[6], английский суд присудил поместье англичанину, как это всегда бывает, когда тягаются англичане и ирландцы.
Итак, если бы не женская слабость, я по праву рожденья владел бы поместьем, которое досталось мне потом единственно в силу моих заслуг, как вы со временем услышите. Но вернемся к моей семейной хронике.
Батюшка был хорошо известен в избранных кругах как Английского, так и Ирландского королевства под прозванием Лихой Гарри Барри. Как и многие отпрыски наших лучших фамилий, он готовился к карьере адвоката и был приписан к конторе видного стряпчего в Дублине, на Сэквилл-стрит; при своем уме и способностях он, несомненно, преуспел бы на этом поприще, когда бы его светские таланты, его пристрастие к мужским потехам, а также исключительные личные достоинства не предначертали ему другую карьеру. Еще будучи писцом стряпчего, он содержал семь скаковых лошадей, и ни одна охота в поместьях Килдеров и Уиклоу не обходилась без него; это он на своем сером жеребце Эндимионе оспаривал первенство у капитана Пантера на знаменитых скачках, о коих любители вспоминают и по сей день; я заказал живописцу картину, увековечивающую это событие, и повесил ее над камином в парадной столовой замка Линдон. Год спустя он на том же Эндимионе скакал в присутствии его величества блаженной памяти Георга Второго и был удостоен кубка, а также августейшей похвалы.
Хоть батюшка и был вторым сыном, он без больших хлопот унаследовал фамильное достояние (ныне сведенное к жалкой ренте в четыреста фунтов); ибо старший сын деда Корнелий Барри (прозванный шевалье Борнь[7], вследствие увечья, полученного в Германии) остался верен старой религии, к коей искони прилежало наше семейство, и с честью сражался не только под чужими знаменами, но и против его святейшего величества Георга Второго, участвуя в злополучном Шотландском восстании 45-го года[8]. В дальнейшем мы не раз встретимся с помянутым шевалье.
Что до батюшкиного обращения, то этим счастливым событием я обязан моей дорогой матушке мисс Белл Брейди, дочери Юлайсеса Брейди в графстве Керри, эсквайра и мирового судьи. Мисс Белл слыла в Дублине первой красавицей и щеголихой. Увидев ее в собрании, батюшка влюбился без памяти, но она и слышать не хотела о католике да вдобавок писце стряпчего; и вот, подстрекаемый любовью, драгоценный батюшка, воспользовавшись законами доброго старого времени, попросту присвоил себе права старшего брата, отняв у него родовое имение. Но не только ясные девичьи глаза совершили это чудо; несколько джентльменов из лучшего общества также способствовали сей благотворной перемене, я не раз слышал, как матушка рассказывала, смеясь, о торжественном отречении, состоявшемся в трактире за доброй выпивкой в присутствии сэра Дика Рингвуда, лорда Бэгвига, капитана Пантера и двух-трех юных повес из местной знати. Лихой Гарри в тот вечер выиграл в фараон триста гиней, а наутро дал требуемые показания против брата; жаль только, что батюшкино обращение посеяло холодок между кровными родственниками и даже побудило дядюшку Корни примкнуть к бунтовщикам.
Как только досадное препятствие было устранено, милорд Бэгвиг предоставил батюшке свою яхту; и красотка Белл Брейди, сдавшись на уговоры, бежала с ним в Англию, обманув надежды стариков-родителей, а также несчастных обожателей – а были это все богач к богачу (как я тысячу раз слышал от нее самой), и они так и ходили за ней толпами!
Свадьбу сыграли во дворце Савой. Дед вскоре умер, и Гарри Барри, войдя в права наследства, с честью поддерживал в Лондоне славу нашего имени. Это он продырявил шпагой знаменитого графа Тирселина на пустоши позади Монтегю-хауса. Он был завсегдатаем «Уайта» и всех шоколадных лавок столицы; матушка, надо отдать ей должное, была ему достойной парой. И вот наконец, после славной Ньюмаркетской победы, одержанной на глазах у его святейшего величества, счастье улыбнулось Гарри Барри: милостивый монарх обещал о нем позаботиться. Но – увы! – его предупредил другой монарх, чья воля не знает отказа и не терпит отлагательства: смерть настигла батюшку на Честерских скачках. Он умер в одночасье, оставив меня беспомощным сиротой. Мир праху его! Были у него свои недостатки; это батюшка промотал наше княжеское достояние, но зато в храбрости он не уступал ни одному человеку, когда-либо поднимавшему заздравную чашу или объявлявшему очко, играя в кости, и он выезжал в карете цугом, как светский кавалер, ни в чем не отступающий от моды.
Не знаю, оплакал ли милостивый монарх внезапную кончину моего отца – по словам матушки, он все же уронил королевскую слезинку, – но нам это мало помогло. Единственное, что осталось в доме во утешение вдове и кредиторам, был кошель с девяноста гинеями, и матушка, разумеется, прибрала его к сторонке вместе с фамильным серебром и своим и мужниным гардеробом. Погрузив эти пожитки в наш рыдван, она отправилась в Холихед, где и села на судно, отплывающее в Ирландию. Останки батюшки сопровождали нас на самом пышном катафалке с самыми пышными перьями, какие можно было достать за деньги; ибо, хоть супруги частенько ссорились, смерть батюшки все искупила для этой женщины с пылким и благородным сердцем, и она устроила ему невиданно пышные похороны и воздвигла над его прахом памятник (спустя много лет мне пришлось за него уплатить), на коем он был назван самым мудрым, беспорочным и любящим из супругов.
Отдавая печальный долг усопшему, вдова поистратила чуть ли не последнюю гинею и истратила бы несравненно больше, если бы выполнила хотя бы треть обязательств, налагаемых подобной церемонией. Однако соседи по Барриогу – усадьба, где стоял наш старый дом, – хоть и гневались на отца за отступничество, но не отвернулись от него в эту печальную минуту: плакальщики, кои, по настоянию лорда Пламера, сопровождали драгоценные останки от самого Лондона, в сущности, оказались не у дел. Итак, памятник и склеп в церковном подвале – вот и все, что осталось от моих обширных владений; ибо всю нашу мебель до последнего стула отец продал некоему стряпчему Нотли и в покосившемся мрачном доме ожидали нас только голые стены[9].
Эти пышные похороны завоевали матушке репутацию женщины светской и независимой, и когда она написала своему брату Майклу Брейди, сей достойный джентльмен, нимало не медля, прибыл издалека, чтобы обнять ее и пригласить от имени своей супруги в замок Брейди.
Еще в пору батюшкиного жениховства дядюшка Мик и Барри повздорили, как это бывает между мужчинами, и дело у них дошло до крупной размолвки. Когда Барри увез его сестру, Брейди поклялся, что в жизни не простит беглецов; но, приехав в сорок шестом году в Лондон, он снова сдружился с Лихим Гарри, гостил у него в его нарядном доме на Кларджес-стрит, проиграл ему десяток гиней, разбил при его содействии головы двум-трем ночным сторожам, – эти дорогие воспоминания заронили в сердце добряка особую нежность к Белл и ее сыну, и он принял их с распростертыми объятиями. Миссис Барри поступила бы, возможно, разумнее, если бы сразу открыла родным свои печальные обстоятельства; но, прибыв в раззолоченной коляске, украшенной огромными гербами, она произвела на невестку и на прочих жителей графства впечатление богатой и влиятельной особы.
Некоторое время миссис Барри, как и должно, заворачивала всем в замке Брейди. Она командовала слугами и преподала им не один урок лондонской опрятности, в чем они, кстати, весьма нуждались. Что же до «Редмонда-англичанина», как меня здесь называли, то со мной носились как с маленьким лордом; ко мне были приставлены особый лакей и нянька, и честный Мик исправно платил им жалованье, чем отнюдь не баловал собственных слуг, – словом, из кожи лез, чтобы утешить сестру в ее горе. Матушка, со своей стороны, обещала назначить любезному братцу изрядную сумму на свое и сына содержание, как только ее дела будут приведены в порядок. Она также намеревалась перевезти свои щегольские мебели с Кларджес-стрит в замок Брейди, чтобы украсить его покои, имевшие весьма заброшенный вид.
Вскоре, однако, выяснилось, что негодяй-домохозяин захватил каждый стол и стул, на какие по праву рассчитывала вдова. Имение, которое мне предстояло унаследовать, прибрали к рукам алчные кредиторы, и единственным источником существования вдовы и ребенка была рента в пятьдесят фунтов, выплачиваемая нам лордом Бэгвигом, которого связывали с покойным какие-то дела по скаковым конюшням. Похвальные намерения матушки отблагодарить брата так и пропали втуне.
Едва лишь открылось, как бедна золовка, миссис Брейди из замка Брейди, не к чести ей будь сказано, перестала заискивать в маменьке, как неизменно делала до сей поры, прогнала со двора лакея и няньку и объявила миссис Барри, что та вольна последовать за ними, как только ей будет благоугодно. Миссис Мик была особой низкого происхождения и соответственного образа мыслей; и вдова, по истечении двух-трех лет (за каковое время ей удалось сберечь почти весь свой небольшой доход), согласилась выполнить желание миссис Брейди, а заодно поклялась, давая волю справедливому и лишь до поры до времени мудро сдерживаемому гневу, что не переступит порог замка Брейди, доколе жива его хозяйка.
Новое свое жилище матушка обставила с примерной бережливостью и отменным вкусом, и никогда она, невзирая на бедность, не теряла чувства собственного достоинства и уважения всей округи. Да и как можно было не уважать даму, жившую в Лондоне, вхожую в самое изысканное общество столицы и представленную ко двору (как она торжественно уверяла)! Эти преимущества давали ей право, коим, на мой взгляд, злоупотребляют иные уроженцы Ирландии, удостоенные этой великой чести, – право с презрением глядеть на тех, кто никогда не выезжал за пределы своей отчизны и не живал в Англии. Стоило миссис Брейди показаться в новом туалете, и ее золовка неизменно говаривала: «Бедняжка! Какое у нее может быть представление о настоящем шике!» И хоть ей и льстило, что ее зовут хорошенькой вдовушкой, еще больше дорожила она прозваньем английской вдовы.
Впрочем, миссис Брейди не оставалась у нее в долгу: она уверяла, будто покойный Барри был нищий и банкрот; высший свет он якобы видел только из-за приставного стола в доме лорда Бэгвига, в чьих блюдолизах и льстецах неизменно обретался. Что же до миссис Барри, то тут госпожа замка Брейди вдавалась в намеки и вовсе оскорбительные. Но стоит ли ворошить старые наветы и повторять сплетни вековой давности? Названные лица жили и враждовали меж собой еще в царствование Георга Второго; добрые или злые, красивые или безобразные, богатые или бедные – все они ныне сравнялись, и разве воскресные газеты и судебная хроника не поставляют нам еженедельно куда более свежую и пряную пищу для пересудов?
Но что бы там ни было раньше, никто не станет отрицать, что, удалившись от света после смерти мужа, миссис Барри жила схимницей и даже тень подозрения не смела ее коснуться. И если Белл Брейди была когда-то самой отчаянной кокеткой во всем Уэксфордском графстве и если добрая половина местных кавалеров лежала у ее ног и каждого она умела обласкать и обнадежить, то Белл Барри вела себя со сдержанным достоинством, граничившим с чопорностью, была сурова и недоступна, что твоя квакерша. Немало женихов, плененных чарами девы, возобновили свои предложения вдове; но миссис Барри отвергла всех искателей, клянясь, что намерена жить только ради сына и памяти почившего праведника.
– Нечего сказать, праведник! – негодовала зловредная миссис Брейди. – Такого греховодника, как Гарри Барри, свет не видывал. Да и кто же не знает, что они с Белл жили как кошка с собакой? Если она отказывается выходить замуж, то, уж верно, у нее другой на примете, она, поди, спит и видит, чтобы лорд Бэгвиг овдовел.
Ну а хоть бы и так, что в том дурного, скажите! Неужто вдова Барри не достойна руки любого английского лорда? И разве не живет у нас в семье предание, что женщине суждено восстановить богатство и могущество рода Барри? Если матушка и вообразила себя этой женщиной, думается, у нее были на то веские основания; граф (мой крестный) всегда был необычайно к ней внимателен; я и не подозревал, как крепко засела у нее мысль способствовать таким образом моему преуспеянию в свете, пока в пятьдесят седьмом году его сиятельство не обвенчался с мисс Голдмор, дочерью богатейшего индийского набоба.
Тем временем мы по-прежнему обитали в Барривилле и при наших скудных средствах жили, можно сказать, на барскую ногу. Из тех пяти-шести семейств, что составляли общество Брейдитауна, никто не одевался лучше бедной вдовы; матушка так и не сняла траур по своему почившему супругу, однако тщательно следила, чтобы наряды как можно лучше оттеняли ее природную красоту, и по меньшей мере шесть часов в сутки отдавала на то, чтобы перекраивать, перешивать и отделывать их по последней моде. Она носила самые широкие кринолины и самую изящную фалбалу и ежемесячно получала из Лондона письма (с печатью лорда Бэгвига) с сообщениями о новинках столичной моды. Цвет лица у нее был столь свежий, что она не нуждалась в румянах, бывших тогда в большом употреблении. Пусть белое остается белым, а розовое – розовым, говорила она мадам Брейди, чей желтый цвет лица не поддавался никакой штукатурке, – судите же, читатель, как обе женщины ненавидели друг друга! Словом, она была так бесподобно хороша, что дамы по всей округе только и мечтали на нее походить, а молодые люди приезжали за десять миль в церковь замка Брейди поглядеть на нее.
Но если (как и всякая женщина, известная мне лично или по книгам) матушка гордилась своей красотой, то, надо отдать ей должное, не меньше гордилась она сыном и тысячу раз повторяла мне, что другого такого красавчика поискать надо. Разумеется, это дело вкуса. Но когда человеку перевалило за шесть десятков, он может без пристрастия говорить о себе, четырнадцатилетнем, и смею вас уверить, матушка была недалека от истины в своем лестном мнении. Добрая душа любила наряжать меня: в праздники и по воскресеньям я выходил одетый в бархатный кафтанец, на боку меч с серебряным эфесом, золотая подвязка пониже колена – ни дать ни взять молодой лорд. Матушка расшила для меня несколько изящных камзолов, и не было у меня недостатка ни в кружевах для манжет, ни в свежих лентах для волос, и, когда мы в воскресенье приходили в церковь, даже завидущая миссис Брейди признавала, что более красивой пары не найти во всем королевстве.
В этих случаях госпожа замка Брейди вознаграждала себя язвительными замечаниями по адресу некоего Тима, моего так называемого камердинера: он провожал нас с матушкой в церковь, неся пухлый молитвенник и трость, одетый в ливрею одного из наших выездных лакеев с Кларджес-стрит, в которой, по причине кривых ног, выглядел весьма неавантажно. Но при всей своей бедности мы слишком гордились дворянским званием, чтобы, испугавшись чьих-то колкостей, поступиться преимуществами своего ранга, и, шествуя по среднему проходу к нашей скамье, ступали чинно и величественно, точно сама супруга лорда-лейтенанта[10] с наследником. Усевшись на место, матушка отвечала на обычные вопросы священника так громко и с таким достоинством возглашала «аминь», что любо было слушать, а когда она пела псалмы своим сильным звучным голосом, поставленным в Лондоне наимоднейшим учителем, то заглушала пение и тех немногих прихожан, которые решались к ней присоединиться. Да и вообще у матушки было до пропасти разнообразных талантов – недаром она считала себя самой красивой, самой одаренной и добродетельной женщиной на свете. Часто-часто в разговоре со мной и соседями она толковала нам о своем смирении и благочестии – да так истово, что даже упрямый скептик вынужден был бы с ней согласиться.
Переехав из замка Брейди в местечко Брейдитаун, мы поселились в весьма неказистом домишке. Однако матушка, не смущаясь этим, окрестила его Барривилль, и мы не жалели усилий, чтобы придать ему побольше блеску. Я уже упоминал о родословной, висевшей в гостиной, которую маменька нарекла желтым салоном, тогда как моя комната называлась розовой спальней, а матушкина – палевой (я словно вижу их перед собой!). К обеду Тим звонил в большой колокол, перед каждым из нас ставили по серебряному кубку, и матушка с правом говорила, что рядом с моим прибором стоит бутылка кларета, которой не побрезговал бы и сквайр. Так оно и было на самом деле, но только по младости лет мне не разрешалось его отведать: вино помаленьку старилось в графинчике и со временем достигло преклонных лег.
Дядюшка Брейди самолично убедился в этом, когда как-то (невзирая на семейную ссору) явился к нам в Барривилль к обеду и неосмотрительно приложился к графину. Надо было видеть, как он плевался и какие корчил гримасы! А ведь этому честному джентльмену было решительно все равно, что пить и в какой компании. Он ни с кем не гнушался пропустить стаканчик, будь то пастор или поп; последнее – к крайнему негодованию матушки: как истая синяя нассауитка[11], она презирала приверженцев старой веры и считала невместным находиться под одной крышей с заблудшим папистом. Что до сквайра, то он не знал таких предубеждений; это был самый покладистый, самый добродушный и ленивый человек, когда-либо живший на свете; спасаясь от своей миссис Брейди, он немало часов проводил у одинокой вдовы. Меня он, по его словам, полюбил как сына, и маменька, крепившаяся несколько лет, не устояла и разрешила мне воротиться в замок, хотя сама она осталась безоговорочно верна клятве, данной в пику невестке.
В первый же день моего возвращения в замок Брейди и начались, собственно, мои невзгоды. Мастер Мик, мой кузен, девятнадцатилетний верзила, ненавидевший меня от всей души (правда, я платил ему тою же монетой), потешался за столом над бедностью моей матушки, поощряемый хихиканьем всей женской части дома. Когда мы удалились на конюшню, где Мик имел обыкновение выкуривать свою послеобеденную трубку, я, разумеется, не стал молчать, и между нами завязалась драка на добрых десять минут; я отчаянно сопротивлялся и даже поставил ему фонарь под левый глаз, а ведь мне было всего-то двенадцать лет. Конечно, и Мик вздул меня как следует, но побои обычно не производят большого впечатления в столь нежном возрасте, как я и до того не раз убеждался в многочисленных стычках с деревенскими оборвышами, с которыми уже и тогда расправлялся весьма успешно. Услышав о моей отваге, дядюшка выразил живейшее удовольствие, а кузина Нора приложила мне к носу оберточную бумагу, смоченную в уксусе. Домой в этот вечер я шел, подкрепившись пинтой кларету и чувствуя себя героем: шутка ли сказать – я целых десять минут не поддавался Мику.
И хоть любезный братец не изменил своего дурного обращения и не пропускал случая меня отдубасить, это не мешало мне с великим удовольствием проводить время в замке Брейди, пользуясь покровительством моих кузин – по крайней мере, некоторых – и добротою дядюшки, всячески меня баловавшего. Он подарил мне жеребенка, стал приучать к верховой езде, брал с собой на охоту, показывал, как ставить силки и капканы, как бить птицу влет. А со временем я даже избавился от преследований Мика. Из колледжа Святой Троицы воротился мастер Улик, ненавидевший старшего братца, как это нередко бывает в привилегированных семьях, и взял меня под свое покровительство. А поскольку Улик был выше ростом и сильнее Мика, я, Редмонд-англичанин, как меня называли, чувствовал себя в безопасности, за исключением, впрочем, тех случаев, когда Улику самому приходило в голову меня отодрать, что он и делал всякий раз, как находил нужным.
Не оставалось в небрежении и мое светское воспитание. Обладая от природы разносторонними способностями, я вскоре оставил за флагом большинство своих учителей. У меня был верный слух и приятный голос, и матушка не жалела стараний, чтобы развить их; она же учила меня торжественно и грациозно выступать в менуэте, заложив этим основу моих будущих успехов в жизни. Более вульгарным танцам я учился (хоть и не стоило бы в том сознаваться) в лакейской, где всегда найдется кто-нибудь умеющий наигрывать на волынке, и вскоре никто не мог меня превзойти в матросском танце и джиге.