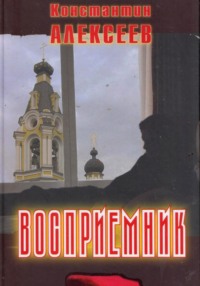Полная версия
Чужой
Кто-то брался за ум, а кто-то продолжал шаромыжничать, сев на шею жене. Как тот же Сивый, отец моего одноклассника Жеки Падунца. Его сынку тогда шел всего тринадцатый, но он успел нахвататься от своего папаши и его дружков зэковских замашек. Собрал вокруг себя еще троих пацанов, отпрысков таких же отпетых урок-алкашей, и подбивал их на всякие пакости, а себя, прикинь, заставлял величать не иначе как Ханом – в честь «смотрящего»4 местной зоны.
Вот этот самозваный малолетний Хан и решил терроризировать нас, детей конвойников. И так получилось, что в нашем пятом классе из таковых оказался один я. Короче, начали ко мне эти четверо докапываться. Вначале потребовали ежедневной дани – двадцати копеек, что на завтрак родители давали. Когда же я послал их куда подальше, то налетели всей кодлой. Тогда меня спасла завуч, заглянув на шум в наш мальчишеский туалет. Следом примчалась матушка и даже пыталась отчитать Падунца с дружками, но… Маман хоть и достаточно пожила к тому времени в здешних местах, но так и не избавилась от своей непроходимой интеллигентности. И вместо того чтобы пригрозить этим уродцам, пыталась взывать к их совести, так и не поняв, что это понятие отсутствует у подобных особей на генетическом уровне, как хвост у макаки. Так что стоит ли удивляться, что через несколько дней они вновь накостыляли мне, и куда хлеще.
На этот раз они подловили меня по дороге домой, в глухом проулке. Я не помнил, сколько раз меня сшибали с ног, пиная, как мяч, под злорадные выкрики Жеки:
– А ну еще разок наподдай! Пусть знает, ментеныш!
Знаешь, тогда мне впервые захотелось умереть. Сдохнуть в неполные двенадцать лет. Чтобы никогда не чувствовать того, что испытал в тот день! Это было сродни тому, как если бы ты рухнул в пропасть. И у тебя только одно желание – скорее долететь до дна, чтобы страх и муки разом оборвались!
В таком состоянии и обнаружила меня мать, придя с работы. Она, естественно, дико перепугалась и потащила меня в батальонную санчасть. Туда же следом явился и батя. Правда, на мой побитый вид отреагировал не особо, а потом, дождавшись, пока дежурный врач-старлей обработает мои синяки и ссадины, увел к себе в роту. И там, закрывшись в канцелярии, начал выяснять, кто и за что так не по-детски отметелил меня.
– Значит, говоришь, ментенышем тебя обзывали? – поинтересовался он. – Ну-ну…
– Угу. А еще он говорил, что ему ничего не будет, потому что ему двенадцать всего, таких не сажают…
– В том-то и дело, что не посадят, – все так же странно глядя на меня, согласился отец. – Ну, и чего ты думаешь делать? По-прежнему голову подставлять под их тумаки или дань платить, чтобы лишний раз не трогали?
– А чего я могу против четверых?
– Против четверых – ничего. А вот с каждым поодиночке – сможешь. Они же все задохлики. Вон тот же Жека с семи лет курит как паровоз, а может, уже и в бутылку не раз заглянул. Ты его куда сильнее будешь. Вот и отлови этого говнюка и врежь ему. И как следует, а не до первой крови! Иначе они тебя зачморят, как тряпку!
Батя говорил со мной еще долго и добился своего: к концу нашего разговора я уже так ненавидел Хана и так мечтал порвать его, что не мог дождаться завтрашнего дня. И даже во сне я то и дело видел, как глушу этого зэчьего ублюдка то колом, то кочергой от нашей печки, а он, сволочь, все не подыхает и не подыхает…
А назавтра, на первом же уроке, дождавшись, когда Падунец отпросится в туалет, а на самом деле покурить, я, выждав для приличия пару минут, тоже попросил разрешения выйти. Классная хоть и с неудовольствием, но отпустила. И я тут же стремглав ринулся в уборную, где жадно смолил «беломорину» вчерашний обидчик.
Он даже не успел поднять на меня глаза, когда на его голову обрушилась швабра – первое, что попалось мне на глаза, когда я вбежал в сортир. Не помню, сколько времени лупил его со всей дури. Очухался, лишь когда меня схватили и вырвали из моих рук обломок палки – все, что к тому времени осталось от «лентяйки». Жека сидел на полу с залитой кровью башкой, а рядом кипятилась наша уборщица тетя Катя:
– Что ж вы делаете, ироды?!
Туалет мигом заполнился людьми. Классная что-то гневно кричала мне в лицо, возле поверженного Хана суетилась медсестра. Потом появилась завуч, следом прибежала мать… Затем всем скопом меня долго песочили в директорском кабинете, кричали, чем-то грозили. А матушка плакала еще сильнее, чем вчера, когда увидела мою разбитую физиономию.
В избушке, где квартировало наше семейство, продолжилось то же самое. Мама, заламывая руки, костерила меня на все лады. А когда вечером вернулся со службы отец, весь ее гнев переключился на него.
– Это все ты! – кричала она. – Ты его с пеленок драться учил!
– Учил, – невозмутимо парировал батя. – И что?
– Так полюбуйся! Мне фельдшер сказала, что наш этому Жене нос сломал!
– Бывает, не рассчитал, – с фальшивым сожалением качал головой отец, пряча усмешку.
– Посмотрите, весело ему! – всплеснула руками мать. – Ты его кем хочешь вырастить, бандитом?!
– Нет, всего лишь мужиком.
– Мужиком – это, по-твоему, людей калечить?
– Мужиком – это значит уметь за себя постоять. Или ты забыла, как его вчера эти сопляки измордовали?
– Не забыла! Я сегодня сама хотела после работы с родителями этих мальчишек поговорить…
При последних словах матери стало смешно даже мне: поговорить что с предками Хана, что с родаками его дружков было довольно трудно. Хотя бы потому, что они почти не бывали трезвыми.
– А уж это позволь мне взять на себя, – решительно оборвал маму отец и начал не спеша переоблачаться из форменного бушлата в телогрейку, попутно приказав мне одеваться.
– Куда вы? – насторожилась матушка.
– К родителям. Ты ж сама говорила, что надо бы с ними пообщаться…
Сперва я подумал, что мы и вправду пойдем домой к Хану, но батя споро зашагал в сторону сельмага, где по вечерам собирались местные забулдыги.
Привычная стайка из нескольких мужиков обнаружилась за магазином. Не доходя до них шагов десяти, отец вгляделся в темноту и властно скомандовал:
– Сивый! А ну ходь сюда!
– Это че еще за хрен… – от компании отделилась долговязая фигура. – Ха, гражданин начальник, ты? – настороженный тон Жекиного папаши сменился презрительно-насмешливым. – Аж не признал сперва! За каким прикочумал? – уголовник говорил, вязко растягивая слова, словно пускал слюну.
– Ща узнаешь.
Отец ударил коротко, без замаха. Сивый полетел на землю, но тут же вскочил, яростно хрипя:
– Ты че творишь, вертухай?..
Новый удар, на этот раз кованого офицерского сапога, не дал ему договорить. Трое собутыльников рыпнулись было на помощь, но отец, отступив назад, выдернул левую руку из кармана, на которой оказался намотан солдатский ремень с увесистой пряжкой:
– Не дергаться, падлы!
А затем, вернувшись к Сивому, вновь саданул ему под ребра.
Я в ужасе смотрел, как папаня жестоко, страшно избивает человека. Мне казалось, он хочет не просто отметелить его, а втоптать в землю. Время от времени мой родитель приподнимал его за ворот, что-то говорил – и вновь мордовал, цедя что-то сквозь зубы. Наконец, когда в последний раз он поднял Жекиного папашу и поставил на колени, удерживая за волосы, я расслышал:
– Ну, ты все понял? Понял, кто ты есть по жизни?!
– Понял… – придушенно прохрипел Сивый.
– И кто? Только громче, чтобы все слышали! Ну!
– Чушкарь… Падаль парашная5… – неживым голосом выдавил из себя отец Хана.
– То-то! И знай свое место, мразь!
Отец швырнул Сивого на землю, показательно вытер об него сапоги – и неспешно двинулся прочь, подхватив меня за руку.
Потом мы сидели на пустыре за нашим домом. Я все еще был в шоке от увиденного, а батя… Нет, он не успокаивал меня. Просто говорил со мной наравне, как со взрослым, объясняя, что такая вот шушера, подобная Жекиному папаше, понимает только силу. И если не ты, то тебя. Третьего не дано.
6
– Вот так, а ты говоришь, всю жизнь в масле катался, – завершил свое повествование Нэсс.
Нет, Серый хоть и изменился до неузнаваемости, но ничуть не утратил дара рассказчика. Казалось, я только что не выслушал историю, а просмотрел ее на экране, так явственно представились мне все описанные сцены: драка в школьном туалете, избиение уголовника за сельмагом…
– И чем все это закончилось? – опомнившись, поинтересовался я.
– Для кого? Если для меня, то грозились исключить из пионеров, вызвать на совет дружины, но потом как-то все затихло. Эти гопники тоже отстали: Жека, чтобы не позориться, начал лепить отмазки, что, типа, я чокнутый, могу убить и ничего мне за это не будет. Даже клялся своим дружкам, будто видел справку, где написано, что Вознесенский особо опасный псих. Но, думаю, дело было не только в том, что Падунец огреб от меня. Просто еще сыновья батиных сослуживцев, которые были постарше, в свою очередь, жестко поговорили со всей этой шоблой из зековских детишек, и те притихли.
А вот для отца все вышло боком. Он же будущим летом должен был ехать в Москву, в академию! Мать дождаться не могла, когда мы выберемся и забудем, как страшный сон, эту тайгу с зоной, а тут на тебе! Сейчас бы, конечно, батю вообще за подобное выгнали со службы, а то и посадили! А тогда все кончилось выговором и крестом на будущей учебе. И это при том, что Сивый официально не жаловался – это по их понятиям считалось западло. Но тем не менее до начальства дошло все, что произошло тем вечером на задворках магазина. И не только до комбата, но и до дивизии, которая была за сотню километров! В общем, учеба и дальнейшая карьера капитана Вознесенского накрылись медным тазом.
Примерно месяц в нашем доме не случалось вечера без скандала. В конце концов мать отправилась в райцентр и подала на развод. Не сразу, но их с батей все же развели. Случилось это как раз к началу летних каникул. После чего меня увезли в Москву.
Поначалу я скучал по отцу. Он даже мне снился, причем чаще всего таким, каким я его видел перед отъездом на перроне: с серым лицом и виноватыми потухшими глазами. Будь батя гражданским, рассчитался бы и рванул следом, если не сойтись с матерью, так хоть быть рядом с сыном. У него же дом имелся под Чеховом. Но военным в ту пору уволиться было невозможно от слова «совсем».
По приезде мы обосновались у родителей матушки на Октябрьском Поле. Да-да, сперва я обитал там. Это потом, когда в нашей жизни появился новый папа, Евгений Ростиславович, дед через свои знакомства сумел выбить кооператив на Нахимовском. Вернее, взял его в другом месте, быстро выплатил пай, а потом провернул обмен. А до этого мы обитали в сталинке, на Народного Ополчения, где еще со времен Иосифа Виссарионовича давали квартиры только особо заслуженным людям.
Таким был и мой дед. У меня до сих пор хранится «Большая советская энциклопедия», где ему, академику, Герою Соцтруда и генерал-полковнику Николаю Павловичу Юрасову, посвящена солидная статья. Помнишь фото у нас в гостиной, где дед с сослуживцами сняты вместе с Гагариным? А ведь папаня моей матушки зазнал первого космонавта, когда тот был всего лишь одним из кандидатов на полет!
Работал дед под началом самого Королева. Когда еще мой гросфатер не был академиком, а всего лишь молодым доктором наук, Сергей Павлович выделял его из всех своих учеников. Он же, после первых полетов в космос, представил Николая Павловича к ордену Ленина и выбил первую квартиру. В Останкино. Та, на Октябрьском Поле, появилась потом, когда Юрасов из членкоров был произведен в академики и получил Золотую Звезду.
За всеми своими военными заботами он мало интересовался домашними делами, доверив их бабушке. Помнишь Наталью Стефановну? Как теперь говорят, прошаренная была мадам! Бают, что хохлушки, в особенности с Западной Украины, почти все ведьмы. Во всяком случае, в их селе под Червоноградом ее мать, мою прабабку по имени Кшися, побаивались. Шептались, что порчу может навести, а то и уморить до смерти. Не знаю, правда ли это, но что ее дочь сумела после школы выбраться в Москву, устроиться лаборанткой в засекреченный, работающий на космос центр и вдобавок ко всему окрутить молодого перспективного доктора наук – как говорится, непреложный факт.
Когда мать задумала развестись с отцом, об этом знала только бабка. И всячески ее подначивала ни в коем разе не мириться с мужем. В отличие от деда, пусть ученого, но все же носившего погоны и потому изначально не возражавшего против брака дочери с лейтенантом-конвойником, Наталья Стефановна восприняла выбор единственного ребенка как катастрофу. В свое время поняв, что отговорить единственное дитя от свадьбы не удастся, она сделала вид, что смирилась, а сама стала ждать момента. Именно из-за своей тещи отец все двенадцать лет прослужил в тайге при зоне, хотя дед бы мог решить этот вопрос и перевести его в Москву. Он же был лично знаком с Яковлевым, командовавшим в ту пору внутренними войсками. Как-никак его части охраняли все предприятия и НИИ, которыми рулил академик Юрасов. Но бабушка, прикинувшись донельзя правильной, заявила благоверному: пусть всего добивается сам! Зять должен быть достоин тебя, выбившегося на самые верха из рядовых военных инженеров!
Короче говоря, дед узнал о разводе только по нашем возвращении в Москву. И сильно опечалился, узнав, что его единственный внук будет расти без отца. Он даже вновь хотел позвонить генералу армии Яковлеву, чтобы тот помог бывшему зятю с академией, надеясь, что когда мой батя окажется рядом, они с матерью по-любому будут общаться и, возможно, даже помирятся и сойдутся. Но бабушка сделала все, чтобы наш академик напрочь отказался от этой затеи. Тем более у нее были свои планы на дочь и внука.
В первую очередь она решила пристроить меня в английскую спецшколу на Арбате, где учились отпрыски разных шишек, как правило, дипломатов, внешторговцев и других тогдашних «блатняков». Но годы, проведенные в деревенской восьмилетке, сыграли свою роль: если диалектом туманного Альбиона благодаря матери я владел неплохо, то по остальным предметам явно не дотягивал до уровня, который требовался шестикласснику элитной бурсы. В общем, скрепя сердце, Наталье Стефановне со Стеллой Николаевной пришлось определить меня в обычную школу, располагавшуюся через дом.
Тот год был тяжким. Первую половину дня я проводил в школе, а вернувшись, тут же начинал совершенствоваться в алгебре, геометрии, физике, географии… Домашние отыскали мне самых лучших педагогов, а химии меня учила сама Эльвира Зиновьевна Розенкрейцер, дочка бывшего заместителя наркома, отвечавшего как раз за химическую промышленность и расстрелянного перед началом войны. После, при Хрущеве, его, естественно, реабилитировали и объявили жертвой сталинского террора. Правда, еще позже выяснилось, что Зяма Розенкрейцер на самом деле был чуть ли не главным закоперщиком изничтожения всех более или менее толковых специалистов в своем ведомстве.
Не знаю, смыслил ли что-нибудь в науке тот замнаркома или нет, но дочь его знала предмет будь здоров и даже преподавала на химфаке МГУ. Натаскала она меня так, что даже сейчас, через почти сорок лет, я помню большинство формул. И сама Эльвира стоит у меня перед глазами как живая. Особенно когда после занятий она, маленькая, изящная, лицом чем-то напоминающая Фанни Каплан, сидела у нас на кухне с бабкой и, дымя длинной заграничной сигаретой, вспоминала свое детство в знаменитом доме на Набережной, откуда их с матерью после ареста папы выселили… Нет, не в Магадан, а всего лишь в коммуналку на Маросейке. Но об этом мадам Розенкрейцер вещала так трагично, что очередь в туалет казалась вереницей людей в печь крематория, а общая кухня, где одновременно готовили несколько соседей, представлялась по меньшей мере газовой камерой в Освенциме или Майданеке.
Бабушка слушала ее, постоянно поддакивая, и, в свою очередь, вещала Эльвире Зиновьевне про Голодомор на Украине, устроенный, разумеется, Сталиным, дабы истребить непокорных западенцев, не желающих жить в одном государстве с москалями. Правда, потом, когда я узнал, что в те годы Львовская область, где, по словам бабки, была самая жесточайшая голодуха, была в составе Польши, мне стало непонятно: при чем здесь Иосиф Виссарионович? Жаль, это стало известно мне, когда Натальи Стефановны, как и Эльвиры Зиновьевны, уже не было в живых…
После ужасов Голодомора и коммунального жилья разговор, как правило, перетекал на меня. Вначале бабушка с трагическим надрывом в голосе в сотый раз повествовала о жутких годах под Ухтой, про зону и отца-вертухая. Да-да, Наталья Стефановна величала моего батю именно так, словно какой-нибудь зэк со стажем.
– Кошмар! – каждый раз, слушая о нашем с матерью недавнем житье, восклицала Эльвира Зиновьевна.
Поразительно, но самих заключенных, в отличие от тех, кто их стерег, Эльвира с бабкой жалели. Во всяком случае, когда речь заходила о них, голос что одной, что другой начинал звучать сочувственно и тепло. Прямо как у народной артистки Казуровой, когда она рекламирует приюты для животных и просит взять домой кошечку или собачку…
Все это дико бесило меня: я-то помнил Сивого с его сыночком Жекой да других блатных. И однажды, выбрав момент, поинтересовался: почему конвойники плохие, а сидельцы несчастные? Ведь на зону они попали за серьезные дела!
На мой вопрос бабушка замешкалась, а мадам Розенкрейцер разразилась длинной тирадой, смысл которой был в том, что в этой стране – да-да, она так и сказала: «в этой» – верить, что приговор кому бы то ни было верен и справедлив, просто глупо. Она бы, наверно, сподобилась пояснить, почему и в чем конкретно так несправедлива страна, если бы бабуля, опомнившись, не зашикала на нее, а мне не высказала, что влезать в разговоры взрослых как минимум некультурно.
Кстати, такое скрытое презрение ко всему окружающему в доме маминых родителей я замечал еще раньше, когда приезжал в Москву на каникулы. К бабушке постоянно приходили подруги, напыщенные, молодящиеся, в импортных шмотках. Почти все они дымили как паровозы и вели утонченно-мутные беседы. Именно тогда я впервые услышал про Солженицына, о котором бабка с товарками говорили с почтительным придыханием. Но самого большого благоговения удостаивался опальный академик Сахаров.
– Слышали? Андрей Дмитриевич снова голодает! Вчера в час ночи по «Свободе» передали!
– Какой кошмар!
Кстати сказать, по малолетству я думал, что беднягу-академика морят голодом, и не где-нибудь, а в тюрьме. Только потом, спустя много лет, я узнал, что их ссыльный кумир отказывался от еды добровольно, по наущению своей жены. И жил на всем готовом в благоустроенной и даже роскошной по советским меркам квартире в Горьком.
От Сахарова, Буковского и других диссиденствующих борцов непонятно за что бабка и ее гости просто млели. Зато когда речь заходила о ком-то из тех, кто имел отношение к власти, причем не только о кремлевских шишках, а любых, вплоть до участкового, в их голосах слышалось явное презрение.
Спросишь небось: а как же дед? Как он, академик и генерал, позволял такие сборища и разговоры в своем доме? А никак. Наш Николай Павлович был вечно загружен работой и, приехав домой, сразу же после ужина уходил к себе в кабинет. Там у него был отдельный городской телефон, по которому он постоянно звонил, что-то кому-то приказывал, кого-то за что-то отчитывал. К тому же при нем ни бабушка, ни гости старались не поднимать подобных тем.
Однажды такие разговоры закончились скандалом. Случилось это в восемьдесят четвертом, когда после переезда в Москву я пошел в новую школу. Русскому и литературе нас учила Олеся Андреевна – маленькая рыжеватая девчушка, выглядевшая куда моложе своих двадцати четырех. Одень ее в школьную форму, запросто сошла бы за десятиклассницу. Нехватку опыта и собственную неуверенность она компенсировала неумелой напускной суровостью. По-моему, русичка просто побаивалась тридцати с лишним подростков, порученных ей советской школой. Ну и мы, соответственно, платили ей той же монетой. Как теперь говорят, троллили ее: тихой сапой подначивали, выводили из себя. Больше всего в этом преуспел пацан, чья мамаша трудилась в РОНО. Он каким-то образом загодя умудрялся узнавать тему урока, пару дней капитально ее штудировал, а потом подлавливал Леську – так мы звали нашу училку между собой – на разных мелких неточностях и оговорках.
Мне тоже хотелось как-нибудь посрамить русичку в смысле эрудиции, и однажды случай представился.
Где-то в середине года мы начали проходить Шолохова. Если не ошибаюсь, «Судьбу человека». Так вот, когда Олеся Андреевна начала с упоением рассказывать, каким гением был знаменитый писатель из станицы Вешенской, меня угораздило выдать, что это еще большой вопрос, принадлежат ли перу автора все его гениальные творения.
В классе повисла тишина.
– А кто же, по-твоему, их написал? – наконец вымолвила училка.
– Кто? – я хитро оглядел опешивших одноклассников. – Крюков, вот кто!
– Какой еще Крюков? – еще больше недоуменно вытаращилась классная.
– Федор Дмитриевич Крюков, – я решил блеснуть эрудицией. – Знаменитый дореволюционный писатель!
Накануне у нас дома случилась очередная вечеринка с бабушкиными подругами, и одна из них, ведавшая в Минкульте вопросами литературы, выпив, доказывала всем, что настоящий автор «Тихого Дона» как раз тот литератор-казак, погубленный большевиками. И чуть ли не клялась, что Шолохов самолично снял полевую сумку с рукописями с убитого писателя.
– Откуда ты это взял?! – воскликнула Леська.
До сих пор не понимаю, что остановило меня тогда сказать: мол, услышал все это на семейных посиделках. Впрочем, то, что я выдал вместо этого, повергло бедную Олесю Андреевну в еще больший шок.
– Солженицын по радио говорил.
Накануне бабушкина подруга в качестве последнего неопровержимого доказательства пересказывала последний эфир «Голоса Америки», где автор «Архипелага ГУЛАГ», по мнению товарки Натальи Стефановны, не оставил от Шолохова камня на камне.
К чести Олеси, она быстро пришла в себя и перевела разговор на другую тему. Но, видимо, не удержалась и поведала кому-то из учителей о сказанном шестиклассником Вознесенским. Во всяком случае, уже к вечеру бабушке позвонила какая-то знавшая ее училка и в красках рассказала о моей выходке на литературе.
Что было дома! Когда явилась с работы мать, они с бабкой и с оказавшейся у нас в тот вечер Эльвирой Зиновьевной буквально извелись, накручивая сами себя и наперебой рассказывая, что теперь ждет и меня, и матушку, и всю остальную родню. Один только КГБ за весь вечер упомянули несчетное количество раз.
– Неужели ты не понимаешь, чем это может закончиться?! – беспрестанно восклицала мама. – Тебе же скоро тринадцать! Как же ты не подумал, что можно говорить, а что нельзя?
– Все, что сказано дома, должно оставаться тут! – вторила ей бабушка.
– Кошмар! – заходилась в стенаниях Эльвира Зиновьевна. – Вот что значит общеобразовательная школа! В нормальной к такому бы отнеслись как надо!
Под нормальной дочь сталинского наркома имела виду спецшколу для избранных. Навроде той, куда меня собирались определить после переезда в Москву. И на следующий год все же перевели.
7
– Так чем вся эта история с Шолоховым и Солженицыным закончилась? – перебил я повествование бывшего приятеля.
– Ничем таким страшным. И для меня, и для моих домашних. Они, кстати, больше всего боялись даже не пресловутого КГБ, который поминали весь вечер, а чтобы о случившемся не узнал дед. Он, конечно, был весь в работе, в науке, но уж если его реально чем-нибудь достать, то никому бы не поздоровилось. Помню я пару таких моментов, когда в нем просыпался суровый генерал? и наш Николай Павлович начинал так строить и ровнять все семейство, что по меньшей мере на неделю дома воцарялся натуральный дисбат. Поэтому и маман, и бабушка сделали все, чтобы до него даже отголосков не донеслось.
Моя Наталья Стефановна на следующий же день побежала в школу и разыграла целое кино. Дескать, накануне у нас в гостях была знакомая-литературовед и возмущалась клеветой Солженицына на Шолохова. А я услышал, но, типа, не понял, в чем дело, и решил на литературе поумничать. Бабка с воодушевлением рассказывала, как мне влетело и еще влетит от всех родных. И чуть ли не требовала беспощадно проработать внука на совете пионерской дружины. В общем, своего она добилась: меня в школе вообще не тронули и постарались забыть эту историю.
А с Олесей мы в конце концов помирились. После того как она решила поставить школьный спектакль по «Голубой чашке» Гайдара, а я сыграл там отца. Вообще-то мне хотелось уговорить ее на «Утиную охоту», но стоило только раз заикнуться об этом, как она отрезала: рано еще такие вещи школьникам воплощать на сцене. Жаль, это уже тогда была моя мечта – сыграть Зилова. Я же в десять лет именно в этой пьесе на подмостки вышел!
– Это где же? – поинтересовался я.
– Под Ухтой. Матушка, будучи натурой деятельной и неугомонной, помимо школы, где трудилась, взялась еще вести самодеятельность в батальонном клубе. В том числе и спектакли ставила. Она же в детстве тоже хотела в актрисы податься, а потом режиссерством бредила. Но не вышло, пришлось в Иняз идти. А вот когда в тайгу с мужем укатила, тогда и представился шанс поиграться в Мельпомену. Тем более что кандидатов в артисты было пруд пруди: тех солдат, кто ходил на репетиции, освобождали от хозработ. Жаль только, что большинство этих лицедеев с трудом говорили по-русски: тогда в конвое служили в основном азиаты.