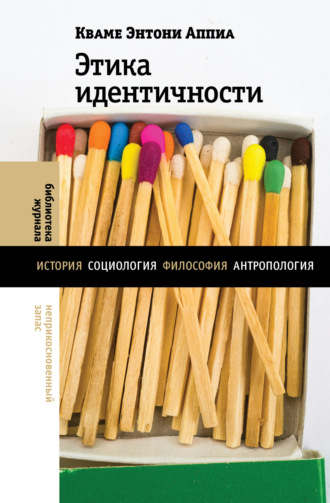
Полная версия
Этика идентичности
Я защищаю этого заблудшего последователя Милля не из провокативных соображений; центральная моя мысль в том, что, когда мы опираемся на когнитивный авторитет близких нам по духу людей, все мы Стива. Здесь имеет место банальный факт разделения труда по аналогии с вязами и экспертами, о которых писал Хилари Патнэм135. Наше когнитивное разделение труда так же полезно и повсеместно, как экономическое. Было бы нелепым отказываться от слов, которые мы не можем полностью объяснить, или утверждений, которые мы сами не можем адекватно защитить. Но верно и то, что, как свидетельствуют эмпирические исследования о природе политической идентичности, немногие из нас приобретают свои политические убеждения с большей интеллектуальной строгостью, чем это делает Стива. Из многих причин, по которым автономия (или аутентичность, или другие идеалы характера, иногда смежные с ней) не может требовать от нас очень высокой степени рефлексии над своими убеждениями, самая веская та, что нам было бы тяжко описать таким образом самих себя. То, что психолог Джон Барг назвал «автоматичностью бытия», характеризует огромную часть нашего повседневного существования136. (Феномен, который, по сути, демонстрирует Стива, гораздо более интересный: неодобрительное отношение к господствующим нормам может быть таким же продуманным, как и слепое следование этим нормам. Потому что, как мы видели, он подписан на либеральную газету, а либеральная газета постоянно взвешивает ту или иную условную традицию на весах рациональной рефлексии и находит эту традицию легкой.) В общем, защитники строгой автономии слишком быстро перешли от того факта, что мы как сознательные существа наделены способностью занять отстраненную позицию и оценить наши убеждения, – к требованию, чтобы мы так делали постоянно. Они смешали способность и ее применение. Такое возражение от некоторых критиков автономии справедливо, но я утверждаю, что это возражение не имеет силы против верно понятой автономии.
Я выступаю против чрезмерно требовательного представления об автономии, потому что боюсь, как бы автономия не задрала на саму себя слишком высокую цену. С другой стороны, ей не следует и продавать себя слишком дешево. Хотя более скромная концепция автономии и обходит множество трудностей, хватает затруднений, которые невозможно обойти, – некоторые из них, но лишь некоторые я уже упомянул. Сам Иосеф Раз говорит, что автономный агент, вдобавок к тому, что он должен иметь минимальную рациональность и адекватные варианты, из которых может делать выбор, должен быть «свободен от принуждения и манипуляций со стороны других – он должен быть независим»137. Конечно же, многое меняется от того, насколько строго задаются эти условия. Как раз поэтому философская литература по автономии выявила бессчетное число загадок: порой мы более автономны, чем можем казаться, порой – менее.
Представим себе некий тягостный день из жизни владельца магазина – пусть им будет Майкл, лишенный любопытства провинциал, описанный Дэвидом Джонстоном. Утром Майкл скрепя сердце повышает зарплату своей помощнице. Она ясно дала понять, что иначе уволится из аптеки, а в данный момент обстоятельства не позволяют ему искать ей замену. В середине дня шантажист говорит, что, если Майкл не даст ему пятьсот долларов, жена узнает про его неверность. После обеда он решает открыть еще одну аптеку в центре города – на основе вводящей в заблуждение информации от своего бухгалтера, который хочет устроить свою сестру на работу в новой аптеке. Вечером грабитель заходит в магазин и требует от Майкла, чтобы тот открыл хранилище с деньгами. Майкл взвешивает разные варианты (притвориться, что на двери установлен таймер, не дающий ему открыть дверь? притвориться, что ключ у кого-то другого, включить бесшумную сигнализацию и потянуть время?) и решает открыть хранилище.
Короче, его день был заполнен трудными дилеммами. Майкл дважды заплатил высокую цену, чтобы не позволить другому человеку – своей помощнице и шантажисту – нанести ему вред. Однако большинство людей расценят только второй случай как содержащий принуждение. Во время ограбления Майкл сформировал у себя намерение открыть хранилище, взвесив все варианты; хотя он не принял бы решения открыть хранилище без принуждения, он мог принять другое решение. Сформировал ли он намерение автономным образом? У философов разные мнения на этот счет138. Решение Майкла открыть аптеку в центре города – довольно традиционный пример манипуляции через предоставление ложной информации. Но информация и мнения, которые любой начальник получает от своих советников, будут носить предвзятый характер, и поэтому, видимо, сложно отличить манипуляцию от убеждения. Разумеется, свобода от манипуляции не означает свободы от социального давления. Как мы видели, те, кто хотят принудить нас к тяжелому труду критического размышления, беспокоятся, что социальное давление может скомпрометировать независимость наших умов. Но нет способа даже в принципе различить прививание норм, с одной стороны, и установление тех «горизонтов выбора», которые вообще необходимы для возможности сделать выбор, – с другой.
Сам Милль был осторожен в этом вопросе, и при всем его чествовании разнообразия и нонконформизма не следует забывать про его многочисленные уступки как обычаю, так и «естественному чувству». Те, кто отождествляют автономию с критическим размышлением, часто возводят это отождествление к Миллю139. Однако делать акцент на опасностях влияния на волю человека – значит выносить за скобки другую половину миллевской позиции. В самом деле, он презирал «групповые пристрастия»; но он также утверждал важность морального единодушия. Так, например, в «Утилитаризме» Милль беспокоится о потенциально губительном воздействии рационального анализа на моральное чувство – и смягчает это беспокойство утверждением, что центральные этические нормы не могут быть предметом такого анализа до бесконечности. Как говорит Милль, по мере того, как «общество растет и общественные узы более крепнут»,
человек, так сказать, инстинктивно приходит мало-помалу к тому, что сознает себя существом, которое по самой природе своей необходимо должно принимать участие в интересах себе подобных, и это участие в общем благе становится наконец для человека столь же необходимым и естественным условием его существования, как и условия его физической природы <…> Самые незначительные зародыши этого чувства могут легко окрепнуть под влиянием симпатии и воспитания, а могущественное посредство внешних санкций может оплести их целой сетью условий, способствующих их развитию. По мере роста цивилизации единение человека со всеми остальными людьми становится, так сказать, все более и более его естественным состоянием140.
Обратите внимание на органицистский язык – Милль говорит о том, что приходит «инстинктивно», «естественно», «необходимо». Якобы естественный фундамент этих чувств (которые общество призвано усиливать) гарантирует, что они будут защитой от «разлагающей силы анализа», который, говорит Милль, «умственное развитие» должно направлять на искусственные по своей природе моральные ассоциации. Не относился Милль пренебрежительно и к унаследованной премудрости – нормам и порядкам, которые передаются человеку от общества по наследству; он лишь полагал, что мудрость скорее будет полезной в том, что касается общих вещей, а когда речь идет о вещах, явно принадлежащих мне, я должен придерживаться своих собственных взглядов. Как мы видели в предыдущей главе, позиция Милля возникает отчасти из его идеала саморазвития, но также отчасти из его убеждения, что индивиды, вероятнее всего, лучше, чем кто бы то ни было, разбираются в собственных интересах. В отличие от многих нынешних теоретиков автономии, которые требуют от нас предпринять всеобъемлющее критическое исследование всех норм и ценностей, Милль никогда не смешивал долг гражданина с должностными обязанностями теоретика морали.
ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Так что же мы должны думать о якобы существующем напряжении между, с одной стороны, темой рационального управления собой, как она проходит через мысль Локка, Канта и, конечно же, Милля – но в том числе и через значительную часть либеральной теории последних лет, – и, с другой стороны, коммунитаристским акцентом на социальной матрице, которая не просто ограничивает, а составляет нашу самость? Те, кто желают примирить их между собой, обычно говорят о «частичной автономии» и «частичном авторстве». Как пишет Раз, «все три условия – умственные способности, адекватность доступных вариантов и независимость – различаются по степени»141. Риторика «частичной автономии», какой бы убедительной она ни была, скрывает еще более глубокий раскол.
Когда вы изучаете язык автономии достаточно долго, вы начинаете задаваться не вопросом, хорошая ли вещь автономия или плохая, представляет ли она основную нашу потребность или предмет роскоши, а вопросом, нет ли в языке автономии противоречий. Идея частичной автономии наводит на мысль о концептуальной возможности «полной» автономии: если нам сложно уяснить себе второе понятие, мы обязаны признать первое не менее туманным. Вообще-то говоря, обеим сторонам в либерально-коммунитаристском споре автономия не дает покоя. Здесь мы можем последовать за Сэмюэлом Шеффлером, который в важном эссе о современном либерализме как форме политики и форме теории указывает, что либерализм пренебрегает понятием заслуг, и ставит следующий диагноз: «Весьма распространенное среди политических философов нежелание защищать строгое понятие заслуг, которые причитаются нам помимо каких-либо социальных институтов, отчасти происходит из влиятельной в современной философии идеи, что человеческие мысль и действие могут быть целиком объяснены в рамках широко понимаемого натуралистического мировоззрения. Молчание этих философов <…> свидетельствует о преобладании зачастую невысказанного убеждения, что бескомпромиссный натурализм не оставляет места для концепции индивидуальной агентности, достаточно существенной, чтобы она могла служить основой для идеи заслуг»142.
Если это действительно так, разговоры о «частичном авторстве» или «частичной автономии» становятся похожими на уклонение от ответа. В действительности колебание между точкой зрения, согласно которой автономия важна, и той, где она совершенно исчезает, напоминает картинку «утка или кролик». Человек – сам творец своей истории, утверждал, как всем известно, Маркс, но творит он ее в обстоятельствах и условиях, которые сам не выбирает. Такова естественная сноска, которую хочется поставить к утверждению, что наша автономия всегда лишь частичная. И все же с точки зрения, которая рассматривает нас как произведения истории, общества и культуры, – и тем более со всеобъемлющей научной точки зрения, которая видит нас встроенными в каузальные цепочки, простирающиеся от морских звезд до звезд, – что вообще остается от автономии? Вы, якобы автономный индивид, ограничены доступными вам альтернативами; и эти альтернативы, в свою очередь, порождаются некой устойчивой и фиксированной сущностью – переплетением институтов и практик, к созданию которых вы не имеете отношения. Если ваши ценности выражают то, что вы желаете желать (согласно элегантной формулировке Дэвида К. Льюиса), то, что вы желаете желать, может не зависеть от вас – в том смысле, что ваша «воля» – произведение внешних для нее самой сил. Даже если ограничиться социальной сферой: известен феномен, который благодаря Юну Эльстеру мы называем «формированием адаптивных преференций», когда люди склонны связывать желаемое с тем, чем они могут обладать, дабы привести свои желания в соответствие с доступными вариантами. Помимо этого, ваш выбор еще более ограничивается вашими способностями. А эти способности вы черпаете из природных дарований и обучения, и ничего из этого вы не выбираете самостоятельно.
Отсюда следует знакомый детерминистский вывод, что исчерпывающий перечень влияющих на вас условий и обстоятельств, внутренних и внешних, позволит безошибочно узнать ваши предпочтения, планы и действия. В такой атомарно-механистической картине концепту автономии просто не остается никакой роли. Вы не творец, вы творение.
Вспомним оговорку Раза: «Все три условия – умственные способности, адекватность доступных вариантов и независимость – различаются по степени. Автономия как в первичном, так и во вторичном смысле варьирует по степени». Это говорит нам (помимо прочего), что существуют лучшие и худшие наборы доступных вариантов. Учитывая, как заметил Джеральд Дворкин, что больше вариантов не значит лучше, как нам определить, какой именно набор послужит развитию нашей автономии?143 У пианиста, также обладавшего способностями к игре на виолончели, больше автономии, чем у пианиста, у которого их не было? У богатого лодыря-холостяка больше автономии, чем у семьянина с постоянной работой? Больше ли автономии у Левина, чем у Степана Аркадьича? Таковы неразрешимые задачи, которые возникают, как только мы начинаем размышлять о доступных жизненных вариантах. Проблема независимости еще более неприятная. Как будет выглядеть полная интеллектуальная независимость? Несомненно, она будет (как предупреждали Уолцер и другие) несовместимой с наличием интеллекта как такового: для нее не будет ни постоянных качеств, ни горизонтов принятия решений, ни предзаданных целей, ценностей, интересов и стремлений. Существо, интеллектуально независимое в таком смысле, выглядело бы совершенно нечеловеческим.
Однако, если мы отклоним три упомянутых условия, разве мы не рискуем начать приписывать автономию автоматам – людям, в которых желания как будто бы имплантированы, словно инородное тело? Людям, которые не могут на самом деле хотеть того, чего, как кажется, они хотят, но подчинены воле других или ослеплены недостаточным знанием мира? Таким образом мы возвращаемся к исходному затруднению. Как мы видели, согласно одной перспективе, автономия – то, что есть у большинства людей; согласно другой – есть разумные сомнения, можно ли достичь такого возвышенного состояния или даже осмыслить его.
Так как нам примирить субъектоцентрические и социоцентрические модели? Возможно, самая убедительная попытка была предпринята Чарльзом Тейлором, который разработал понятие социальных практик. Согласно этому понятию, наши действия принадлежат конкретным практикам, которые придают им форму и смысл. «Значительная часть человеческой деятельности случается только при условии, что агент понимает и конституирует себя в качестве органического элемента „нас“, сообщества», – пишет Тейлор144. Он заимствует у Бурдьё понятие габитуса – «системы долговременных и сопровождающих индивида диспозиций», чтобы подчеркнуть сущностно социальную природу самости. Тейлор целиком признает значение человеческой агентности – он не хочет сводить нас к эпифеноменам, но настаивает, чтобы мы считали агентность конституируемой сетью практик и коллективностей, в которых она появляется и которым принадлежит. Такая точка зрения, пишет Тейлор, «идет наперекор большей части современных мышления и культуры, в особенности нашей научной культуры и связанной с ней эпистемологии». Натурализм такого типа, по его словам, исказил «наше современное понимание себя». Вместо этого Тейлор призывает нас видеть агента «вовлеченным в практики – как существо, действующее в определенном мире и согласно этому миру». Из понятия габитуса у Бурдьё, пишет Тейлор, нам следует уяснить, что «практика – это словно бы постоянные толкования и перетолкования того, что на самом деле значит правило» и что правило и практика активно влияют друг на друга145.
И все же этот тезис как будто противоречит своим витгенштейнианским основаниям. «Подчиняясь правилу, я не выбираю, – говорит Витгенштейн в отрывке, который цитирует Тейлор. – Я повинуюсь правилу слепо». Поэтому позицию Тейлора критиковали – не в последнюю очередь коллега Тейлора Джеймс Талли – за то, что она не вполне витгенштейнианская. Разве акцент Тейлора на интерпретации – идее, что «мы должны говорить о человеке как о толкующем самое себя существе, потому что толкование такого рода – не дополнительный аксессуар, а сущностная часть нашего бытия», – не отсылает к той самой критической рефлексии и оцениванию правила, которые Витгенштейн изо всех сил старался подвергнуть сомнению? Понять знак не означает истолковать его; его схватывание – это не интерпретация (nicht eine Deutung), а лишь умение «продолжать схожим образом». Суть витгенштейновских замечаний о следовании правилу – цепочка рассуждений, призванная устранить как раз тот самый промежуточный этап – интерпретацию, которую превозносит Тейлор146.
Было предпринято множество иных попыток примирить агентность и структуру, субъект и общество, танец и плясунью147. Обычно эти попытки строятся на их взаимно конституирующем характере, или, как в рассуждениях Энтони Гидденса о «дуальности структуры», – рекурсивной природе их взаимодействий. Я не буду детально останавливаться на этих попытках, потому что нельзя сказать, что Тейлор потерпел крах там, где другие преуспели. Но в любом случае неудивительно, что сам вопрос доставляет нам столько хлопот.
Есть старая городская легенда о паре, которая во время поездки в Индию подбирает очаровательного бездомного котенка и возвращается с ним домой в Цинциннати – после чего с растущим ужасом смотрит, как он превращается в пожирающего детей тигра. Здесь мы можем отметить нечто до боли очевидное. Проблема автономии в политической теории, как и «проблема агентности» в науках об обществе148, – от хвоста до кончиков усов напоминают одну из труднейших проблем во всей философии – проблему свободы воли.
Литература по этой теме – так, несомненно, распорядилось Провидение – безгранична и безгранично сложна. Но будет полезным взять на вооружение одно из самых знакомых решений одной из самых знакомых проблем. Я говорю о решении в духе «двух точек зрения» (zwei Standpunkte), которое связывают с Кантом. Некоторые наши цели требуют от нас признать, что мы природные существа, и считать себя и других элементами природы, подлежащими теоретическому объяснению в терминах естественных причин. С этой точки зрения мы принадлежим к так называемому чувственно воспринимаемому миру – Sinnenwelt. Но мы не можем принять эту точку зрения, когда сами действуем как рациональные агенты: «Все люди мыслят себя свободными по своей воле», – отмечал Кант. Соответственно, «в практическом отношении тропинка свободы есть единственная, на которой возможно при нашем поведении применение своего разума». Тут мы помещаем себя в так называемом интеллигибельном мире – Verstandeswelt. Как пишет Кант в «Основоположениях метафизики нравов»: «Нам остается еще один выход, а именно посмотреть, не становимся ли мы на одну точку зрения, когда благодаря свободе мыслим себя a priori действующими причинами, и на другую, когда по своим поступкам представляем себе самих себя как результаты, какие мы видим перед собой <…> если мы мыслим себя свободными, то мы переносим себя в интеллигибельный мир в качестве его членов и познаем автономию воли вместе с ее следствием – моральностью»149.
Эти миры Канта в действительности лишь точки зрения, а не уровни бытия. «Понятие интеллигибельного мира есть, следовательно, только точка зрения, которую разум вынужден принять вне явлений, для того чтобы мыслить себя практическим»150. Мы должны действовать так, словно бы свобода возможна, хоть даже мы не можем предоставить никакого теоретического ее обоснования; в этом смысле, говорит Кант, свободу нельзя объяснить, лишь защищать. Позвольте мне на этом месте закончить изложение аргумента и закрыть «Основоположения». Кантовские zwei Standpunkte, которые происходят в каком-то смысле от двух видов целей или интересов, – вот тот базовый ход, который я у него заимствую.
Обратите внимание, что весь этот спор об агентности и структуре – между автономистами и их критиками – предполагает оппозицию между ними, внутри которой они соревнуются, так сказать, за одно и то же причинно-следственное пространство. Попросту говоря, в качестве иллюстрации аргумента в пользу структуры можно сказать, что в «Сыне Америки»151 Биггер Томас поступает так, как он поступает, в силу влияния окружающей его среды. (Так считал мистер Макс, адвокат Биггера, и долго доказывал свою позицию на суде.) Аргумент в пользу агентности, также сформулированный очень простыми словами, – это аргумент в пользу индивида, то есть фигуры, чье бегство из общества делает романтический субъект самым ярким своим воплощением. (Кажется, так считал и сам Биггер: «Я только тогда узнал, что живу на свете, когда так ясно почувствовал все, за что я убил»152.) Чтобы разрешить это предполагаемое напряжение, как я сказал, были предложены различные диалектические ходы, в которых структура понимается как делающая агентность возможной, тогда как структура, в свою очередь, сама формируется социальными практиками153. В отличие от такого подхода теория двух точек зрения подталкивает к тому, чтобы мы перестали пытаться видеть в структуре и агентности конкурентов за одно и то же причинно-следственное пространство. Вместо этого логика структуры (которая поставляет причины действий) и логика агентности (которая обеспечивает рациональные основания действий) принадлежат двум различным точкам зрения. Действовать как если бы и расценивать себя как если бы – понятие als ob занимает центральное место в кантовской аргументации; оно есть отличительная черта его «критической» философии – равно как и смежное понятие интересов и целей, которые определяют, какое из двух als ob входит в игру. «Интерес, – говорит Кант, – есть то, благодаря чему разум становится практическим, т. е. становится причиной, определяющей волю»154.
Полагаю, можно услышать эхо данной традиции, когда Хабермас объясняет различие, которое Дильтей пытался установить между науками о природе и науками о духе (Naturwissenschaften и Geisteswissenschaften), утверждая, что каждый из этих видов наук конституируется интересом особого рода. Естественные науки, говорит Хабермас, укоренены в «конституирующем знание интересе к возможности технического использования», тогда как конституирующий знание интерес Geisteswissenschaften «практический». Здесь есть к чему придраться, но основная идея – что интересы играют роль в конституировании исследовательских областей – кажется довольно правдоподобной155. Многие философы (среди которых Дональд Дэвидсон и Дэниел Деннет), к примеру, утверждали, что, когда мы понимаем людей в качестве интенциональных систем – имеющих убеждения, желания, намерения и прочие пропозициональные отношения стандартной психологии, – мы определенным образом проецируем на них рациональность. Мы приписываем людям убеждения и желания таким образом, чтобы «сделать рациональными» их поступки, хоть и знаем, что люди не вполне рациональны. На этом месте обычно упоминают «идеализацию». Как настаивал Джерри Фодор, мы не должны предъявлять психологии методологические требования, которые не могут быть удовлетворены химией и физикой: и в лабораторной работе, и в научной теории идеализация встречается повсеместно. Считаем ли мы теорию попросту ложной или приближающейся к истине, оказывается вопросом оценивающего суждения, которое вполне может зависеть от того, в чем мы заинтересованы. Химия, практическая задача которой – разработка промышленных красителей, может принять идеализирующее допущение, что очищенная речная вода – это H2O. Химия, интересующаяся регуляцией энергии на клеточном уровне, – нет. Идеализация – это полезная неправда, а полезная всегда означает «полезная для некой цели». В зависимости от наших практических целей мы можем рассуждать так, будто плоскости лишены трения, а фирмы всегда максимизируют прибыль. Мы можем допустить, что с точки зрения Вселенной все наблюдаемое можно свести к физике элементарных частиц; но такая точка зрения нам недоступна, а наши теории, как и все наши творения, несовершенны. В самом деле, история науки – длинный перечень ошибок, которые появились из‐за преждевременных попыток ограничить теории одного уровня требованием, чтобы они постулировали только феномены, которые могут быть поняты в терминах теории низшего уровня. Так как у нас нет совершенных теорий, мы пользуемся лучшими теориями из имеющихся в нашем распоряжении; и теория, лучше всего подходящая для некоторых целей, может быть полезнее – для тех самых целей, – чем более совершенная теория, отвечающая пресловутому требованию методологического редукционизма. Вовсе не следует отказываться от полезных идей, которые мы можем получить благодаря, скажем, экономике и метеорологии только потому, что мы не можем перевести эти науки на язык движения молекул.
Все это мне нужно, чтобы облегчить себе задачу. Если мы смиримся с тем фактом, что как будто вовсю применяется даже в натуралистических объяснениях (через направляемые интересом «идеализации»), нам не нужно будет так беспокоиться о большом кантовском как будто, которое мы рассматривали. И конечно же, фундаментальная идея, что наши теории направляются нашими прагматическими целями, нашим praktischer Absicht156, вырастает из Канта. Доктрина двух точек зрения в таком случае предполагает, что интересы и намерения дискурса об агентности отличаются от интересов и намерений дискурса о структуре; и мы заходим лишь немногим дальше, когда говорим, что эти различные интересы делают подходящими различные идеализации, полезными различные «как будто».




