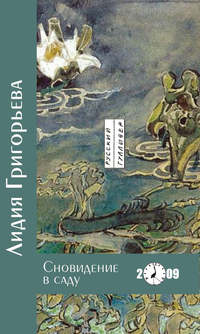Полная версия
Сады земные и небесные
Человек из моих снов, пилот падающего на меня самолета.
7. Здесь жизнь моя жила
Редкий шанс. Бесценный опыт. Приблизительно так высказался Юрий Давидович Левитанский, когда узнал, что меня, по большому, кстати, блату, взяли на работу в одну из спецшкол Казани (для умственно отсталых детей, если точнее: для олигофренов, даунов и детей с замедленным умственным и психическим развитием).
Там должны были работать специально подготовленные педагоги-дефектологи, но таковых, как всегда, не хватало, и рабочие места заполнялись людьми с высшим (и не очень) образованием.
Сначала я подрабатывала там в студенческие каникулы секретарем (трудно поверить – ведь не институт же!) приемной комиссии. Конкурс, надо сказать, был огромный. Оказалось, что это большая общественная проблема, скрытая, так сказать, статистика.
Со временем я стала вести там уроки – и в школе, и на дому: была такая привилегия у очень больных детей, например, у олигофренов-эпилептиков, у психопатов.
Опасно, малоприятно, но зато много свободного времени и приличных денег. Надо ли удивляться, что устроиться в такую школу мечтали многие. Так что и тут был конкурс.
* * *Стихи мои! Чертовы карлицы —вас прятать, любить и бояться,уродицы – Господи Боже —родные дебильные рожи.Вас прятать, бояться, любить,пороги издательств оббить,как матерь – пороги лечебницс плодом своим тоже плачевным,со своим дауненком, с кровинкой…О, чем же я, Боже, провинна?!ноябрь 1966, КазаньЯ уже печаталась в казанских газетах, участвовала в телевизионных передачах, делала радиорепортажи, воспринимая все это как часть литературной профессии и получая симпатичные, но маленькие гонорары. А зарплата за несколько уроков в день (литература-история) в спецшколе была столь велика (платили большие надбавки «за вредность», как и в золотой кассе, кстати), что ее хватало на книги, пластинки, подписные журналы и постоянные поездки с подругой Светланой в Москву на театральные премьеры, выставки и Дни Поэзии. Были и такие дни. И жаль, что сплыли.
А в Казани днем я любила обедать, к удивлению окружающих меня студентов-сокурсников, в ресторане, где мне все казалось и вкусным, и доступным. На свои, так сказать, трудовые. Вечером шла или на лекции в университет или на репетиции в студенческий театр УТЮГ (университетский театр юмора и гротеска). Возвращались мы после занятий или репетиций поздно, почти всегда на такси.
Никаких заработков на такую жизнь ни мне, ни Светлане при таком невиданном для Казани времяпровождении не могло бы хватить. А секрет был в том, что нам помогали… наши мамы. Благодаря им, мы выписывали (на двоих) двенадцать журналов в год, и каждое лето отдыхали то в Прибалтике, то в Гагре, то в Сочи, то еще где-то.
Там тоже повсюду царили невиданные нами доселе сады. И пряно-субтропические, и каменные: строго-скандинавские. И меж них вилась невидимая тропинка, которая и привела меня в результате в мой маленький лондонский сад, непричесанный, чужеликий.
Пришлось воспитывать его: от маленького до большого. Хотя, кто знает, кто кого воспитал в самом-то деле…
ВОСПИТАНИЕ САДАчугунный день литой отяжеляет взглядосотом лебедой не зарастет мой садон никому не брат не близкая родняна воспитанье взят – а воспитал меняон раньше был нагой а нынче не таковпод розовой пургой опавших лепесткови в лондонской глуши изведал он – юнецзатмение души затмение сердецв житейской кутерьме он в мир пробил окнокостюм от кутюрье ему к лицу давносреди душистых трав и солнечных порошон стал теперь кудряв опрятен и хороша родственная связь не ведает границлюблю его трудясь и упадая ниц1999, Лондон8. Кто есть кто
Для всех, кто родился в Казани и с детства был обогрет бабушкиными дачными садами, был горячо любим окрестными лесными волглыми просторами, странным казалось мое всегдашнее стремление уехать, уехать, как можно быстрее и дальше. Мне не с кем было любить эту чуждую мне растительную роскошь. Меня сводил с ума и будил воображение не запах мокрой смородины, а душный кипарисовый воздух. Я боялась купаться в Волге: там глубоко, темно и быстро. Там сводит пальцы, леденит тело саднящая вода.
Не тепло мне там было, нелюбимо…
* * *Когда я вижу сад цветущий…На малый садик городскойя, как крестьянин неимущий,гляжу с завистливой тоской.А ночью шум индустриальныйу самых окон узкой спальни.И сон вполока, полубред:на хуторе живет мой дед(как будто он еще не умер).Вот пасека – десяток ульев.Вот вечер – пламенеет запад.Повсюду сада сумасшедший запах,и тишина – густая, как варенье.Среди вишневых дед стоит деревьев.Зову его, немая горожанка,и просыпаюсь.Горько мне и жарко.1969, КазаньМоя мама в это время жила на Чукотке – это была чистая жертва с ее стороны. Она понимала, что я должна получить образование. К тому же она была очень начитана и хорошо знала, что плодами вдохновения сыт не будешь. Она присылала мне с Чукотки деньги и книги.
И среди них – большой том писем Винсента и Тео Ван Гога, который, как все знают, содержал брата до последних дней. «Я буду твоим Тео», – написала мне она. И она есть, слава Богу, по сей день, снимая с меня теперь часть хозяйственных хлопот.
Несколько лет назад, когда меня приняли сразу в несколько Международных академий, когда мне прислали из калифорнийского и кембриджского биографических центров толстенные тома энциклопедий «Кто есть кто» с моей биографией, мама моя вдруг сказала: «Ну, что ж. Это тем более ценно, что ты – дочь вдовы и училась на медные деньги».
Светланина же мама была известным в городе дефектологом, директором той самой школы и городским депутатом. Астраханская татарка с редким именем Диляфруз, блондинка с голубыми глазами и белоснежной кожей, певунья с чудесным, немыслимо высоким голосом, трудоголик и хлебосольная хозяйка.
В их доме я прожила несколько лет, как в своей семье. Этому чуду есть объяснение, но это долгий разговор.
Мы были мамины дочки, что скрывать. И успели сказать им спасибо.
* * *«Как время катится в Казани золотое!»Времен застоя…А время катится, как шар по белу свету.Другого нету…Куда же время золотое закатилось,скажи на милость?..А позолоту наших дней изъела ржа, вон.Ау, Державин!..2004Поэзия, литература, театр, поющие загитаренные (как зачумленные гитарой!) друзья, кипящее веселье, и сухое (кислое!) вино. Запретные радости – т. е. запрещенные книги, читаемые по ночам. Легкие влюбленности и никакого телесного жжения. Прекраснодушно и старомодно звучит такое признание в наши, распоясавшиеся в телесном зуде, времена.
Теперь-то жизнь уже почти проживя во множестве своем, и разную, и грешную, со временем с удивлением понимаешь, что юность наша была полна высоких радостей и нисколько не тяготилась своим аскетизмом.
Куда уж оригинальнее. Страшно даже – до того хорошо.
И было бы (по-ханженски) страшно, если бы не имелось продолжения: и многая любовь, и дети (у Светланы – трое сыновей), и прочная семья, случившаяся у нас с поэтом Равилем Бухараевым, теперь уже – навеки…
Не проси у хана мешочек риса. Может он уже выслал тебе навстречу караван с невиданными дарами. Всё будет, всё случится, всё придет.
И перестанет быть однажды…
9. Город гремит
Пока обживалась я в городе этом
старинном,
слезами душа обросла, как свеча
стеарином.
Пока прижилась, угнездилась я
в этой юдоли –
сын вырос. Отчизна распалась
на атомы боли…
Поедем дальше, что ли? А куда ехать-то? Только в Москву, в Москву… Дальше и земли-то нет никакой. Дальше повсюду чудь да вепсы. В столице тогда было сосредоточено все, чего душа желала. Вокруг нее простиралась, до края света, культурная полупустыня.
Но одно дело командировка в ад (праздники, театры, визиты к Левитанскому с пачкой новеньких, хрустящих как банкноты, виршей) и совсем другое дело полная эмиграция туда же (кипящие котлы, раскаленные сковородки и смрадный серный дух).
Москва для человека из провинции хороша только в краткий приезд. Обжить эти огромные, пустырные пространства почти невозможно. Одной жизни мало. Для этого надо родиться не на Лысой, а на Николиной горе, в большом гнезде. А так – пришельца из других краев от тотального одиночества спасет или цеховая принадлежность, или всю жизнь будешь тулиться к своему землячеству, если таковое нажил.
Но я-то, носимая по свету провидением, определявшим путь земной, возомнила, что родом отовсюду: нам целый мир – чужбина, отечество – небесные сады…
И была наказана – поделом: высоко я летела, да около – долго не было никого. Только сквозняки коммунальные, лопухи на Садовом Кольце (памятный мне палисадник) да фиолетовые комья выхлопных газов, падающие из приоткрытой форточки прямо в кроватку с крохотным бледноликим сыночком.
ЛОПУХИТакую жизнь мы наберем петитом:и спать, и есть с завидным аппетитом,жить в лопухах, в столице, на Садовом,в зачуханном отчаяньи бедовом.И все-таки – она жила в столице,готовая окрыситься, озлиться,а лопухи – животного размера —под окнами клубились, как химера,огромные, как олухи, как снобы.И дикие ее трясли ознобы.Затеряна, забита ненароком,в затравленном отчаянье глубоком.Рукой подать – да некуда податься.А лопухи высокие плодятся,толпятся, опухают, как живые,в окно глядят: мол, вы еще живые?А это нужно выделить курсивом:в застиранном халате некрасивом,затравленная, заспанная, злая —она была до ужаса – живая!И вымахала вровень с лопухами.Уехала – с хорошими стихами.1978, МоскваШел в комнату, попал – в другую, не привыкать. Исполнились мечтанья трех сестер. Только Москва оказалась чумазой и чернокаменной.
Мой сад сгорел от черного мороза:чернеет жутким варевом листвы…И нет с природы никакого спросаВ пределах черно-каменной Москвы.Гремел, круговращался на оси громадный город. Не тот ли, который накликали на мою голову краснодонские мальчишки, когда дразнили меня, пришлую первоклассницу в красном бархатном капоре. Представляю теперь, как, наверное, странно смотрелось мое яркое пальтишко с пелеринкой в нищем шахтерском поселке.
Чуждой казалась местным ребятам младшего школьного возраста, говорящим на донбасском певучем суржике, и моя «не такая», чеканная, московитская речь. Они гнались за мной дикой стаей до самого дома, скандируя хором дразнилки: «Гуси гогочут, город гремит – каждая гадость на „г“ говорит!». Были и похуже: «Гришка, гад, подай гребенку…»
Это была настоящая травля. И мне, семилетней, приходилось отстаивать свое право говорить так, как я считаю правильным и нужным. Это была первая моя битва за Слово. Я дралась до крови. И они – уж что было, то было – порой отступали.
Я приходила в чужой для меня дом в слезах, в поврежденной одежде. Целый год в Краснодоне я была сиротой. Мама, вернувшись вдовой из Игарки, оставила меня на попечение родни, чтобы я не пропустила первый школьный год (да и жить нам с ней было пока что негде), а сама утрясала дела в областном Луганске.
Наняв двух адвокатов, она затеяла судебную тяжбу с игаркской авиагруппой, отстаивая честь моего погибшего отца, добиваясь компенсации и моральной, и денежной. Напомню, ей было всего двадцать пять лет. И она с помощью опытных юристов выиграла дело! В середине пятидесятых! По переписке, на расстоянии! У государства! Мне стали выплачивать большую пенсию – до самого совершеннолетия.
Но сиротский год в Краснодоне показался мне бесконечным.
Мама навещала меня редко. И я уходила от всех в огородные дебри большой и богатой усадьбы. Там, у границы сада, протекал ручей, и над ним росла старая мощная ива. Я и плакала там, и все равно чуяла и обоняла, и впитала в себя навсегда благодать благоуханной дымки горючих донецких степей.
С той поры, как ни гремят вокруг меня города, я говорю только так, как считаю нужным.
* * *Столько за зиму тепла во мне скопилось,а куда его девать, скажи на милость?В этом городе ни деревца, ни сада,здесь и воздух тяжелее самосада.Снова сердцу пустеть, как улице в полночь,где носится ветер и «скорая помощь».197110. Написанному – верю
Как дед мой, Федор, чуял воду – рыл колодцы в безводной степи, так и я, видимо, с детства чуяла гать в дрожащей, дрожжевой трясине неблагоприятных обстоятельств.
В тех немногих чемоданах, которые служили мне часто и шкафом, и письменным столом, не было никакой пригодной для жизни утвари, ни подушек, ни одеял. Как-то все потом само находилось на новом месте (да и мама, это всегда подразумевалось, не оставит непутевую дочь своим попечением).
Зато повсюду я возила чемодан, битком набитый письмами друзей (они и по сей день хранимы мною). Полчемодана также занимала моя главная ценность: большая, тяжелая, чудесная, давно наизустная – антология русской поэзии первой четверти ХХ века под редакцией И.С. Ежова и Е.И. Шамурина.
Это бесценное сокровище, пережившее со мной все перетряски, усушки, утруски, все расстройства и переустройства жизни, служило мне путеводной звездой и в безводной литературной пустыне (кто есть кто в русской поэзии) и в бурной личной жизни (тяжелый том – почти булыжник).
СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕКВсе то, что сбылось наяву и во сне,Большая зима заметает извне —снегами, снегами, снегами…Серебряный век серебрится в окне,и светится враз и внутри, и вовне —стихами, стихами, стихами…Судьбу изживая вразнос и взахлеб,на паперти мы не просили на хлебв горючих слезах укоризны.Для тех, кто зажился – забыт и нелеп,сияют снега на просторах судеботчизны, отчизны, отчизны…Как облачный дым, проплывают века,в заснеженных далях сияет строкабессмертного русского слова.На нас упадают большие снега,словесный сугроб наметая, пока —и снова, и снова, и снова…2005Эта книга – мой талисман. Писатель, критик, преподаватель университета Мусарби Гисович Сокуров великодушно решил, что я имею на нее право, и однажды вырвал ее с корнем из своей прекрасной домашней библиотеки, чтобы подарить мне, несмышленой и начинающей (термин) поэтессе (вполне корректное слово), когда узнал, что я взяла академический отпуск для отъезда на экзотическую Чукотку с романтическими целями.
Такие чудесные проявления доброты и благородства со стороны самых разных людей сопровождали меня всю жизнь. Это и была моя лоция в житейском море. Мой блуждающий сад – любимые книги и добрые люди.
У меня прекрасная память – дурного не запоминаю.
Зато помню забавное. И все – на украинской мове. Один дальний родственник был страшно удивлен, услышав от меня, девятилетней, что в красном коммунистическом Китае был когда-то император.
«Звидкиля це ты знаешь, чи ты там була?» (Откуда ты это знаешь? Разве ты там была?) «Ну, что вы, дядя Петро, зачем же мне там быть? Я в книгах про это читала». «И ото ты пысаному – вирышь?!» (Так ты написанному – веришь?! Верю, как ни забавно, до сих пор написанному – верю.
11. Черное озеро
В саду у коммуниста и ветрено, и мглисто,
хотя вокруг простор такой звенящий.
В саду у демократа тепло и таровато,
хотя вокруг простор пустой и нищий.
От холода колея, бреду я по аллее:
зачем Господь не даровал мне брата?
Ведь всем не хватит места в саду
у коммуниста,
тем более в саду у демократа.
2001«Не поивши, не кормивши – врага не наживешь». Во мне всегда все протестовало против этой народной мудрости. Предки мои по материнской линии отличались невиданным хлебосольством, у дедушки за столом в годы послевоенной бескормицы едва ли не ежедень, по словам престарелых уже очевидцев, бывших некогда молодыми и голодными, сиживало людей до дюжины и свыше. И не все из них были родственниками.
Выручала деда тогда своя пасека: мед во все времена был «твердой валютой» и в сельской местности, и в малых городах. А не корми он дальнюю родню, соседей и заезжих «калик перехожих», мог бы нажить добра видимо-невидимо.
Но не собирал мой дед сокровищ на земле, а собирал их, согласно Писанию, на небе. И был, конечно же, наказан за свою доброту неоднократно и доносами, и склоками, и оговорами, и даже дожил до ситуации «Короля Лира Новосветловского уезда», когда родные дети пытались оставить его без крова. Скажу только, что доживал он последние годы в нашем с мамой доме.
Мама моя вполне годилась на роль Корнелии, и потому что была самой младшей из его восьми детей, и потому что любила его бескорыстно, без видов на наследство, которое взялись делить его старшие дети задолго до его кончины.
Эта история, запечатлевшаяся в моем детском сердце, должна была бы, казалось, меня чему-то научить. Ну, например, не доверять безоглядно людям.
Но не тут-то было. Наследственность, это не наследство, которое можно растратить или приумножить. И склонность у кого-то к накопительству, мздоимству или воровству, а у кого-то к обычаю кого ни попадя в дом зазывать, кормить-поить, пуховики взбивать – это род болезни, трудноизлечимой…
Не так давно я поняла, что жизнь меня так ничему и не научила. Видимо, голос крови сильнее голоса рассудка. И никакая ученость тут делу не поможет.
Это случилось, когда я услышала фразу, небрежно оброненную одной весьма ученой дамой, которой лично я неоднократно оказывала услуги гостеприимства теперь уже в своем лондонском доме: «Ваша доброта граничит с глупостью!».
Будем надеяться, что она имела в виду всего лишь мое искреннее побуждение принимать на постой кого-либо еще, кроме нее, единственно достойной внимания и остро нуждающейся в моей фамильной глупости – тире – гостеприимстве в тот некий по-житейски неуютный для нее момент.
Бог с ней, платившей мне неоднократно злом, весомым и конкретным. Теперь у нее тоже свой дом в Лондоне, бывают там всякие люди, глядишь, ей и вернется то, что она посеяла. Чего я, впрочем, не поймите меня превратно, ей не желаю.
Эта, мягко говоря, некорректная фраза ученой (по должности и виду деятельности) дамы (надо думать недоброй – от большого ума) напомнила мне уроки, которые давным-давно мне пыталась преподать жизнь. Да, я оказалась неспособной и не внушаемой ученицей.
Пусты мои закрома —вычищены подчистую.Все раздала – сама.Что же я так лютую?Что ж я одна, как перст?Всхлипы – на каждом вздохе.Что ж я не ставлю крестни на одном пройдохе?Склоки сведу к нулю,злые забуду свары —новым Добром набьюпустующие амбары.Урок первый был получен мною в студенческие годы, когда КГБ города Казани (расположенное тогда на Черном Озере и известное многим по книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут») завело на меня нешуточное «дело». Достаточно сказать, а говорю публично я об этом впервые, что за мной, двадцатитрехлетней девицей, каждый день присылали машину с молодым (весьма привлекательным, как запомнилось) офицером (может он уже и генерал какой в нынешнем ФСБ!) и возили на допросы, которые длились не один час.
Я уже написала было прощальное письмо маме, и получила неожиданный ответ в том духе, что вот, мол, ты же хотела быть русским писателем, значит, должна быть готова к гонениям, страданиям и бедам. А я тебя не брошу, посылки буду высылать, сообщи только – куда.
Были мы с мамой одни в целом свете, но тут и ежу стало бы понятно, что с такой мамой и мордовские лагеря не страшны!
Но, то ли директивы смягчающие пришли из центра по отношению к тем, кто читает запрещенные книги и, мало того, дает их почитать невинным и неразвращенным запретной литературой сокурсникам и коллегам по поэтическому казанскому цеху. Да и сами там пишут всякое-разное, пессимистически заразное! То ли просто проснулись в капитане КГБ, недавнем выпускнике филфака, добрые гены, но случилось непредвиденное и явно запретное.
Однажды следователь как бы нечаянно приподнял кипу бумаг на столе в поисках цитат из доносов и докладных записок в мой, разумеется, адрес. Сделал ли он это нарочно, теперь не узнать, но пока он показушно рылся в бумагах, я отчетливо увидела некоторые узнаваемые подписи под этими кляузами и оговорами! Вот уж не ожидала я в свои юные годы, что представляю такую опасность для общества…
Это были подписи друзей, сокурсников и даже двух-трех (пусть им икнется) отвергнутых поклонников. Их-то хоть понять было можно.
То, что меня после университета никуда не брали на работу, то, что мне пришлось уехать в Москву и там тоже многие годы работать «за штатом», на вольных хлебах, которые никогда не были и не будут обильными. То, что долго не выходили мои книги, не выпускали за границу (даже в Болгарию, которая считалась едва ли не шестнадцатой республикой!), все это следствие необъяснимого единодушия малознакомых друг с другом людей, порой питавшихся – с моей легкой руки – не только студенческими бутербродами с колбасой, но и запрещенными текстами воспоминаний Надежды Мандельштам, к примеру. То есть пищей, как ни судите, духовной.
* * *Разбить окно и выброситься прочь:там жизнь, там ночь —раскинулись деревья…Разбиться в кровь,пуститься в стон и плач.Зато не в сон и не в безделье.И чтобы лист оберточной бумагиприлип к лицу, впитал холодный пот.И полежать в спокойствии и мраке,покуда боль пройдет.А можно так: повиснуть на сукувниз головойи сочинять поэму…Я все, что не войдет туда, могураздать вокруг, как по кусочку хлеба —да не возьмут…И беспричинных слезвдруг разгадать и устранить причину.Все можно бы, когда б не этот свист,не этот визг, что издают машины.1967И что же было дальше? А дальше было то, что главная доносительница, лучшая подруга, просто-таки писавшая регулярные отчеты о наших поэтических посиделках, во главе которых я (по мнению оперативников) и пребывала (как главный злодей и организатор, а это уже и «статья» покруче), она – покаялась… Объяснила, что ее склонили к сотрудничеству, что угрожали исключением из университета, а она первая в их рабочей семье получает высшее образование. К тому же, у нее старые и больные родители, надышавшиеся за свою жизнь свинцом в типографском полуподвале. Что ей кормить их будет нужно на старости лет, а без диплома – никуда. Что она больше не будет…
Говорю обо всем этом только потому, что я ее простила – еще в те времена, а не сейчас, в безопасном и дальнем благодушии.
Видимо, во мне тогда проснулся дедушка с материнской стороны (как у Короля в «Обыкновенном чуде»). А вот если бы проснулась бабушка с отцовской стороны, то им всем, может быть, и не поздоровилось бы.
То есть пришлось бы мне (под влиянием уже дурной наследственности) написать доносы на самих доносителей! Чего, собственно, следствие и добивалось. Ибо им нужно было сколотить группу идеологических злоумышленников. А без такой группы дело «О салоне Лидии Григорьевой» распадалось и его пришлось закрыть за неимением веских и нелживых доказательств. Или просто новое поколение сотрудников КГБ, с высшим гуманитарным образованием, пыталось соблюдать видимость законности и презумпции невиновности.
Еще меня тогда, как я догадываюсь, спасла явная и, главное, бессмысленная ложь сочинителей доносов. В первый же день следователь, прямо как в кино, предложил мне закурить. Оказалось, что я не только не курю, но и страдаю от пассивного курения. Он был явно удивлен и для верности заглянул в бумаги.
Потом открылся еще один явный обман, потом откровенный оговор с моим невинным алиби в виде отсутствия в городе в момент якобы злостной, публичной антисоветской агитации.
После многих дней «доверительных разговоров» (кричал на меня и топал от злости ногами только полковник Морозов, которого, говорят, боялись и сами сотрудники) следователя все же осенило, что меня по-настоящему в этой, случайно выпавшей мне исторической эпохе, интересует не общественное устройство (царизм, коммунизм, брежневизм), а такая неопасная пустяковина, как изящная словесность в ее чистом виде. Хотя и за нее в древнем мире и языки вырывали, и глаза выкалывали, и на кол сажали. А уж в тридцатые годы двадцатого века…
Но тогда на дворе стояли ранние семидесятые. В моду у властей вошли «мягкие репрессии»: ссылку писателям сменили на высылку, а битье головой о стену в грязной камере – на многочасовые прессинги допросов.