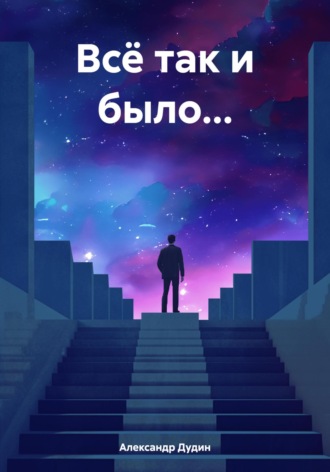
Полная версия
Всё так и было…
Всё свободное время чета Бутько трудилась над благоустройством своего жилища. За лето «облагородили» дом, пристроив к нему открытую террасу, разбили огород, привели в порядок небольшой яблоневый сад.
Прошло несколько лет. Арину повысили в должности. Заняв пост главного бухгалтера стройуправления, она всё чаще стала задерживаться на работе, переложив всю ответственность за ведение домашнего хозяйства и воспитание сына Вити на супруга.
– Хорошая у тебя работа, но уж больно ответственная и хлопотная, – выговаривал он жене, вернувшейся в очередной раз поздним вечером. – Макароны по-флотски сегодня приготовил. Прости, разносолов нет, да и, вообще, не мужское это дело – возиться у плиты.
– Ну?.. Шо тут такое случилось, милый?.. Я же не спрашиваю у тебя меню, ты ведь знаешь, что у меня диета, – отвечала Арина. – Я просто обязана работать, гро́ши просто так не делаются, а расходы увеличиваются. Вот машину купили, в том году на море ездили всей семьёй… Виктор растёт не по дням, а по часам. В прошлом сентябре к школе костюм купили, а в этом году он уже стал малым, новый надо покупать, цены то, сам знаешь, какие, да и нет ничего в магазинах, всё на рынке… Вот не даром моя бабуся говорила: «Пока вырастут детки с пшеничный сноп, свалят батьку с мамкой с ног».
Арина, став главбухом, продвинула и свою подругу на более высокую должность. Однако обязанности бухгалтера значительно отличались от работы кассира и вскоре медлительность, и неумение сосредоточится на одной выполняемой задаче, сыграли свою роль. Аза Фридман, поначалу, активно взялась за дело, однако, не успевая сводить счета в бухгалтерском учёте, она была вынуждена брать работу домой. Вскоре Арина поняла, что подруга не справляется с должностными обязанностями, и перевела её на прежнее место работы – кассиром.
– Шалава эта Аринка, а ещё подругой числилась! Как тебе это нравится, – жаловалась мужу Аза Самуиловна. – И не говори мне за неё в хорошем смысле. Я таки давно за ней следила и чего? На работе она хозяйка, а дома хто? Вот, скажи, ты домой идешь – дома убрано и помыто, ужин на столе. Ой-вей, и не дай Бог, что-то будет не так. А у ней Богдан – он и баба, и мужик!
Яков подошел к жене и, обняв за плечи, ответил:
– Ты настоящая хозяйка, но на работе всякое бывает, иной раз и поругаешься с кем, поспоришь. Надо учиться находить с людьми общий язык, где-то поблагодарить, где-то пожурить…
– Яша, не делай мне этих нервных намёков! Таки, зачем о ней говорить? Я давно знаю, что она так себя любит, шо может радовать без всякого повода! Я уже сама разберусь в своих отношениях с подружками!
И Аза разобралась… На следующий день она подала заявление об увольнении по собственному желанию.
С той поры и был вбит клин в отношения двух, некогда близких подруг.
Так год за годом и протекала жизнь в их семействах, так жили бы и жили, но настали другие времена. Страна медленно катилась по наклонной плоскости, потом, чуть ли не в одночасье, всё рухнуло. Строительное управление, в котором работали Фридманы и Бутько, обанкротилось, «пустив по́ миру» десятки работников. Не найдя достойного занятия в своём городе, Богдан с Яковом устроились монтажниками на работу вахтовым методом в небольшую строительную компанию, обслуживающую нефтегазовые месторождения. Арина и Аза остались дома. Бывшие подруги прекратили всякое общение. Копаясь в своих огородах, они иногда молча переглядывались через невысокий забор, разделяющий владения двух, некогда дружных семейств. Изредка их взгляды встречались и тогда обе отворачивались с гордым, независимым видом, будто пытаясь доказать друг другу своё превосходство.
Изредка Арине приносили на обработку бухгалтерские документы местные предприниматели, и она допоздна засиживалась за работой, коротая одиночество. Сын, после окончания школы поступил в техникум, но со второго курса был призван в армию и, после завершения срочной службы, подал документы в школу прапорщиков. Так и остался тянуть тяжёлую лямку армейской службы вдали от родных и близких, редко напоминая о себе короткими письмами и телефонными «у меня всё хорошо».
Яков с Азой детьми не обзавелись. Так и жили по соседству две одинокие женщины, бывшие, когда-то, близкими подругами.
4. Эпилог.
В дверь постучали. Арина встала и подошла к окну. Сквозь замёрзшее стекло она увидела еле заметные, расплывчатые силуэты. Арина накинула на плечи халат и вышла в сени:
– Кто там, – тихо спросила она.
За дверью раздался голос сына:
– Это мы, мама!
– Ой, Боженька мий! Як же так, – запричитала Арина, пытаясь открыть неподатливый замок дрожащими руками.
Переступив порог, сын обхватил своими сильными руками плечи матери, целуя и прижимаясь к её лицу, раскрасневшимися от мороза, щеками. Потом повернулся и громко проговорил:
– А это моя жена – Машенька!
– Як же так, сынку? Хоть бы телеграмму прислал или позвонил.
– Я звонил папе, он ведь с вахты послезавтра приезжает, так мы и подгадали к его приезду.
– Ну, проходьте в хату, – проговорила Арина, от волнения снова перейдя на смесь русских и украинских слов.
Пополудни этого же дня, чуть раньше намеченного срока, вернулись с вахты Богдан и Яков.
Арина с невесткой, по причине воссоединения семейства Бутько, принялись накрывать праздничный стол.
Богдан подошёл к сыну и тихо, чтобы не услышала жена, прошептал на ухо:
– Сынок, сбегай к Фридманам, пусть через часок приходят, посидим вместе, как раньше.
Через час сели к столу. Увидав в окне идущих соседей, Виктор бросился открывать дверь. Он помог Азе Самуиловне снять шубку и пригласил пришедших к столу:
– Ну, вот теперь мы и в сборе, как в лучшие старые времена, – торжественно произнёс он, наполняя бокалы, – давайте выпьем за встречу. «Бокал я поднимаю снова за нашу крепкую семью. Семья – опора для любого в любом краю».
– Эх, хорошо сказал, сынок, – поддержал тостующего Яков Ефремович, – столько лет минуло с первой нашей встречи. А вы помните, друзья, ту новогоднюю ночь, когда мы подружились. Столько времени прошло, а я, как и прежде, чувствую себя таким же молодым специалистом, заброшенным судьбой «к чёрту на кулички» и встретившим здесь своё счастье.
Все присутствующие заулыбались и весело захлопали в ладоши.
– А сейчас всех вас ждёт сюрприз, – сказала хозяйка дома и, наклонившись к Азе Самуиловне, сидящей рядом, продолжила полушёпотом, – пойдём, поможешь мне.
Женщины пришли на кухню. Арина молча обняла Азу за плечи, крепко прижав к себе и тихо, нежным голосом проговорила:
– Прости меня, подруга! Мне так тебя не хватает! Давай забудемо уси наши колишни сварки, и будемо жити дружно, як раньше.
Аза молча прижалась к подруге. В её глазах блеснули слезинки и медленно, скатились по раскрасневшимся от волнения щекам.
– А вот и мы, – одновременно воскликнули женщины, выйдя из кухни.
Они держали в руках поднос, на котором возвышался огромный рыбный пирог. Всё пространство комнаты мгновенно наполнилось запахом этого любимого семейного блюда.
Виктор соскочил со стула и по военному скомандовал:
– Все вместе – два коротких, один протяжный, – «Ура!»
– Ура! Ура! Ура-а-а! – пронеслось громкое многоголосье, залетая во все углы этого хлебосольного дома, дома, тепло которого многие годы согревало людей, живущих в нём, этого светлого жилища, наполненного любовью и нерушимой дружбой, неподвластной временам.
Женщины сели за стол. Арина обняла подругу, подняла бокал и запела:
Ой, хто пье, тому наливайте,
Хто не пье, тому не давайте,
Хто покаже в чарци дно,
Тому щастя и добро.
Ну, давай, давай, давай,
Помаленько наливай.
ЖИЛ-БЫЛ ЯМЩИК
Лошади стояли вдоль дороги, понурив головы. У большинства из них по заиндевевшим на морозе щекам стекали слёзы и падали в рыхлый декабрьский снег замерзающими на лету ледяными дробинками. Лошади плакали. Глядя на них, и работники лесозаводского конного двора всхлипывали, переминаясь с ноги на ногу. В этот день хоронили человека, вся жизнь которого прошла среди лошадей. Мимо них, мимо старого конного двора и стоящих молчаливой толпой работников конюшен медленно тянулась похоронная процессия. Вслед за старушками, нёсшими немногочисленные венки, двигалась тройка, запряжённая выездными санями. Коренник, привыкший к ходкому, быстрому бегу, рвался вперёд, еле сдерживаемый твёрдой рукой здоровенного мужика, державшего его под уздцы крепкой хваткой. Три бубенца, забытые под дугой коня, весело позванивали, как бы придавая некую несуразность этому траурному шествию. Пристяжные, прижавшись боками к кореннику, еле перебирали ногами, с безразличием поглядывая по сторонам. Они вряд ли осознавали, что везут в последний путь своего хозяина, отдавшего конному делу всю свою жизнь. Ещё недавно эта тройка, украшенная лентами, со звонкими бубенцами выезжала посоревноваться в фигурной езде и, управляемая умелым наездником, выполняла замысловатые фигуры – «восьмёрки» и «вольты». А теперь ей выпала доля везти своего хозяина к последнему пристанищу. Хоронили Тихона Ивановича без особых почестей. Был он человеком простым и не выносил чинопочитаний и угодничества.
Родился Тихон первенцем в семье зажиточного крестьянина, державшего постоялый двор на сибирском тракте. С детских лет родители приучали сына к деревенской работе: косить траву, сеять и убирать зерновые, чистить конюшню. Уже в семилетнем возрасте он выполнял небольшие родительские поручения, а как минуло шестнадцать годков, стал гонять ямщину, развозя почтовые грузы и купеческие товары. С наступлением январских холодов Тихон отправлялся вместе с отцом в Приангарье скупать пушнину у тунгусских охотников, ведь именно в это время у пушных зверьков был самый густой подшёрсток. С собой везли порох, свинцовые пули с дробью, посуду, украшения, мануфактуру и, конечно же, спирт. Без «огненной воды», в большинстве случаев, с хозяином стойбища договориться было невозможно. Собираясь в дальнюю дорогу, обязательно брали шубы на медвежьем или волчьем меху, поверх которых в сильные морозы надевали доху, представляющую собой громоздкое сооружение, сшитое из телячьих шкур, мехом внутрь и наружу. Купленную пушнину везли на ярмарку в Ирбит или дальше – в Тобольск.
Январские морозы в ту пору зачастую переваливали за отметку минус пятьдесят градусов, а доехать на лошадях нужно было до первого стойбища, где брали внаём оленьи упряжки, без которых дальнейший путь по таёжному бездорожью был невозможен.
Однажды, в один из таких морозных дней, Тихон ехал во главе обоза, возвращающегося из Туруханской тайги. Не доезжая каких-нибудь три-четыре версты до ближайшей деревни, его лошадь встала и, качнувшись из стороны в сторону, свалилась на бок. Мужики, остановив своих лошадок, подбежали узнать причину задержки. Передняя лошадь лежала, подёргиваясь всем телом. Храп её обмёрз толстой коркой льда, забив ноздри и не давая возможности дышать. Тихон, сбросив рукавицы, принялся обламывать на́морозь. Лошадь жадно хватила морозный воздух, потом, дёрнувшись всем телом, тяжело и часто задышала, выпуская из освобождённых ноздрей густые клубы пара. Мужики, поднатужившись, помогли ей подняться. Тихон набросил на спину животины доху, достал фляжку со спиртом и, отхлебнув пару глотков, взял её под уздцы. Он потянул лошадь за собой и, пройдя несколько шагов, побежал. Через пару-тройку сотен метров от лошади и самого возничего повалил густой пар. Вскоре за чёрным еловым пролеском показались дымки – это была деревня.
Особенно тяжело приходилось ямщикам, возившим почту. Зимой – забористые морозы, а летом – жара и нещадные сонмища кровопиющего гнуса. Однако труднее всего приходилось возничим-одиночкам и обозам продвигаться по осеннему и весеннему бездорожью, так как расстояние между станциями, вёрст в тридцать, приходилось преодолевать семь-восемь часов.
Любили конюхи Тихона Ивановича. Ох, и знатный рассказчик был Тихон Иванович. Порой, остановившись на ночлег в каком-нибудь постоялом дворе, при большом сборище ямщиков и другого проезжего люда «заваривал» он свои байки:
– Давненько это было, годков десять тому, – начинал он свой рассказ, – зашёл я в трактир отобедать. Сел, значится, супца́ горяченького заказал – сижу, пошвыркиваю, греюсь. За соседним столом – купчишки средней руки, мясцом потчуются. Мазнул один из них горчицей кусок говяды, кусил да весь так слезами и изошёлся: «Ох, и ядрёная у тебя горчичка!» – говорит, трактирщику, – а я, знай, сижу да посмеиваюсь. «Какая ж это горчица, – говорю, – масло чухонское, а не горчица. Вот полную ложку сейчас съем и не поперхнусь». Сидят купчишки, посмеиваются: «А ну-ка… давай-ка…» – встал один из них, левой рукой ложку свою большую мне суёт, а правой – «красненькой» помахивает. Ну, взял я ложку, черпанул полную, с верхом, – и в рот. Сижу, смакую… Купчики с места соскочили, стоят и рты раззявили, да делать неча, сказал слово – делай. Кладёт купчишка десятку передо мной, руки трясутся, жалко, знать не чаял, видно, что так обойдётся. Тут-то и понеслось: скучились постояльцы вокруг меня, и давай на стол деньги бросать, кто полтину, а кто и целковый. Накидали рублей двадцать, давай, дескать, ещё. Ну, думаю: где наша не пропадала. Зачерпнул я ложку и в рот. Опосля губы рукавом вытер, сунул деньги за пазуху, суп доел и поехал. С тех пор как в тот трактир заезжаю, так хозяин завсегда с почётом ко мне: «Здравствуй, Тихон Иванович! Проходи… чего желаешь, гость разлюбезный?»
Были, конечно, и такие, которые не всем байкам верили: «Съешь, Тихон, ложку горчицы прямо сейчас, тогда и поверим!» Но Тихон Иванович хитёр был: «Клади червонец на стол – враз съем, хоть две ложки». На этом разговор и заканчивался. Хоть и любопытно было мужикам увидеть воочию такое представление, да десятирублёвки жалко, всё же сумма значительная.
Так и ямщичил Тихон, объездив все самые далёкие закутки приенисейской тайги, от гор Саянских до Таймыра, а в четырнадцатом году, в самый раз перед Первой мировой, до самого Питера с обозом пушнины добрался. Там и царя-батюшку, самодержца российского, видел.
С приходом советской власти покатилось всё «под бугор». Отец умер, двор постоялый реквизировали под сельсоветовскую контору. Самого Тихона Ивановича вместе с двумя младшими братьями сослали на север, в небольшой городок на Енисее. Здесь-то вскоре и увидело тутошнее начальство его страсть к лошадям, и назначило заведовать конным двором при местном лесозаводе. Так и прожил, так и проработал Тихон Иванович на одном месте всю оставшуюся жизнь. Не бедно жилось, но и богатством не похвастать. Коровёнку держали, пару свинюшек да десяток кур. Жена в мир иной отошла, дочери замуж выскочили да на Урал с мужьями подались. Сыновья своими семьями обзавелись. Все далёко, только работа да конный двор, да подошедшая старость вот и всё, что осталось от прежней лихой ямщицкой жизни.
Лошади стояли вдоль дороги, склонив головы, и плакали, провожая в последний путь человека. Того, который всю свою жизнь посвятил им. Может, и скажет кто-то, мол, не могут животные плакать, нет в них души человеческой. Не правда! Нет души у того, кто думает так. Много слёз я видел на своём веку, и человечьих, и звериных, и скотины домашней; слёз телят и коров, которых на убой ведут, собак, избитых нерадивым хозяином… Я и сам, хоть и крепкий мужик, а плакал, и не стыжусь того. Ведь всякий, кто не потерял этого свойства – не утратил душевности, способности сопереживать ближнему. Прислушайтесь и вы к своим чувствам. Вспомните своих ближних, ушедших в мир иной и… поплачьте.
МАГАРЫЧ И ЧЕБУРАШКА
История эта случилась годков этак пятнадцать-двадцать тому назад. Жил в нашем дворе дед. Жил с давних времён, ещё с эвакуации в начале войны. Приехал он неизвестно откуда, то ли с Кубани, то ли с Донбасса. Да местные жители и не дознавались особо. Живёт человек и пусть себе живёт. Говорливый такой дедок, с хитринкой. И дня не проходило, чтобы он чего-нибудь не учудил. Имени старика никто не знал, а соседские бабуси прозвали его Магарычом. Как потребуется кому помощь по хозяйству: дровишек наколоть или там сенца подкосить – все к нему «помоги дедуля». Он руку в кулак сожмёт, большой палец кверху выпятит, мизинец оттопырит и с беззубой усмешкой прошамкает: «Магарыч!» – плата, значит, такая. Мы-то по причине юношеской неосведомлённости поначалу не понимали, что за «зверь» такой, этот «магарыч», а потом смекнули – выпить, мол, ему и закусить подавай за работу. Так он и пробавлялся – пенсию на сберкнижку положит, а за работу и выпьет, и поест.
Жил в соседнем дворе мужичок. Лет ему было под тридцать, а выглядел, как подросток. Личико маленькое, сморщенное, веснушчатое, а уши огромные, что твои лопухи. Вот за эти уши и прозвали его местные ребятишки «Чебурашкой». Родился он немощным, болезным. Мать, девка непутёвая, бросила его на попечение престарелой бабушки, да и укатила с хахалем на юга́, с той поры её и не видели. Мишка, так звали мужичка, по немощности и скудоумию своему в школе не учился. Поначалу было определили его в первый класс коррекционной школы, да потом и отчислили за полную неспособность к осмыслению учебных предметов. Так и жил он «без царя в голове», влачил свое незавидное существование. Подойдёт, бывало, к старушкам и смотрит на них с улыбкой. Те же, сердобольные, сунут ему, кто – конфетку, кто – пряник маковый. Отбежит Мишка в сторонку, сядет на корточки и запоёт. Слов не разобрать, а вот мотив ясно прослеживается: вроде как песенка из мультфильма про бременских музыкантов.
В один из летних вечеров встретились Магарыч и Мишка на скамейке подле дома. Посидели молча, но потом разговорились. О чём только не спрашивал дед паренька, тот лопочет по-своему – ни слова, ни полслова не разобрать. Ну и решил дед научить своего нового дружка правильной речи. Стихи разные читал, анекдоты рассказывал, байки всякие – повторяй, мол. А тот, знай себе, лепечет всякую околесицу. Поднадоело Магарычу, ну, думает, с политической точки зрения тебя возьму:
– Вот стишок тебе немудрёный скажу. Я-то его ещё с детских лет помню, когда в пионерах числился.
Он почесал затылок, пошевелил губами, будто вспоминая чего, и с явным удовольствием, махнув рукой, проговорил по слогам:
– Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич.
Удовлетворённый своей находчивостью, Магарыч достал из кармана видавший виды носовой платок, смачно высморкался и произнёс, покровительствующим тоном:
– Ну как? Ещё повторить, али как? – Мишка молчал.
Старого заело. Он начал ещё и ещё повторять с детства заученную фразу, кулаком постукивая по коленке в такт ударным слогам и неумышленно картавя на французский манер.
Мишка смотрел на него, не отводя глаз, потом резко встал, покрутил пальцем у виска и одним выдохом громко прокричал:
– Амини амини писи и пись уми на ленин ладимил исись!
С последней Мишкиной фразой над скамейкой распахнулось окно, в него выглянуло заспанноё лицо бабки Варвары. Помахав кулаком, она со злостью в голосе прокричала:
–А ну геть отседова! Я покажу вам… Устроили тута ликбез… Днём молодёжь галдит да на гитаре тренькает, вечером пришибленные стихи читают… Ни сна, ни покоя ни днём ни ночью!
Выдав нравоучительную тираду, старуха скрылась за дымчатой, с голубыми рюшечками, занавеской. Она долго ещё ходила по комнате, нудно ворча, но за плотно закрытым окном уже было не разобрать её заунывных причитаний.
Долго этот случай обсуждался во дворе. Каждый пересказывал его по своему разумению, неумело подражая Мишкиному говору. С той поры и повелось: нет-нет, да и ввернёт кто-нибудь в разговоре нечто этакое, чтобы непонятней было.
Да! Быстротечно наше время! Как будто вчера это было, а годков прошло – и не счесть.
Приехав после службы в свой городок, я уже не застал ни Магарыча, ни Чебурашки. Деда лет пять, как схоронили, следом и Мишкина бабка преставилась. Самого же Мишку отправили в пансионат для психически больных. С той поры о нём никто и не слышал. Вот только бабка Варвара ещё жива и так же, как и раньше, ворчит спросонья на голосящую под окнами юность. И двор, в котором прошли мои детские годы, остался таким же, как и много лет назад. Тот же сарай с поросшей мхом крышей. Тот же покосившийся забор, в дырявые прорехи которого проныривают в огород кудахтающие куры-хохлатки. Всё так же стоят поленицы берёзовых дров, только колют их уже другие мужики за ту же, не меняющуюся с годами валюту со смешным и непонятным для современной молодёжи названием – «Магарыч».
ЛОСЬКА
В посёлок Знаменский Фёдор Петрович Шевелёв приехал по производственным делам ненадолго. Завершив намеченную на день работу к четырём часам пополудни, он вышел из леспромхозовской конторы. Тёплый весенний день клонился к закату. С крыш ленивыми звеньками капала первая мартовская капель. Шустрые воробьи с весёлым чириканьем прыгали с ветки на ветку, радуясь началу весеннего потепления. Остановился Шевелёв в «заежке», пристроенной к сельсоветовской конторе. Наскоро перекусив, он налил чаю и принялся читать газеты, уложенные в портфель вместе с бутербродами заботливой женой.
На крыльце затопали, видимо, сбивая с валенок налипший снег. Через мгновение в комнату ввалился невысокого роста человек и громким басовитым голосом прокричал:
– А ну подымайся, человече! Приехал в родной леспромхоз, и носа не кажет. Давай, собирайся, у меня поживёшь, нечего по казённым углам ютиться.
Это был Мин Миныч Заледеев, старинный приятель Фёдора Петровича. Прикомандированный, не ожидая такого напора, натужно кряхтел, пытаясь вырваться из медвежьей хватки друга.
– Да отпусти же, чёрт кудлатый! Рёбра поломаешь!
Заледеев ослабил хватку и, не снимая шубы, прошёл в комнату. Он со всего маху опустился на заправленную кровать и, чуть отдышавшись, с покровительственным тоном продолжил:
– У меня будешь жить. Я баньку ещё в обед затопил. К нашему приходу готова будет. Ох и баня у меня, один раз истопишь, а жару-у-у, хоть всем посёлком мойся. Трифон Иванович, сосед мой, больно поддавать горазд, порой до ста двадцати градусов нагоняет. Я даже термометр возле полка́ повесил. У меня уши в трубочку, а он, знай себе, хлещется веником, да приговаривает: «Эх, хорошо! Ах, хорошо!» Веников – завались, хоть до лета из парилки не вылазь.
Фёдор Петрович неторопливо оделся, и стал небрежно запихивать вещи во всё сильнее разбухающий портфель. Через полчаса друзья уже были у Заледеева. В бане мылись недолго. Привыкший к городской помывке в домашней ванне и душе, Шёвелёв еле выдержал один заход в парилку. С лихорадочной поспешностью, похлестав веником по раскрасневшемуся телу, он шустро выскочил в мыльную комнатку и, окатившись холодной водой, развалился на скамейке, тяжело дыша. Через некоторое время вышел и Мин Миныч. Поглядев на обессилевшего друга, он, хитро улыбнувшись, заметил:
– Вот такие дела, Петрович! Плохо, когда от хорошего отвыкаешь. Я вот в прошлом годе к дочке ездил, так, представляешь, не могу мыться в их городских лоханях. Чешусь, и всё тут! Вроде и мылся, и не мылся! Как вертаюсь домой, в первую очередь – в баню. Тут-то и душу отведу и тело потешу. Парюсь до поры, покуда нутро не закипит.
– Когда в баньку шли, я под навесом у тебя животинку приметил, – перебил хозяина Фёдор Петрович и, тщательно вытирая тело махровым полотенцем, продолжил, – да в темноте не рассмотрел, никак корову или бычка завёл?
– Что ты! Два года назад, как раз в апреле, мужики с лесосеки приехали и лосёнка привезли. Матку, видно, браконьеры застрелили, а детёныша только народившегося в лесу бросили. Вот они его и подобрали, и в посёлок привезли. Я его и выходил. Он, пока маленький был, бегал за мной, как собачка. По весне в доме жил, а летом я ему место под навесом обустроил. Позже местные пацанята верхом на нём ездить стали, правда, без седла. Седло он не терпит. В первый же день соседская девчушка его «Лоськой» прозвала, так и приклеилась к нему эта кличка. Как подрос, в лес я его хотел отвести. Пошёл по грибы и его за собой увёл. Ну поплутал я, поплутал, смотрю, вроде потерялся Лоська. Я домой полным ходом. Во двор захожу, а он на крыльце стоит, меня дожидается. Калитка-то заперта была, так он через заплот в огороде перепрыгнул и – вот те на. А, нехай себе живёт, раз такое дело. Да и я уже с ним сроднился, всё какая-никакая, а живая душа рядом.
Через два дня Шевелёв, закончив запланированную работу в леспромхозе, отбыл в родной город, а ещё через неделю в районной газете вышла статья о лосенке, приручённом знаменским пенсионером.
Время пролетело быстро. В начале сентября, когда у сохатых начинается гон, Лоська исчез. Поначалу он отсутствовал два дня, а после возвращения снова исчез, теперь уже надолго. Минул месяц. Небо потяжелело, выпал первый октябрьский снежок. На неширокой, узкой речушке, протекающей за огородом, появились хрупкие ледяные забереги. Листья с рябины, стоящей в палисаднике, облетели, обнажив горящие под первыми утренними лучами восхода оранжево-красные грозди.



