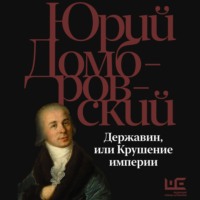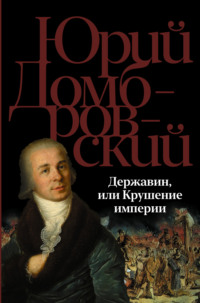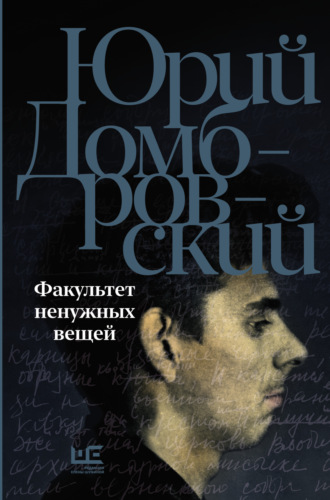
Полная версия
Факультет ненужных вещей
– Если уж не повезет… – сказал он ей тяжело.
– А что-нибудь очень важное? – спросила она его сочувственно, даже несколько по-женски.
И от этого его вдруг взорвало окончательно.
– Слушайте, – сказал он запальчиво. – А что это у вас за петрушка там под стеклом? Ну, у полковника в кабинете – под стеклом, что это там? Зрачок, а в нем финка. Универсальное вещественное доказательство на все случаи жизни? Так?
– А что? – спросила она, слегка улыбаясь.
– Да ничего, просто было интересно увидеть, как теперь фабрикуются вещественные доказательства. Заранее, значит, загодя. И много у вас этого добра?
Тон у него был неприятный, колючий.
– Вы что, допрашиваете или просто интересуетесь? – спросила она, все еще продолжая улыбаться.
– Ну что вы, что вы! – поднял он обе ладони, в нем все клокотало и прыгало, про браунинг он уже не помнил. – Какое же я, я имею право вас допрашивать? Нет, это вы меня допрашиваете. Это с меня тут снимают показания, запирают, держат, замыкают – меня, меня, меня! Это я задержан! А когда ж задержанный допрашивал следователя?!
– Вы не задержаны, – обрезала Аникеева, – и я не ваш следователь.
– Да? – весело удивился он. – В самом деле? Я не задержанный, вы не мой следователь? Ну так тогда, может, мне просто встать да и уйти, а?
– Очень, очень у вас странный тон, – сказала она. – Странный, чтоб не сказать больше.
– А вот вы скажите, – попросил он мягко и ненавидяще. – Скажите больше. Назовите это не тоном, а вылазкой, клеветой, дискредитацией органов. Там, где на червячке лжи выуживают рыбку правды – так сказал старик Полоний, – все, все возможно.
– Это вы про лейтенанта? – спросила она. – Он был груб? Уличал вас в чем-то? Это у нас абсолютно не положено.
Он вдруг замолчал. Она приходила ему на помощь: разговор с властей она переводила на лица.
Она пошла и села напротив него.
– Я понимаю, вы куда-то торопитесь, а вас задержали, – сказала она мягко. – Но все равно, разве можно быть таким… ну, нервным, что ли. Ведь это бред какой-то! – Она усмехнулась. – Червячок, рыбка, какой-то там Полоний.
– Слушайте, ради бога, – загорелся он опять и вскочил. – Я вам достану контрамарку в гостеатр, сходите с мужем, или с лейтенантом Зеленым, или не знаю там с кем на “Гамлета”. Хоть раз в жизни да сходите!
Теперь они сидели разделенные столом и смотрели друг другу в лицо.
– А знаете, – вдруг совсем по-женски вспыхнула она, – не пошли бы вы со своим театром и контрамаркой!.. Если я захочу сходить в театр…
– Так вот вы и захотите, – сказал он упрямо и угрюмо и, как бык, наклонил голову. – Так вот вы обязательно захотите. В мое время, например, студенты юридического факультета знали классиков, знали, кто такой Полоний, а вас только и натаскивают: прижми, расколи, уличи, выяви. Эх, даже противно говорить… – Он осекся и махнул рукой.
– То есть что это значит “расколи”? – спросила она сурово. – Не “расколи”, а “установи” – это две разные вещи.
– Но устанавливать-то вы будете как? – крикнул он. – Вот эти подлые фото показывать да лгать напропалую? Да? Так?
Она поколебалась и вдруг решила принять бой.
– Да, так, старший научный сотрудник. Так! Если отбросить слово “подлые”, то так. Назначение следствия – выявить истину. Вы ведь тоже кончали юридический? Да? По истории права. Так вот, ваш факультет был в то время факультетом ненужных вещей – наукой о формальностях, бумажках и процедурах. А нас учили устанавливать истину.
– А как устанавливать – на это наплевать? – спросил он. – Например, вот мне показывают ордер на арест моей жены. Говорят: не подпишешь, кто виноват, – сегодня же твоя жена будет сидеть рядом. Так я подпишу! Так я что угодно подпишу! Потребуйте, чтобы я показал, что убил, ограбил, поезд свернул с рельсов, – так я покажу и это. Но только жену не трогайте.
– И скажете, где спрятано награбленное? – спросила она спокойно. – И выдадите вещественные улики? И назовете всех сообщников? И тем дадите нам возможность прервать вашу преступную деятельность? Да, тогда и подлог имеет смысл, и та “подлая” фотография тоже.
– Какое счастье, что я не женат! – воскликнул он. – Значит, все мое золото останется при мне! Все двадцать пять килограммов плюс пятьдесят килограммов серебра! И сообщников я вам тоже не выдам. – Он снял трубку и через 01 вызвал отдел хранения. Клара подошла сейчас же. Она как будто сидела и ждала его звонка.
– Здравствуйте, моя радость, – сказал он ласково. – Здравствуйте, хорошая моя. Вот какое дело. Меня задерживают в милиции, а у меня деловое свидание с Полиной Юрьевной. Ну, все насчет тех костей. Так вот, сейчас три часа, а в четыре нужно подойти к фонтану, и она там будет. Так вот… – Он быстро оглянулся на Аникееву, но она уже вышла и притворила за собой дверь.
Он просидел до вечера. А вечером пришли они оба: она и Зеленый.
– Извините, – сказал Зеленый хмуро. – Задержали. – Он сел. – Начальство сердится, – сказал он Аникеевой, – директора полковник при мне вызвал, разговор был у них! Беда! – Он засмеялся и покрутил головой.
Усмехнулась и Аникеева.
Очевидно, и она понимала, что значит допрашивать директора.
– Так вот, – сказал Зеленый, делаясь опять совершенно серьезным. – На музей нашим командованием возложена тяжелая ответственность. Он обязан загладить нанесенный ущерб. И в первую очередь это относится именно к вам – руководителю отдела.
– Здорово! – вырвалось у Зыбина. – А я тут при чем?
Зеленый поморщился.
– Вот при чем тут вы! – ответил он ворчливо. – Валюта-то уплыла, и никто не виноват. Вы обязаны были предвидеть такие казусы, на то вы и руководитель отдела. Вы предупреждали дирекцию, что находки золота возможны? Что вот однажды могут прийти и принести его? И как надо тогда поступать? Ведь вы говорили об этом? Зачем же вы сейчас отрекаетесь?
– Нет, – покачал головой Зыбин. – Я ничего не говорил. Не приходило как-то в голову.
– Да? Ну а вот тут у нас есть сведения, что вы несколько раз предупреждали. Как же так не предупреждали? А как только первые кружочки стали попадаться вам в руки, что вы сказали тогда директору? Не помните? А я вот помню. Вы сказали, что надо смотреть в оба. Так? (Зыбин промолчал.) Ну хорошо, вы поставили в свое время в известность дирекцию, – смягчился Зеленый (видно было, что действительно за Зыбиным он никакой вины не находил – для этого он был слишком оперативным работником. Вину понимал прямо и ясно – как действие и бездействие, но не как недостаток ясновидения). – Вы сказали ему, а он ноль внимания, за это тоже на него ложится немалая доля ответственности, но вы же специалист, и раз видите, что директор так наплевательски относится к вашим предупреждениям, вы должны были нам сра-зу же сообщить свои соображения, а мы бы вот директора вызвали да и поговорили бы с ним по-свойски. Вот золото бы и не уплыло. А теперь вы оба в ответе. Но вы археолог, с вас спроса больше.
– Меньше, – вдруг неожиданно сказала Аникеева. – Археолог Зыбин свое сделал, он при трех свидетелях свое мнение заявил, а на его сигнал не обратили внимания, при чем же он?
– Рапорт, рапорт нужно было подать! – крикнул Зеленый. – И копию еще снять! Чтоб документ лежал у него в кармашке. Тогда бы, конечно…
Аникеева покачала головой, но ничего не сказала.
– Ну не я же все это выдумал, в конце концов, – сердито огрызнулся Зеленый. – Его же приятели это говорят. Те самые, кого он поил каждый день. И говорят еще, что картотека черт знает в каком состоянии. Никакого учета. Нужен экспонат, а его не найдешь. Я-то тут при чем? – И вдруг рассердился окончательно. – Ладно, давайте кончать. Если все вокруг проворонили, то, конечно, что же спрашивать с одного человека! Вот подпишите эту бумагу, и всё! Идите отдыхайте. Не бойтесь, это же пустая формальность! Вот пропуск! Спокойной ночи! Идите! Не волнуйтесь!
Город Алма-Ата. 1 сентября 1937 года.
Я, Зыбин Георгий Николаевич, проживающий в городе Алма-Ата, улица Карла Маркса, 62, даю настоящую подписку следователю милиции по Алма-Атинской области Зеленому А. И. в том, что до окончания предварительного следствия и суда в преступлении, предусмотренном 112-й ст. УК РСФСР (преступная халатность), обязуюсь не выезжать с места своего жительства без разрешения следователя и суда и явиться по требованию следственных или судебных органов.
Обвиняемый…
Подписку отобрал…
Вышел он из управления уже в девятом часу. Было совсем темно. Он постоял, подумал и вдруг ринулся на угол к автомату. Назвал нужный номер, телефонистка соединила, и ни-кто не ответил. Он перезвонил, стоял, кусал губы, понимал, что ее нет дома, но все-таки стоял и ждал, пока со станции не ответили: “Абонент не подходит”, тогда он швырнул трубку, вышел и хлопнул дверью так, что все зазвенело. “Опять упустил… – сказал он громко. – Ах ты…” И быстро пошел, почти побежал, добежал до дома и вдруг застыл. В окнах горел свет. Яркий, открытый, наглый. На занавеске стояло округлое черно-зеленое пятно. Кто-то рылся в его столе. Он полез в карман. Ключи были там. Значит, дверь они попросту взломали. В столе лежит коробка патронов. Они их уже нашли. Ну, значит – всё. Он мгновенно сообразил это и еще сотни других мелочей и разностей – и важных, и совершенно не важных, потому что сейчас все было совершенно не важно, ибо ничего нельзя было уже поделать. И вдруг он больно стукнулся головой о дерево: оказывается, он все отступал и отступал, все пятился и пятился, пока не налетел на ограду парка.
Это сразу отрезвило его, и он подумал: “А подписка-то? Зачем тогда они отбирают подписку-то?” Но сейчас же понял, что “зачем” тут ни к чему, и не такое еще сейчас случается, а в общем, никто не знает, что сейчас случается, а что нет, и не об этом нужно думать, и надо что-то немедленно решать. Бежать к директору – ведь он ждет его звонка. Пусть сейчас же он трезвонит по всем вертушкам и требует остановить, отменить, задержать. Да, да – бежать к директору. Он отошел от ограды парка, сделал два шага и тут же почувствовал – именно почувствовал, а не понял, – что все это глупость, ерунда, бред собачий и теперь уже и это ни к чему. У них же ордер! А ордер сильнее всего на свете. И ему вспомнилось, как только месяц назад он был поняты́м и военный ему предъявил ордер на право обыска и ареста его соседа. И как он тогда, увидев эту гнусную зубчатую бумажку с синим факсимиле внизу, онемел, отупел и просидел два часа не шелохнувшись. И таким-то он был тогда смиренным, и все понимающим, и согласным во всем, что просто плюнуть хочется. И как он, когда тот несчастный обращал на него глаза, быстро отворачивался. Вот и директор теперь тоже отвернется. Нет, надо кончать. Чего зря пугать людей?
Он нашел дыру в ограде – ребята выломали один прут, – протиснулся сквозь нее боком и зашагал к могилам. Могил было две: генерала Колпаковского и его супруги. Когда-то здесь находились цветники, стояла ограда, висела неугасимая лампадка. Сейчас ничего не было. Только две огромные глыбины из красного гранита да черная якорная цепь над ними – смертная двуспальная опочивальня! Цепь огораживала этот кусочек парка от мира. Она тоже, конечно, что-то обозначала: вероятно, последнюю пристань, державность брака, нерасторжимость душ, крепость смерти, а вернее всего, как поется в церкви: “Оглашенные, изыдите”. Вот цепь, вот камень, вот крест – на этом месте кончилось земное и началось небесное. Не подходите, оглашенные, – сие место свято! Но оглашенные не ушли, а начисто растаскали все, что только могли. Даже мрамор с фамилиями и то утащили, и только цепь над двумя безымянными могилами по-прежнему висела в древесной сырой полутьме и пугала случайные парочки. Директор не раз собирался убрать или просто взорвать эти глыбины, да руки все не доходили. А потом и он, Зыбин, вмешался. Он сказал: “Все это как-никак, а история, краеведение. Времена меняются. Вот Хабаров уже опять великий человек, и Кутузов тоже великий человек, и даже суворовский музей открыт опять в Ленинграде. Так мало ли что! Повремените”. И могилы остались. Под одной из глыбин у Зыбина был тайник. Как-то очень давно, ранней весной, он обнаружил под одной плитой дыру. Рука уходила в нее по плечо. Бог знает, что это было: нора, правда тайник или просто земля осела под камнем. Тогда, во всяком случае, в дыре была только жидкая грязь, и он забыл о тайнике. А вспомнил о нем внезапно через месяц, когда ему пришлось прятать от деда бутылку коньяка. А потом тайник служил ему верой и правдой по всяким случаям круглый год. И сейчас он опять отыскал его и спустил туда браунинг, фонарик и охотничий нож. “Еще хорошо, – подумал он, – что не обыскали”. А впрочем, сейчас и на это наплевать.
И вдруг он почувствовал страшную усталость – не боль, не страх, не тоску, а именно усталость. “Так вот где таилась погибель моя”, – подумал он. А ведь еще сегодня утром он купался в горной речке, карабкался по пригорку, слушал кузнечиков и стоял под свежим горным ветром. Как это все-таки удивительно! А самые-то две последние мысли его были – первая: “Так, значит, все-таки так и не удалось встретиться с Линой”. И вторая: “А может, все-таки не поддаваться им, сбежать”. До Или верст тридцать пять. Туда ходят порожняки. Вскочил на подножку и уехал, и до утра его не хватятся. А на Или жар, сухая степь, раскаленная земля, желтая река. Склоны, обрывы, уступы – черный, зеленый, синий камень, и по нему мечутся кеклики, те самые жирные круглые птицы, которые никогда не водились на Карагалинке. А сползешь с уступов вниз, и откроется глинистая широкая гладь вся в сухих тростниках и камнях. Безлюдье, тишь, только через каждые семь – десять верст попадаются рыбацкие землянки с белыми тростниковыми крышами. Иди до китайской границы, никого не встретишь. А там, в Китае… И вдруг он понял, что сходит с ума, что сидит на могиле и бредит. Он поднялся, отряхнулся, нашел в кармане зажигалку, щелкнул ею, осветил серую неуклюжую глыбину. Да, действительно, место последнего причала. Тут уж ничего не скажешь! Генерал Колпаковский, генеральша Колпаковская! “Прощайте, покойнички! Ведь каждый день я проходил мимо ваших превосходительств и даже не замечал вас. А вы ведь город этот построили, парк этот разбили, благодетельствовали, покоряли, искореняли, насаждали, а я так про вас ничего и не знаю. Не дошла еще до вас моя наука, слишком вы для нее молоды. Сто лет – разве это срок для археологии? Но все равно вас скоро вспомнят. Вспомнят, черт их побери, помяните мое слово! Притащат мраморные плиты и бронзой насекут на них ваши имена. А вот цепь, пожалуй, отнимут – ни к чему, скажут, она у нас в стране! Все течет, все меняется, дорогие покойнички! И вот истории уже нужны генералы. А ты, молодая, чудная, в короне, фате и золотом уборе, убитая неизвестно кем и за что, ты, чью голову я сегодня держал в ладонях…”
И вдруг необычайное умиление, расслабленность и растроганность овладели им.
Он сел опять на глыбу и обтер глаза.
Посидел, подумал, поулыбался неизвестно чему и кому, потом встал, пересек газон, вышел на асфальт и остановился под фонарем. Свет был желтый, жидкий, противный. Он стоял, опустив руки и голову, и ни о чем и ни о ком уже не думал, а только стискивал и стискивал себя в кулак.
Прошло десять минут, двадцать, полчаса – он все стоял. Ему надо было вживаться, уйти в себя, поверить в то, что произойдет с ним сейчас, сию минуту, во всяком случае, в этот час. Вот он войдет к себе, и сразу окажется, что этот дом уже не его, а их, а ему они прикажут сесть и не двигаться, выпотрошат карманы, посадят в машину между двумя и увезут. И он будет уже не он, а некто с обрезанными пуговицами и без шнурков, которого два раза выводят на оправку и раз на прогулку, допрашивают, ругают, грозят и приказывают в чем-то сознаться, чтоб не было хуже. Вот все это ему надо было себе представить, уверовать в это и решиться.
Веселая парочка прошла мимо него. Он стоял на дороге, и им пришлось его обойти. В конце аллеи они обернулись, и она что-то сказала ему, он засмеялся. Зыбин вспыхнул и пошел. Шел он четкими, уверенными, солдатскими шагами. Раз-два, ать-а! Ничего в нем уже не замирало и не ёкало. Он был спокоен. Он был так спокоен, что и страха в нем уже не осталось. “Ну по-смотрим, посмотрим, господа хорошие”, – вздрагивало в нем что-то злое, решительное и почти радостное. Таким он зашел на крыльцо и со всего размаху пнул дверь. Она сразу же отскочила. В тамбуре было темно и тихо. Крошечная коридорная лампочка освещала три двери – две белые и одну черную. Черная на чердак, правая белая – к соседу, левая белая – его. И только что он занес ногу, чтоб ткнуть со всего размаху эту левую белую, как вдруг запел Вертинский. “Вот сволочи, – подумал он ошалело, – совести у них уж никакой”, – и не пнул, как собирался, а тихонько открыл дверь, так, что она не скрипнула.
На столе, покрытом белой свежей скатертью, стоял патефон, и над ним колдовал Петька, электротехник музея. В кресле сидел дед. “Понятые”, – понял он. И тут он вдруг увидел Лину. Она появилась из глубины комнаты, подошла к Петьке и жарко наклонилась над ним. На ней был алый шарф. В волосах торчала высокая гребенка. Все было беззвучно, как в немом кино. Он так остолбенел, что ухватился за дверь, и она скрипнула.
И тут его увидел дед.
– Появился, – сказал он насмешливо. – Ты мне ведро водки должен поставить. Еле-еле удержал твоих красавиц. Пять раз уж собирались идти. Водку, спрашиваю, принес? А то сейчас к шоферам пошлю.
Все обернулись. Зыбин стоял на пороге. Все было странно и чудно, точно во сне.
– Лина, – сказал он подавленно. – А я сейчас хотел бежать к вам.
Она засмеялась, шарф упал, и теперь свет бил вовсю по ней, по ее голым плечам.
– А вы всегда, Георгий Николаевич, много хотите и ничего не делаете, – сказала она спокойно и радостно. И он вздрогнул от ее голоса, оттого, что все это на самом деле.
– Лина! – крикнул он, бросаясь к ней. – Лина!
– Здравствуйте, здравствуйте, дорогой, – она протянула ему обе руки и этим как бы приблизила и вместе с тем удержала на расстоянии, – ну-ка дайте взглянуть на вас. Ой, похудел, почернел, погрубел, но ничего, ничего! Все такой же красивый.
– Он золото, – прохрипел дед. – Он пятьсот стоит. Если бы пил меньше…
– Да нет, меньше никак не выходит, – засмеялась Лина и наконец развела руки: разрешила себя обнять. – Компания не та. Мы вас с Кларой уже часа два ждем, все около дома на лавочке сидели. А вот встретился молодой человек и привел сюда. Оказывается, у вас один ключ ко всем дверям подходит. Обчистят вас когда-нибудь до нитки, товарищ дорогой.
– А что у него воровать-то? – прищурился дед. – Бумаги? Я ему говорю, дай на пол-литра, я все их на тачке зараз свезу в утиль.
– Лина, милая Лина. – Он обнимал ее и прижимал к себе, и глаза у него были мокрые от слез.
Она немного постояла, потом тихонько отстранилась и ласково сказала:
– Ну, ну, ладно, ладно, потом. Вы вот перед Кларой-то извинитесь, она все время звонила директору.
Вот тут он и увидел Клару. Быть может, на ней горел отраженный свет Лины, может, весь мир сделался для него в эти минуты прекрасным, но Клара сейчас показалась ему очень красивой. Высокая, тонкая, стройная, с матовым спокойным лицом и черно-синими волосами. И платье было на ней черное и глухое.
“Похожая на черное распятье”, – вспомнил он чью-то строчку.
– Ну так все в порядке? – спросила она тихо, подходя. На мгновение он задумался, потому что начисто забыл про все и все это надо было вспоминать сначала, а потом бухнул:
– В порядке, я расписку уж дал.
– Какую? – испугалась Лина.
– Как? – схватила его за руку Клара.
– А это чтоб не убежал, – сказал дед понимающе, – а то заберет золото да и махнет в Америку. Такие события тоже бывают. Вот когда я у Шахворостова купца работал, казначей у него был, такая пьяница горькая, беспортошная, а знаешь как воображал про себя? Так вот раз тоже забрал из магазина выручку за неделю да и…
– Так ведь золота он даже и не видел, – беспокойно сказала Клара и оглянулась на деда.
– А там разберут, разберут, видел он или не видел, – отрезал дед и махнул рукой. – Там все до ниточки разберут – кто он, откуда, когда родился, когда женился.
Вот директора как вызвали туда, так и пропал. Только оттуда допустили позвонить – запри, мол, кабинет, и пусть ученый сразу ко мне бегит, если его не посадят, конечно. В восемь часов велел зайти.
– Что? – вскочил Зыбин. – Так что ж ты…
И как раз зазвонил телефон. Клара подошла и сняла трубку.
– Да, – сказала она. – Да! Вот передаю. – И протянула трубку Зыбину.
– Ты что, живой? – спросил директор жизнерадостно. – А я уж звонил в милицию, что, мол, мучаете нашу ученую часть. Что они там от тебя хотят? Золота?
– Подписку отобрали, – ответил Зыбин.
– Что?! – сразу взвился директор. – Подписку?.. И ты небось сразу и дал? Эх, шляпа! Зачем же было давать? Ты б хоть со мной посоветовался, а то небось оробел и сразу же подписал. Эх, шляпа, шляпа. Ну ладно, беда невелика. Дед у тебя? Всё пьете? И Клару на радостях поите небось? Ты смотри! Я сегодня посмотрел – у нее губы посинели. А кто еще там у тебя?
– Петр и дед, – ответил Зыбин.
– И всё? Ты смотри, брат, все прошляпишь, – сказал директор, – и ту, и эту! Ну ладно. Поговорим. Спокойной ночи. И завтра на службе чтоб как стеклышко! Чтоб весь звенел, понял?
Когда он отошел от телефона, Лина была уже в плаще.
– Вы сначала меня проводите, – приказала она, – а потом Кларочку доведете до дому. – Она подхватила Клару под руку. – Пойдемте, моя хорошая, вы ведь тоже устали и изнервничались. Ух, какие у вас в Алма-Ате ночи!
Дед идти отказался.
– Вы уж одни, вы все молодые, веселые, у вас свои разговоры, а мне завтра с петухами вставать. Мне даром никто деньги платить не желает. Так что прощенья просим.
И ушел, твердо надев картуз и даже не покачиваясь.
– Вы заприте дверь, – приказала Лина с порога, когда все вышли. – Как же так, оставлять дом ночью открытым, что так плохо за вами ваши женщины смотрят?
Луна висела над собором большая, мутно-прозрачная, как кусок янтаря над свечкой. Было светло и тихо, и даже тополя не шумели. Лина вдруг остановилась посредине улицы, откинула голову и несколько раз глубоко вобрала воздух.
– Чувствуете море? – сказала она, хватая Зыбина за руку. – Оно вон, вон за той аллеей! И тополя такие же, только совсем тихие. Помните, как вы их называли? Цыганками! Там, Кларочка, у них каждый листочек дрожит. А здесь они у вас стоят не шелохнутся.
– Но это они до разу, – обиделся за свои тополя Петька, – как ветер налетит, так сразу зашумят, как пена в тазу.
Лина посмотрела на него и рассмеялась.
– Нет, Петр Николаевич, вы просто прелесть, – сказала она и подхватила его под руку. – Как пена в тазу. Жена стирает на ночь в тазике блузку и вешает над примусом, чтоб к утру просохла, а муж ворочается во сне и слышит. Вы женаты, Петр Николаевич?
Петька отвернулся.
– Нет, – сказал он угрюмо.
– Ну и не надо, – весело посоветовала ему Лина. – Еще успеете запрячься. Вот Георгий Николаевич никогда не женится. Сколько бы ни собирался, а не сумеет. Я его знаю. Мы старые друзья. Кларочка, а далеко отсюда до большой воды?
– Да верст, наверное, тридцать пять будет, – ответил Зыбин. – Поезд идет почти полтора часа. – И чуть не добавил: “Отходит в семь тринадцать от городской платформы”.
И сейчас же он снова увидел спокойную глинистую реку, сыпучую гальку, сухой белый и желтый тростник, скалистые берега из синих, желтых, черных, белых, разноцветных камней. Жара, сушь и так сохнет во рту, что даже вода освежает только на минуту.
– Как-нибудь обязательно съездим, – сказала Лина. – Ладно, Кларочка?
Она уже подхватила Клару под руку. А та шла и смотрела через верхушки тополей на горы, на голубые от луны горные леса. Вопрос Лины она так и не расслышала.
А Лина уже опять повернулась к Петьке.
– Совершенно морской город, – сказала она уверенно. – Здесь море живет в каждом доме, в каждом тополе. Я сразу вспомнила – черноморские бульвары такие. Впрочем, их надо видеть. Георгий Николаевич, а помните тот парк, где вы в тире выиграли матрешку? Вы знаете, Кларочка, она и до сих пор стоит у меня на буфете. Такая огромная! Подарочная! С полметра! Вы никогда не были на море, Кларочка?
Клара покачала головой. Она все так же неподвижно смотрела на лунное небо и горные мохнатые перевалы.
– Ну вот и отлично, соберемся все и поедем. Вы еще отпуска-то не брали, хранитель? Ну и не берите! Возьмем вместе в апреле или в мае. – Они остановились перед гостиницей. – Ну вот, товарищи, я и дома. Спасибо. Теперь проводите Кларочку и – спать, спать, Георгий Николаевич, я вам завтра позвоню после работы, хорошо?
– Хорошо, – ответил он. – Только, если можно, попозднее, я завтра еду в одно место и, наверно, задержусь.
– Это куда же?
– Ну по работе надо.