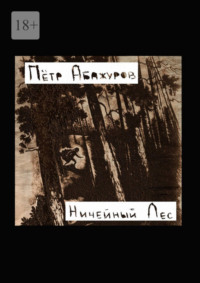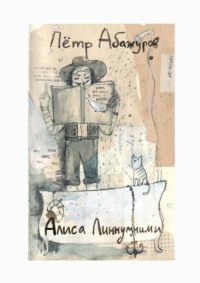Полная версия
Звезда-окраина

Звезда-окраина
Пётр Абажуров
Корректор Дарья Максимова
© Пётр Абажуров, 2024
ISBN 978-5-0062-8336-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пётр Абажуров.
Звезда – Окраина.
Содержание:
1. Склянка разбушевалась.
2. Иерусалим земной и небесный.
3. Смех посреди революции или злоключения отрубленной головы Людовика XVI-го.
4. «Разрушен Карфаген? – спросил меня у брода…»
5. N и хранители оловянных рыб.
6. Короткая сказка (Премудрый халиф).
7. Автобус безымянный
8. Кот, который умел читать слово сметана.
9. C понедельника по пятницу кроме вторника.
10. Травы Аравии
11. Замечтался о тебе.
12. Красная невесомость.
13. Бюро странных предположений.
14. Ангел в трамвае.
15. «Свет-луна златые кудри…»
16. Комитет сокрушенных сердец.
17. «Сложно поверить, но мыши чувствуют гром…»
18. Звезда-окраина.
19. «Если спросить человека, о чём он печалится…»
20. Дорога домой.
1. Склянка разбушевалась
Жил на свете один писатель, написал он книгу большую, да надоели ему персонажи её, и решил он их всех из произведения своего прогнать за плохое поведение. Персонажи же были такие: Склянка, Будильник, Канделябр и Иван Иваныч, что с ними в одной квартире жил. Склянка над всеми посмеивалась, полагая себя красивее всех – такая она прозрачная, круглая и, с какой стороны не посмотри, вся блестит. А если кто, как она выражалась, на её свободу покушался, то есть заливал в неё то, что ей было не по нутру, то начинала она бушевать и всех ругать почем зря. «Ну вот опять Склянка разбушевалась», – сказал писатель, кончив очередную главу. Очень ему поведение её не нравилось. Вот он и решил её разбить, чтобы больше не портила она всем остальным настроение.
Будильник тоже заводился с пол-оборота. Стоило на него хоть чуть-чуть надавить – начинал звенеть и дребезжать. Не терпел он никакого над собой посягательства. Ужасно надоело это писателю, и решил он, что полезнее будет сдать его на металлолом и превратить в ложки и вилки. Так он и поступил в продолжении своей повести.
Канделябр же был ужасно высокомерен, полагая что без него остальным ну никак не обойтись. «Это я озаряю светом вашу унылую жизнь, без меня сидели бы вы все в темноте, как раки на дне реки, и питались бы отбросами». Ужасно раздражала писателя эта его заносчивость, и решил он, что Иван Иваныч, который с ним в одной квартире жил, сдаст канделябр в ломбард, а на вырученные деньги мороженого себе купит – четыре фунта. Съел Иван Иваныч мороженое и не угостил никого. Очень это не понравилось писателю, и решил он с Иваном Ивановичем поступить сурово: пришли к нему домой да на войну забрали. Так и стала квартира на Большой Почтовой пустой, и не о ком писателю стало истории придумывать. Очень это ему не понравилось, но ничего поделать было уже нельзя. Склянка разбита, будильник на вилки и ложки переплавлен, Иван Иваныч на войне, и за канделябром в ломбард сходить некому. Загрустил писатель да бросил писательство своё: уехал в деревню жить, а книгу свою на полку положил. Так и стал он сам из автора персонажем. Вот я-то теперь и решу, что с ним делать!
2. Иерусалим земной и небесный
Кочевник-поэт, блуждая со стадами от города к городу, от стоянки к стоянке, писал стихи в книгах отзывов и предложений придорожных кафе. На нём была рубаха, сшитая из обрезков одежд, которые сумасшедшие иногда бросают из окон своих квартир вместе с прочим хламом. Оседлые цыгане принимали его за Мессию, который пришёл, чтобы Сподвигнуть их вновь отправиться в дальние странствия, и кормили его лепешками с фасолью. Их дети, когда он ложился спать на траве, не подложив под голову даже своей походной сумы, водили вокруг него хороводы, а верные овцы обгладывали края рубахи и брюк. Он не различал времен года, потому как был стар и с годами научился видеть во всякой зиме признаки лета, а во всякой весне – черты, предвещавшие скорую осень.
Он влюблялся в каждую женщину, которая осмеливалась с ним заговорить, и, хотя никогда не мог удержать в памяти желанный образ, отлично помнил звучание голоса. Отправляясь в новые странствия, он обещал сообщать о себе. Он писал милым его сердцу письма на вагонах поездов, отходящих в их города и сёла, но, не дожидаясь ответа, влекомый желанием насадить в своём воображении всё новые и новые образы, подобно деревьям и кустам, отдавался дороге.
Он снимал всё, что видел, на фотоаппарат, в котором не было плёнки, но не знал об этом, думая, что кассета вот-вот закончится и вскоре можно будет поменять её на новую.
Свои рассказы он писал внутри чужих, забытых на автобусных остановках книг, между строк, а закончив, давал почитать первым встречным. Потом люди эти, сталкиваясь с кочевником-пастухом повторно среди гаражей или на пустырях, говорили, что рассказы, вопреки их ожиданиям, не переплетаются, а он отвечал: «Читайте дальше, они обязательно сольются воедино». Он не надеялся встретить случайных знакомцев вновь и заполучить обратно своё произведение.
В одном городе, кажется, это был Воронеж, он устроился работать пожарным, но никто не знал номера его телефона, которого у него и не было, как не было и адреса. И хотя он всегда появлялся в нужное время и в нужном месте, его уволили, заподозрив, что именно он и является поджигателем, иначе как объяснить его невероятную осведомлённость? В этом же городе, должно быть, это и вправду был Воронеж, жила беглая негритянская принцесса, которая шила платья и плела кружева для местных барышень, а ещё по вечерам ходила на занятия в Восточный институт Искренности, Сердечности и Глубины. Он решил жениться на ней и стать беглым африканским королём, и, быть может, даже вернуться на свою новую далёкую Родину, и воцариться среди туземных племён. Но слишком многие желали её руки, и безработному пожарному, хоть и со своим стадом, она предпочла торговца ветошью с местной барахолки, который снабжал её истрёпанными тканями. Тогда поэт-бедуин снова тронулся в путь. Порой, задумавшись о чём-то, он в забытьи отрывал таблички с номерами домов и вертел их в руках, а после, когда наконец обнаруживал их у себя на ладонях, не мог вспомнить, на какой улице стояло здание, теперь лишенное опознавательного знака, да и есть ли в таком маленьком городе настолько длинная улица, на которой есть постройка за номером 68? Тогда стоящий рядом дом 15 становился домом 1568, что, в сущности, было правдой, ведь время кочевника – это круг, а пространство – линия, линия его пути, вдоль которой и расположены все встреченные жилища.
Порой его зазывали в гости местные жители. Для таких случаев он носил с собой маленькую семидюймовую виниловую пластинку из театрального реквизита со звуками перестука вагонных колёс. Он ставил её в проигрыватель и мерно беседовал с хозяином, будто сидя в вагоне плацкарте и мчась в гущу холодной ночной дали, ведь душа его не приемлела оседлости даже на короткий срок.
– Почему исчезли кочевники? – спросили его как-то раз. – Как так вышло, что потомки Гази, завоевателей, сами стали Райа, то есть стадом? Неужто души людей обмельчали, стали более земными, им не нужен больше калейдоскоп образов, впечатлений, воспоминаний? Неужели не мило людям больше солнце, играющее в колосьях дикой пшеницы, а вид весенней пашни милее скачущего на горизонте в закатных лучах табуна лошадей? Неужто людям не хочется больше принадлежать вселенной, видеть звёздное небо над головой, а хочется жить под толщей цемента и быть приписанными к посадам и вилайетам?
– Души людей не поменялись, друг мой, оттого и страдают. Но если все опять начнут блуждать по земле, как во времена пророков, с кого Калифы будут собирать подать? – ответил номад, а потом, поблагодарив домовладельца за гостеприимство, снова погнал своё стадо на новое кочевье.
Но однажды в одном из его снов вдруг раздался телефонный звонок, хотя у него и никогда не было телефона. Он очень удивился, но всё же взял трубку и, не зная на каком из великого множества известных ему языков будет происходить разговор, сказал одинаковое у всех народов: «Ало».
Это был его дядя – самый близкий для него человек в той, былой жизни, когда он ещё жил на улице Дружбы народов в хрущёвке, пропахшей с первого по пятый этаж сигаретным дымом, с окнами, выходящими одной стороной на детский сад, а другой – на старое, заросшее мхом финское кладбище. Дядя Элик, так его звали при жизни, умел гадать по часам: он звонил в «точное время» и по сочетанию полученных цифр что-то себе уяснял.
– Где ты и что ты сейчас? – задал вопрос пастух.
И дядя ответил:
– Я раб, всего лишь раб, но здесь это самая почётная должность…
– Но где же ты?
– В Иерусалиме, – ответил он и тотчас же повесил трубку.
Раб, но в каком Иерусалиме – Земном или Небесном? – рассуждал кочевник и, не в силах дознаться до истины, решил тут же отправиться со своими стадами в Палестину, в которой давно уже отменили рабство, но он об этом ничего не знал, как, впрочем, и о том, что в мире этом существуют границы как для людей, так и для скотины.
И вот когда гурт тронулся в путь, повинуясь одной только его мысли, в этот момент он и проснулся. Он долго перебирал в уме недавно виденные города, посёлки и деревни, пытаясь понять, где же он теперь. Быть может, это Тамбов или Пудож, Ирбит или Елец? Или он уже пересек горные хребты Кавказа, и это какой-то из городов Сирии или Триполитании? Но, оглядываясь вокруг, он видел только свет. Когда же глаза его привыкли, он обнаружил, что стадо его паслось на зеленой траве, а рядом сидел тот самый случайный встречный, которому он дал почитать своё последнее произведение. У него было лицо обычного глубинного русского колобродника, всегда готового поговорить о чём угодно, но одет он был в камис-рубаху пророка Мохаммеда, красный солдатский плащ, превращённый в мантию, в котором судили Христа, и сарпуш Заратустры и читал книгу, написанную между строк. Закончив, он отложил томик в сторону и сказал:
– Всё же в конце сюжеты переплелись, как ты и говорил. Один был сном, а другой – явью. И в конце герой проснулся. Только ты мне скажи, какой из сюжетов был настоящим, происходил действительности?
– Да я пока и сам не пойму, – ответил поэт-пастырь и принялся пересчитывать овец.
3. Смех посреди революции или злоключения отрубленной головы Людовика XVI-го
Непросто убивать живых существ. Противно это человеческой природе, и потому прогресс изобрел конвейеры смерти – машины, благодаря которым человек не чувствует себя причастным к убийству: ружьё, мортиру, гильотину. Человеку, направившему на другого револьвер, нужно только нажать на курок, остальное же за него сделает пуля. Стреляющий же из пушки и вовсе не видит своего противника. При гильотинировании палач также не убивает, а только лишь дергает за рычаг, открывающий защёлку, которая удерживает лезвие. Но, может быть, раз никто не заносил руку над жертвой, в метафизическом смысле убийства не происходит? А раз так, нет и смерти в подлинном смысле, ведь всякому действию предшествуют слово и мысль человеческая? Может быть, однажды так и произошло.
Долго думали французы, казнить ли короля своего Людовика, или пускай остаётся он среди живых, и что это совсем не вредно ни для него, ни для общества. Уже была убита и расчленена Мадам Ламбаль – доверенная королевы. Её напудренная и напомаженная голова была пронесена на пике через весь Париж. Это была поистине людоедская процессия, ведь сзади шли люди, несшие на пиках другие части её тела: ноги, руки, половые органы. Кто-то шел, обмотавшись в кишки сюр-интендантки высочайшего двора и держа в руках её сердце, на ходу зубами отрывая от него куски. Её голова была поднята на уровень окон королевского дворца Тюрильи, и разгорячённая толпа требовала, чтобы Мария Антуанетта поцеловала свою бывшую подругу. Казалось бы, дорога смерти и насилию открыта и нет больше оков у захватившего всех безумия. Однако вопрос смерти короля был вопросом глубоко политическим, ведь воинственная Пруссия грозила разрушением Парижа в случае посягательства на жизнь Августа. Мнения разделились. Жирондисты стояли на позициях гуманности: «В сущности, ума в этой голове немного, поэтому соединена она с телом или нет – разница не велика. Несильно она ему и мешает быть ослом о двух ногах».
Монтаньяры же, хотя их лидер и был автором самой знаменитой речи о запрете смертной казни, считали, что головы рубить надо непременно и если отрубить меньше ста тысяч, то Франция так и останется под ярмом прошлого. И королевский абажур для количества вполне сойдёт, так как ничем не лучше и не хуже любого другого, ведь декларация прав провозгласила равенство всех людей на планете. Кроме того, раз уж прусский военачальник, герцог Бранденбургский, так уж хочет войны, он должен её получить.
«Бешеные» же сказали, что вопрос надо решать в целом и, чтобы перевоспитать человека, надо начинать с его прадедушки, и потому надо бы сперва отрубить голову Кардиналу Ришелье, ведь Людовик Четырнадцатый, праотец нынешнего, шестнадцатого, был вовсе не сыном своего венценосного предка, а приблудным дитя романа великого кардинала и королевы Анны. Победили как всегда монтаньяры, так как умели доказывать свою точку зрения дубинками мужиков, по первому их зову приходящими под стены конвента.
И вот настал день казни 23 января 1793-го года. Людовика привезли на площадь Революции. Он произнёс предсмертные слова, на которые никто не обратил внимания, подобно тому как многодетная мать не обращает внимания на капризы своих детей. По команде палача он лёг на плаху, и тяжёлый нож гуманной машины революционного возмездия, гильотины, упал с высоты. Голова правителя после отсечения свалилась в корзину. Площадь зашумела, раздались дружные крики: «Да здравствует нация! Да здравствует республика!» Толпа бросилась к эшафоту с носовыми платками, чтобы окунуть их в кровь низвергнутого властителя и сохранить в качестве сувениров. Корзина была опрокинута, голова покатилась по эшафоту и упала на мостовую. Народ засуетился, ища реликвию, но всё без толку, ведь она закатилась за телегу, попала прямо под колесо. Извозчик долго не мог понять, что мешает ему тронуться с места. Пришлось ему всё собственноручно обследовать и лезть под ступицу. Каково же было его удивление, когда там он увидел Людовика, обезумевший взгляд которого будто бы говорил: «Не выдавай меня на растерзание всей этой воинствующей черни, не говори никому, что я здесь!» Решив, что это ему померещилось, и не будучи дураком, возчик сообразил, что сможет на этом дельце, которое приняло для него столь удачный оборот, кое-что выгадать, если распишет знакомому трактирщику всю, так сказать, перспективу, ведь если тот насадит отсечённую королевскую бестолковку на пику подле своего заведения, то за неделю озолотится. Положил он голову незаметно в холщовую сумку да и уехал с площади.
Приехал он к знакомой харчевне на улице Сент-Антуан, сумку оставил на телеге, а хозяина вызвал на крыльцо для разговора. Услышала беседу эту голова и пришла в ужас оттого, что украшать ей придётся вход в кабак, что будет над ней подлый люд, отродье хамово, потешаться, а вороны вскоре склюют ей глаза. Решила она бежать покуда не поздно. Скатилась она опять с телеги, ударилась оземь и нос себе разбила, но покатилась дальше. Покатилась по Парижу, подальше от всех этих конвентов, национальных гвардий и деклараций, в общем, ото всего того, что так больно ей в шею вонзилось. Однако ошибочно полагал Людовик, что революционеры – это самая большая для него опасность. И обернулось бы всё для него как нельзя лучше, и докатился бы он так до самого Нанси, да только оказалось, что куда страшнее революционеров бродячие собаки. Как попался он им, и стали они его глодать, так Робеспьер с Маратом показались ему милее и нежнее родной матери. В конце концов, если б не был я таким простофилей, то с ними можно было бы и сговориться, как-никак люди это, а не звери дикие.
Чуть было не съели его живоглоты. На счастье, оказался рядом задний двор театра. Покатилась голова прочь от уличных псов да прямо к ногам директора.
– Батюшки, – воскликнул он. – Так это же его бывшее величество! Его подлатать немного – и можно ставить спектакль!
Отдал директор голову кукольнику, и тот раны ржавой, тупой иглой зашивать стал. Людовик было начал протестовать, но тогда зажали его череп в тиски, отчего предыдущая экзекуция показалась ему ласковее детской колыбельной. Но ничего поделать было уже нельзя: объяснить кукольнику, что он согласен терпеть всё, если его освободят из зажимного механизма, он уже не мог – изо рта его вырывался только крик.
А директор, тем временем, наскоро слепив сценарий спектакля, уже расхаживал по близлежащим улицам, зазывая всех на представление:
– Внимание, внимание! Только сегодня низвергнутый монарх Луи Капет, по прозвищу Пекарь, казнённый и воскресший, живьём сыграет самого себя в пьесе «23 января 1793 года»!
– Как воскрес? – недоумевала толпа. – Неужели, как и на Голгофе, казнили невинного?! И какая участь ждёт теперь Францию? Будет ли рассеян наш народ по земле подобно еврейскому за грех убийства пастыря своего?
Но директор театра прикидывался несведущим, желая увильнуть от назойливых расспросов, но только ради того, чтобы появиться на соседней улице и повторить то же объявление.
Пришлось Людовику снова ложиться под нож, да ещё и терпеть страшную боль, когда его шею пришивали к воротнику сюртука, в который влезал актёр, дабы расхаживать по сцене. Пришлось произносить свою предсмертную речь по три раза на дню: «Я умираю невиновным во всех преступлениях, в которых меня обвиняют, и молю Бога простить врагам моим», – да и вообще переживать этот не самый приятный момент своей жизни снова и снова. А ещё надо было падать на деревянный импровизированный эшафот – сцену, когда бровью, а когда и носом, и вновь набивать себе шишки.
Тысячи парижан, готовых платить по пять и даже восемь ливров за места на первых рядах, осаждали театр, чтобы посмотреть на такое чудо – воскресшего государя, но не каждому доставался вожделенный билет.
Зашел как-то раз в театр Дантон. Заприметила сразу его голова, отчаянным усилием шейных мышц оторвалась от сюртука, докатилась до края сцены да ругаться начала, мол, из-за тебя вся эта свистопляска: «И чего вам не жилось при Бурбонах!»
– Как так, – сказал Дантон. – Кто позволил голове Людовика речи произносить? Это вызывает упадок духа народа! Позвал он нацгвардейцев и велел им голову схватить и судить заново. Казалось бы, можно вырвать Людовику язык, но в конвенте было решено, что такая мера противоречит духу революции, самой бескровной и гуманной в человеческой истории. Возникла идея обменять голову на пару итальянских княжеств, а что с ней папа римский будет делать – не нашего ума дело. Ну а что если голова эта армию возглавит? Нет, надо её пришить к телу козла, тогда все со смеху помрут. На том и сошлись. И действительно, как увидели французы своего бывшего государя с телом козла, так все начали смеяться, хоть революция – это дело и серьёзное. Засмеялись Елисейские поля, засмеялась площадь Перевёрнутого трона, засмеялось Сэнт-Антуанское предместье. Засмеялись судьи, отправлявшие на гильотину по сотне-две врагов нации за день, засмеялись надзиратели, висельники и палачи, члены конвента и обычные работяги.
Казалось бы, хорошо заканчивать революцию смехом, ведь, смеясь над другими, смеешься и над самим собой, вспоминая себя в похожих ситуациях. И вернули бы, наверное Людовика на трон в таком виде.
И действительно, в Париже даже организовали шуточную демонстрацию под монархическими знаменами и сборище это в шутку даже велели разогнать. Но всем известно, что безудержный смех – в то же время и предвестник большой беды.
Был один человек, по прозвищу Баламут, который не смеялся. Вот его-то по случайному стечению обстоятельств и отправили разгонять эту собрание. Его собственная революция только начиналась.
4
Разрушен Карфаген? – спросил меня у бродаОдетый в тогу хмурый ветшанин.– Как знать… вчера, я слышал, воеводаСреди платанов что-то с жаром говорил…Но я на тракте, путь покрыт туманом,Хоть и на гноище дороги все ведут,Не различить – то Рим или Иваново?Или пустырь, где будет кончен твой маршрут?Спасительный твой образ вновь потерян,Как упустив в ночи полярную звезду,Усталый путник, хоть и был конечно беден,Но новых бед обрящет череду.Мы начали наш путь друг к другу с расставанияВ начале лета, чтобы встреться зимой.Такая доля у людей – почить в изгнании,Из рая в то, что бес не назовёт тюрьмой.И что нас ждёт в дали, за перевалом?Каким мы будем отданы мучителям?Всё нынче хуже, колют тонким жалом…Был человек, а станет просто местным жителем.Вот Карфаген отстроен в прежнем блеске,И, заприметив мой унылый вид,На перекрестке добродушный полицейскийМне штраф назначить за проступок не спешит…И блюз – от слова «blue», печаль – от слова «чаять»,До времени не знал, покамест был глухим,И угадать не мог, что бога повстречаю,Когда его я имя заменю твоим.Но ты не пишешь, и в твоём молчанииНе пляшут больше раненые птицы,На горизонте тёмным очертаниемПустыня не явит свои гробницы.И травы не шумят под сводом белой ночи,Не слышу больше скрежета ветров,В безмолвии на гвозди заколоченТвой посреди чащобы одинокий кров.И едут на Урал за каменным углёмТоварные составы через мхи, болотины,С которых мы тобой наверное не сойдемНа полустанке ветхом под табличкой «Родина».Её, страну, которой, может, вовсе нет в природе,На барахолке выменял на что-то пьяный вор,Народных песен не поёт никто в народе,И непевучим стал обычный разговор…Но как бы отыскать избушку у реки,Часовню на холме, одетую в сирень?Но Китеж-града звоны близки-далеки,Да и в бюро находок неприёмный день…Твой сад не заскрипит во мне калиткой,И тихим птицам не спою я нежных песен,Но будет по камням моя блуждать кибитка,И лишь извозчик будет вечно пьян и весел.Любя тебя, благословлял и палача,Любил тирана, всякое уродство,Ведь если мир увидеть с твоего плеча,То с веком Золотым во всём заметно сходство.И Кострома была привычно на-Амуре,Ростов – на-Темзе, а Нью-Йорк на Керженце.И было зло всегда нескладно и понуро,Пока созвездия читал в твоём лице.Что не случилось, то придёт тревожным сном…Кому спасибо, что была ты так светлаИ что на паперти забытого Христом,Хоть на мгновение, но всё-таки спасла?5. N и хранители оловянных рыб
Красота N как аксиома, из которых составляешь всё остальное. Как то, что есть начало и конец. Или как то, что можно петь о том, что лежишь, хотя, на самом деле, стоишь. Кто-то зачем-то вытащил это на поверхность. Красоту, которая и так составляет невидимую ткань мира. Вот появляется N, какая-то ненужная очевидность. Потому что она и так есть, случалось ли тебе о ней подумать или же нет. И вот появляется N. И ты говоришь: «Но ведь это и так было очевидно». И ты говоришь: «Ну да, ну да». Как будто это не человек, а аргумент, который бросил в кухонном споре твой невидимый гость.
N жила в деревне, неподалёку от райцентра, в Тульской области. Это было особенное место. Семь месяцев в году здесь была зима, шел снег, а ещё три месяца – снег с дождём, хоть Тула – это и не север. N ходила по ледяному лесу босиком и ела конфеты, ведь кроме хлеба, конфет и рыбных консервов в деревенском магазине, не сильно изменившемся со времен, когда назывался он сельпо, ничего не продавалось.
В возрасте девяти лет, ей приснился сон, что она спотыкается и падает в снег, в большой сугроб, и утопает в нём, но сугроб этот становится рекой, и вот она уже плывёт по ней подо льдом, под толщей чёрной воды, но плывёт против течения, и река одна за другой снимает с неё её ветхие одежды, но оттого ей становится только теплее. Позади, унесённые водой в глубину континента, остаются не только ветошь, но и её слабости и детские страхи, и наконец вплывает она в Северный Океан по единственной в мире реке, которая не впадает в него, а, напротив, вытекает. И знает она теперь, что всегда будет чиста, как чисты ледяные воды вокруг неё. С тех пор среди всех времен года предпочтение она отдавала зиме, а себя считала рыбой в теле человека.
Любимым местом её был мост, с которого в деревне рыбачили – удочкой или спиннингами. Летом, в тиши вечеров, она видела в бликах водной глади отражения старых деревянных храмов и колоколен, которых не было за её спиной, но которые, возможно, когда-то стояли здесь. Это был как бы Китеж-град наоборот. Не подводный, а надземный. Часто здесь она находила самодельные оловянные блёсны в форме рыб, подбирала их и вручала первому встречному, и тот, кому она подарила блесну, становился как бы её сообщником, членом тайного, негласного товарищества.