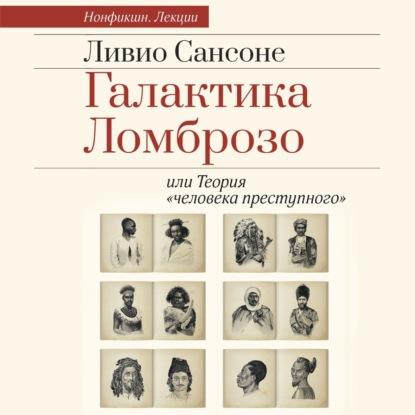Полная версия
Галактика Ломброзо или Теория «человека преступного»
6
Этот пролог был удален из второго издания, вышедшего в 1938 году на средства Министерства культуры и под редакцией Артура Рамоса (Артур Рамос – известный бразильский психолог и антрополог, возглавлял отдел социальных наук ЮНЕСКО, посвятил борьбе с расизмом всю жизнь, за что дважды сидел в тюрьме.). В 1904 году, во времена первого издания, пролог ЧЛ открывал двери, но в 1938 году он мог их закрыть. Это стало бы препятствием для признания Нины в качестве первого этнографа афро-бразильского мира. А проект Артура Рамоса, написавшего новое длинное предисловие ко второму изданию, сделал Нину вполне приемлемым автором.
7
Кверино, вероятно, был первым чернокожим этнографом в Бразилии. Большая часть его работ, целиком посвященных Баии, была издана посмертно (он скончался в 1923 году). В последнее время интерес к трудам этого чернокожего интеллектуала заметно вырос, со стороны специалистов по прикладным исследованиям (Gledhill 2021).
8
Священнослужитель в религии йоруба.
9
Мариза Корреа (1996: 357, прим. 22) указывает, что в прологе к книге L’anthropologie criminelle et ses recents progress/Криминальная антропология: последние достижения (Paris: Felix Alcan, 1896) ЧЛ написал посвящение группе исследователей, среди которых упоминался и Нина Родригес, названных les apôtres de l’anthropologie criminelle en Europe (апостолами криминологической антропологии в Европе, фр.). Альфаниу Пейшоту в предисловии и эпилоге второго издания As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil (1932) и Артур Рамос в Loucura e crime (1937) делают аналогичные утверждения.
10
Кажется, в архиве Лакассаня в Лионе хранятся несколько коротких писем Нины – простых открыток, отправленных вместе с копиями его собственных публикаций.
11
Странный механизм, который в архивах подсовывает нам важный документ в то время, как мы ищем что-то из совсем другой области.