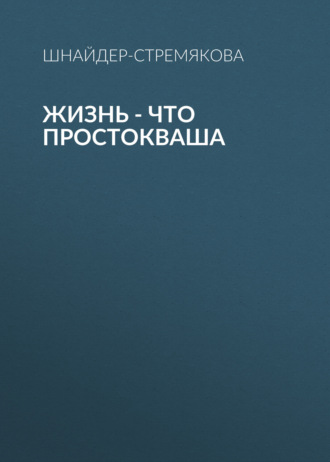
Полная версия
Жизнь – что простокваша
На тележке из досок в один ряд сооружаем из толстых, прочных коровьих лепёшек оградку в наш детский рост, внутрь аккуратно складываем мелкие лепёшки, выпиваем по бутылке молока, которой рано утром снабжают нас, и уезжаем.
По расчётам мамы и няни, мы должны вернуться до большой жары, но, как все 7-летние дети, не управляемся: начинаем работу лишь, когда набалуемся. Тележка оказывается иной раз очень тяжёлой и с трудом двигается по целине. Берёмся за одно колесо, затем за другое и выбираемся на место поровнее.
Вот, наконец, и грунтовая дорога! На обратном пути у неё скат. Повисая брюшиной на перекладине, по очереди парим на ней, растопырив, как птицы, руки, и легко управляем воздушным телом, чтобы не опрокинуть груз. Домой возвращаемся счастливо уставшие.
Иногда с бабкой Василихой, низенькой, худенькой и юркой соседкой, отправляемся корчевать пни бывшего берёзового колка[6]. Она показывает, как это делается.
Берём топор и пилу, и рано утром её и наша тележка катят по деревенской улице. Большие пни нам не под силу, корчуем тонкие длинные корни. Наблюдать, как отлипает земля, любоваться узорчатой паутиной и неповторимым кружевом стремящихся вдаль нитей, что ищут, чем бы напитать дерево, – такое волшебство! У пня жила толщает. Чтобы оторвать её, подсовываем деревяшку попрочнее и, как на батуте, прыгаем; если корень не отламывается, отпиливаем.
Бабка Василиха уезжает с тележкой, нагруженной толстыми пнями, а у нас нет и полтележки. Вскоре она, к нашей чёрной зависти, появляется снова. К вечеру привозим что-то вроде мелких жердинок, съедаем лепёшки из смеси отрубей и картошки, выпиваем молоко и засыпаем. Вставать утром рано – пытка, просим разрешить выспаться, дать передышку. Мама с няней непреклонны:
– Пока сухо и нет дождей, надо поработать, постараться запастись хотя бы этими дровами. Кроме вас, помочь некому – не замерзать же зимой!
Однажды, засыпая, надумали не уступить бабке Василихе и привезти дров столько же. Наставили вертикально тонкие корневые жердинки, соорудили подобие высокой бабкиной тележки и решили: не уедем, пока не наберём сооружение. Гордые собою, мы возвращались в сумерках. Мать подоила корову и уже волновалась… Бабка Василиха сидела на нашем подворье и первая заметила нас:
– Наконец-то! Вон они, Элла, едут! Я, было, тож начала уже волноваться.
Мама вышла из сарая, увидела наш груз и ахнула: впряжённые в телегу, мы с трудом его тянули.
– Ставьте тележку, разгружать будете завтра.
– Молодцы, девчатки, обскакали бабку Василиху!
От кизяков много золы и мало тепла. Экономно расходуют тот хворост, которым удаётся запастись для растопки.
Начальная школа
В сентябре – первый раз в первый класс. Желая нас подготовить, бабушка Лиза раздобыла после новогодних праздников 1944 года старый букварь и попросила Лилю Цвингер:
– Помоги девчонкам, позанимайся с ними.
Мне интересно – я легко запоминаю буквы и успешно складываю слоги. Маше Цвингер, старшей сестре Лили, вздумалось проверить, чему она нас научила.
– Ма-ма мы-ла ра-му, – прочла я, старательно растягивая слоги.
– Теперь, Иза, твоя очередь.
– Не хочу – пусть Тоня читает.
– Она уже читала, у неё получается.
– А я не буду.
– Читать не будешь?
– Заниматься не буду.
– Почему?
– За меня Тоня учиться будет. Мы похожи – учитель не разберётся!
– А ты что будешь делать?
– Играть.
– Ты ленивая?
– Нет, не ленивая, но лучше бегать и играть в жмурки.
Первого сентября в школу отправилась я одна. Прихожу – Иза спрашивает:
– И что было интересного?
– Каждому дали камышовую ручку с пером, чистую, всамделишнюю тетрадку, палочки писали, учительница меня хвалила.
– А учительница какая?
– Красивая. На ней розовое платье. Пойдёшь – увидишь.
– И много вас – в классе?
– Много… Наверное, пятнадцать.
Иза выслушала и решила:
– Ничего интересного – не пойду!
Перед школой она переболела скарлатиной – теперь её жалели и не принуждали. Сентябрь я занималась – Иза била баклуши. В октябре учительница не выдержала – вызвала маму.
– Элла Александровна, почему Изольда не ходит в школу? Нехорошо, ведь близнецы! Плохо, если одна выучится, а другая останется неучем. Вырастет – вас же обвинит.
Мама сшила портфель и уговорила Изу учиться: «Неучем быть стыдно».
Портфель Изе понравился, и она выдвинула условие:
– Только носить его буду я.
Я согласилась: младшим полагалось уступать, но скоро он ей надоел, и носить его приходилось мне – как-никак, я была старше на целых 30 минут!
Портфель стал предметом зависти беспортфельных, и школе запомнился надолго. Из защитного материала, с карманчиком впереди – для чернильницы, – он служил нам все четыре года начальной школы.
По годам самые маленькие и не выдавшиеся ростом, мы сидели за первой партой. В военные и послевоенные времена переростки составляли большинство: семилетних было трое; десятилетних – столько же, далее шли 12-13-летние и даже два 18-летних.
Учительница путает нас, Иза этим пользуется – щипается, когда не знает ответа. Я вскакиваю, отвечаю – подлога никто не замечает. Когда ей бывает скучно, кладёт кудрявую головку на парту и нарочито громко храпит. Учительница подходит и, поглаживая, тихо говорит:
– Иза, спать на уроках нельзя.
– Ой, какой я интересный сон видела! – потягивается она, притворно зевая.
Придвинулась как-то впритык и, будто тормозной путь проверяли, толкнула – я грохнулась и растянулась меж рядов. Взрыв хохота – она довольна и лукаво оправдывается: «Нечаянно же!»
На переменах я ходила с книгой – она бегала наперегонки или играла в жмурки. Однажды ко мне, гревшейся у круглой печи, с криком и смехом подбежала группа вместе с Изой.
– Тоня, там врач приехал, весь в белом! Пойдём, посмотрим! – и я присоединилась к ним.
Появление в школьных стенах врача, инспектора из отдела образования, фотографа или просто родителя было редкостью, а потому событием. Дети сбегались и разглядывали «гостя», как в зоопарке зверей.
В большом школьном зале две массивные двери: одна – на улицу, другая – в маленький коридор педагогов, в котором с одной стороны находится учительская, с другой – директорская.
Запрудив огромный зал, толпа, как пчёлы на сахар, ринулась за учительницей и врачом, классическим доктором Айболитом. Они приближались к элитному коридорчику, и я оказалась в «голове» толпы. Задние лавинообразно напирали – противиться было невозможно. Дверь открылась, врача с учительницей выплеснуло внутрь, а с ними и несколько детей. Две уборщицы выталкивали их и, давя с обратной стороны, пытались закрыть дверь.
– Назад! Не напирайте! Отойдите! Дайте закрыть!
– Мы тоже хотим к доктору!
– Пусть и нас посмотрит!
– И мне к доктору! – кричали дети.
– Да дайте же закрыть!
Дверь, наконец, захлопнули, и я оказалась прижатой к ней.
– Дайте выйти! Пожалуйста! – задыхалась и плакала я, видя перед собою одни только ноги и животы.
Дверь рванули, и в ней обозначился могучий и грозный старик-сторож, которого все боялись. С двумя уборщицами пытался он оттеснить толпу.
– Доктор всех посмотрит! Назад, бараны!
Ничего не помогало. Боясь упасть и оказаться затоптанной, я напыжилась и, чтобы быть повыше, вытащила, словно сдаваясь в плен, руки. Безымянный пальчик правой кисти оказался при этом в дверном пазу с тыльной стороны. Сторож и уборщицы оттолкнули передних и захлопнули тяжёлую, массивную дверь.
Безвольно повиснув на расплющенном пальце, я закричала и потеряла сознание. Толпа в испуге отхлынула, но коридорчик учителей не реагировал. Очнулась я от нестерпимой боли и крика того, кто меня поддерживал: «Помогите! Помогите!» Дверь не открывали. Дети кричали и колотили. Звуки доносились откуда-то издалека и меня, казалось, не касались. Дверь, наконец, открыли, я освободилась от плена и упала на чьи-то руки.
Очнулась в учительской, на столе. Кровь разукрасила мне одежду и белый халат доктора, палец напоминал маленькую, синюю, как баклажан, грушу. Стыдно за своё разбросанное тело, хотелось слезть – я села. Весь бледный, доктор шептал-уговаривал:
– Потерпи, милая, – мне нечем обезболить.
– Отрежьте… Больно…
Горячие градины капали на склонённую голову доктора, что пинцетом вытаскивал раздробленные косточки.
– Потерпи, я сделаю всё, чтобы исключить гангрену. Косточки вырастут, пальчик заживёт! – и, управившись, начал бинтовать.
Кровь проступала через бинт – он наматывал ещё и ещё. Наконец, всё было готово! Меня вновь уложили, но голый стол был холодным и неуютным, я мёрзла и просилась домой.
– Дойдёшь?
Киваю, и меня начинают одевать.
Морозная дорога кажется бесконечной, щемящая боль ноет, жжёт, ползёт по телу – я вою, пытаясь отвлечься от дрожи, холода и нестерпимой боли.
– Ты что это? Кто тебя обидел? – склоняется предо мною шедшая навстречу женщина.
Спровоцированная жалостью, плачу навзрыд. Мне стыдно: в плену молчат, несмотря на пытки, но остановить свой вой я не в силах…
– Да что случилось? – прижимает она меня.
– Больно… руку…
– Ударилась?
– Не-ет! Дверью расплюснуло-о!
– Дверью? Где – в школе?
– Угу!
– Может, проводить тебя?
– Я сама…
– Не опускай руку, держи её кверху…
– Угу…
– Ну, храни тебя Бог, – перекрестила она и ушла.
Бабушка Лиза раздела меня, унесла в постель, и мне на всю жизнь запомнились запах и цена дома, где тебя любят. Моё здоровье было главной заботой любящей няни, и я сразу уверовала, что «всё будет хорошо»!
Три дня прошло в бреду.
Как только температура исчезла, попросилась на занятия, но боль в школе почему-то усиливалась – приходилось отпрашиваться.
Наш деревенский лекарь, бабка Василиха, делала примочки и что-то нашёптывала.
– Косточка выпадет, – сказала она после очередного осмотра. – Как только это случится, рука пойдёт на поправку, так что не бойся.
– А палец? Он нормальным будет?
– Палец останется прямым, только с большим шрамом. И ноготь скоро слезет, но вырастет другой. И косточка другая вырастет.
Так и случилось – палец навсегда остался с отметиной.
Вскоре наша учительница вышла замуж и уехала. Её заменил Алексей Дементьевич, необычайно добрый старик.
Однажды его жена встретила маму, и они разговорились. Мама жаловалась на трудности, и женщина предложила: «Бери девчаток и в субботу вечером приходи к нам в баню».
Это была первая в нашей жизни баня – дома нас мыли в огромном тазу.
– Элла, как вымоешь, крикни, я здесь! – раздался снаружи голос учителя.
Мама ополоснула нас, натянула фуфайку, приоткрыла дверь:
– Алексей Дементьевич, принимайте!
Во что-то большое и белое завернул он Изу, затем меня и через снежный двор поспешил в избу. На длинной лавке его жена одевала Изу, он – меня. Забылось, чем угощали, – в памяти остались лишь сладость тепла, ласка и защищённость.
Ученики любили Алексея Дементьевича, как любят отца. Он жалел и думал за них, подсказывал, чем, разумеется, портил, однако они этого не понимали ещё.
С четвёртого класса проводились в те годы экзамены – непременно с инспектором из районного центра. Учеников усаживали по одному, возможность списывания исключалась. Испытаний все боялись, боялся и учитель: экзаменовалась и его работа!
Отчётливо запомнился экзамен по математике. Алексей Дементьевич читал с доски текст задачи, грозный инспектор беркутом смотрел на класс… Притворясь думающими, дети уткнулись в парты, косясь на отличников, – в надежде… И вдруг – о счастье! – инспектор вышел. Чинный Алексей Дементьевич преобразился, поднялся и быстро зашептал:
– Ребята, решение знаете?
Ребята молчали – он зашептал энергичнее.
– Первый вариант! Вот это и это надо сложить, – и, как дирижёр палочкой, тыкал у доски вытянутыми пальцами на цифры. – Что получится, разделить на три, затем умножить на 20 и все четыре действия сложить. Тоня, поняла?
– Я знала, – прошептала я.
– Сядь с краю, решение положи так, чтобы видела вторая парта, со второй – третья и т. д. Второй вариант! Решать так же, только числа другие. Надя, – обратился он ещё к одной отличнице, – сядешь так, чтобы решение было видно другим! – и, заняв прежнее место за учительским столом, вновь превратился в чинного учителя.
Вошёл инспектор – все склонились над тетрадями, ожидая подсказки и надеясь на списывание. Ничего «не заметив», инспектор начал тихо переговариваться с учителем.
Экзамены сдали все…
Болезнь Изы
Иза экзамены не сдавала. За полтора месяца до окончания школьных занятий она заболела воспалением лёгких и её увезли в районный центр – село Родино. Каждое воскресенье к ней наведывались, и, возвращаясь, плакали:
– Изочка умирает – несчастный ребёнок!..
В очередной раз бабушка Лиза громко и радостно сообщила:
– Всё, Бог услышал мои молитвы! Иза выздоровеет!
– Она почти уже здоровая?
– Нет, она ещё очень плохая, но спросила, что я принесла покушать, впервые поинтересовалась: «Как там Тоня?» и почти всё время лежала с открытыми глазами.
И вот во двор въехал ходок, на котором сидела Иза в синей юбочке и голубой блузочке с маленьким закруглённым отложным воротничком. Я подбежала, и мы крепко обнялись. Мраморное лицо и длинные с каштановым отливом кудри производили впечатление девочки с картинки – она казалась очень красивой. Мама мягко заметила:
– Осторожно, Тоня, у Изы много вшей. Мы будем сейчас её стричь.
– Стричь? Такие красивые волосы?
– Да, красивые, но надо вывести вшей.
– И тебе, Иза, не жалко? Ты согласна стричь волосы?
– Согласна, вши кусаются.
Только теперь я заметила, что она постоянно чесалась. Её остригли под «ёжика», затем щёлоком на два раза вымыли похожую на мальчика голову, вычёсывая корни специальным, очень мелким гребешком. С любопытством разглядывая на земле красивые кудри, я ужаснулась – в них копошились жирные, чёрные жучки. «Грязные», – решила я. Бабушка Лиза поднесла спичку, и волосы, вспыхнув, быстро сгорели. Утром Изу не будили. Когда в обед она проснулась, бабушка присела к ней на кроватку.
– Хорошо спала… – поглаживала и приговаривала она. – Вши, слава Богу, не беспокоили.
– Да, они спать не давали.
– Не будите её. Пусть высыпается, сон лечит, – говорила мама, уходя на работу.
Иза осталась в четвёртом классе на второй год, и в последующие годы у каждой из нас началась своя жизнь – свои воспоминания, свои переживания.
Казалось, она была довольна, что может позволить себе подольше оставаться маленькой, – быстро нашла общий язык с заречными сверстницами, которые резвились, бегали, дурачились, играя в куклы. Меня тянуло к детям постарше.
День Победы
Начиналась весна 1945-го. Куспром закрыли. Женщины работали теперь в поле и ночевали в бригаде. Мы редко видели маму: отпускали её лишь раз в неделю и только ночью на несколько часов.
Стоял тёплый майский солнечный день. С разрешения няни играли мы во дворе – что-то лепили из глины. С пустыми вёдрами на коромысле вышла из сеней няня и обратила внимание на показавшегося вдали всадника. Он кричал у дома, во дворе которого брали мы из колодца воду.
– Опять что-то случилось, – в раздумье говорит бабушка и, пытаясь угадать, всматривается, козырьком ладошки прикрыв глаза.
– На собрание, видно, зовут, – думает Иза.
– Может, и на собрание, только странно, что Сондрик жеребца своего не пожалел! – удивляется она и отправляется к колодцу.
– На собрание всегда старик разъезжал, – вслед ей сомневаюсь я.
– А этот молодой и босой, – замечает Иза.
– Зато в фуражке! – оборачивается няня.
Поравнявшись с нею, всадник притормаживает и кричит:
– К сельсовету, баба, – на митинг!
Няня на ходу отмахивается: «Ладно!» Поравнявшись с нами, опять кричит:
– Всем на митинг!
– И детям?!
– Всем! Всем! Всем!
– Нам-то зачем?
– Всем велено – и взрослым, и детям!
– Случилось что?
– Идите к сельсовету – узнаете!
– И обязательно?
– Строго обязательно! – кричит он и скачет дальше.
С полными вёдрами на коромыслах возвращается няня.
– Пойдём, бабушка. Он сказал, что всем нужно – и взрослым, и детям.
А вдруг накажут, если не пойдём?
Она нас причёсывает, и мы отправляемся.
– Бабушка, смотри, как принарядились все!..
– Может, праздник какой?
Люди веселятся, образовав большой круг. Две молодые женщины, задорно отплясывая, выговаривают под гармошку частушки. Мы останавливаемся в сторонке.
– Бабушка, ну, пойдём поближе – посмотреть!
– Здесь постоим – нам лучше подальше держаться.
Я вспомнила сабантуй и настаивать не стала. Со своими малышами подходит тётя Марта – мы рады: компания наша увеличилась.
– Не знаешь, Марта, зачем народ собирают?
– Так война ж закончилась!
– Война?! – застывает няня с открытым ртом.
– Ну да, вам что – не сказали?
– Кто-то верхом на жеребце кричал, чтоб на митинг шли, больше ничего.
Мы с Изой прыгаем и хлопаем в ладошки: «Слава Богу! Закончилась, закончилась!»
– Счастье-то какое! Теперь домой, в Мариенталь, поедем! – и няня радостно скрещивает на груди руки.
– Из трудармии мужчины вернутся!.. – мечтательно тянет тётя Марта.
– Чо волынят – начинать пора! – негодуют в толпе.
– Баб з бригады ждуть, – отвечает голос. – За нымы подводы отправылы.
Няня всматривается в даль, откуда должны показаться подводы, задумчиво по-немецки тянет:
– И Элла приехать должна…
В кругу запели, но мы, отверженные, чувствуем себя ущербно, праздника не ощущаем и с завистью наблюдаем за весельем…
– Едут! Едут! – распадается веселящийся круг.
Женщины спрыгивают с телег и попадают в объятия родственников. Выглядывая маму, мы тоже побежали. Сидя спиной к кучеру и глядя вперёд в пол-оборота, мама опирается ладонью о край телеги и тревожно всматривается в толпу. Я издали замечаю её чёрные, ищущие глаза.
– Мама-а! – и мы рванулись навстречу.
Мама – в глазах слёзы – слезает с брички, молча опускается на корточки, обнимает нас, прижимается и надрывно задыхается. Приподнимается, и мы вместе с плачущей тётей Мартой выходим из толпы.
На крылечко выходят трое – председатель сельсовета, Сондрик и представитель из центра. Начинается митинг.
– Ну, не надо, Элла, успокойся, хватит, – просит няня.
На корточках, уткнувшись нам в платьица, она не может остановить слёзное удушье. Не слушая выступающих, мы обнимаем её и тоже тихо, безутешно плачем, понимая, что отца с нами не будет – уже никогда…
– И он бы мог… до этого дня… дожить! – глядя снизу, смогла, наконец, выдавить она сквозь слёзы, и мы, виновато скосив глаза в сторону президиума, заплакали ещё горше. Горе хотелось спрятать, не выставлять напоказ, не давать повода для злословий, но уйти нельзя…
Прошло много лет, но говорить и вспоминать без слёз о Дне Победы я не научилась – боль не притупилась…
История бабушки Линды и её детей
С войны возвращались мужчины. Однообразная и привычная женская жизнь потихоньку разбавлялась непривычной мужской, и командные в деревне места: учётчик, бухгалтер, бригадир, заведующий фермой или складом – оккупировались теперь мужчинами.
Среди бригадиров маме докучали два Ивана – Короб и Лобзиков, но её симпатий они не вызывали. Особенно настойчив в своих притязаниях был Лобзиков. Высокий, мужественный, красивый, он подъезжал к нашему заречному домику и, если мы бывали во дворе, звал:
– Идите сюда, девчатки, покатаю!
Счастливые от того, что нам уделяют внимание, мы подбегали, взбирались на ходок и гордо-довольные разъезжали по селу. Вечером просили маму:
– Выходи за него замуж – он хороший.
– Я ещё отца вашего не забыла.
Мы пристыженно замолкали: мама не забыла, а мы забыли…
К началу осени в деревне появился молодой и красивый немец. Поговаривали, что он храбро воевал, был ранен под Курском, но после госпиталя попал, как и другие немцы, не на передовую, а в трудармию. В Кучуке жили две его родные сестры по отцу и брат по мачехе Линде, что вышла замуж за их отца ещё в Мариентале после смерти матери.
Жили они в захудалой землянке. Линда (мы звали её бабушкой), низенькая, худенькая круглолицая женщина сорока шести лет, выглядела значительно старше своего возраста. Двух её дочерей, 18-летнюю Марусю и 15-летнюю Фриду, в деревне мало кто знал: у них не было одежды, и они никуда не выходили. Их брат, кареглазый 10-летний Саша, всегда молчаливый и грустный, стыдился нищеты и сторонился сверстников. Высокая, стройная, белолицая Маруся, девушка с удивительно ясными голубыми глазами, была изумительно хороша – низкорослая и смуглая Фрида смотрелась несколько приземлённее.
Летом они работали и питались в бригаде колхоза, но наступала зима – работу прекращали: тёплой одежды не было. До глубокой осени девушки ходили босые и в самотканном тряпье, натянутом на голое тело. В летнее время нехитрая одежонка стиралась по вечерам щёлоком, за ночь высушивалась, а утром опять натягивалась. За лето подвозили они к землянке две-три скирдовальные брички с соломой – зимой топили ею печь.
Однажды осенью Маруся решила в горячей, недавно протопленной русской печи прожарить одежду – так в деревне, спасаясь от вшей, делали многие, – но, видимо, печь была ещё слишком горяча: одежда вспыхнула. Голая, металась она по двору и громко голосила. Пришла Линда, и теперь в голос зарыдали они обе: Марусе за прогул грозила тюрьма. Линда прибежала к нам, и бабушка Лиза нашла ей какую-то старую одежду – девушка была спасена.
Маруся и Фрида учились на Волге, Саша рос безграмотным. В дырявых штанишках его часто видели недалеко от школьного двора – с завистью наблюдал за детьми. Учиться Саша пошёл переростком в пятнадцать лет, но семилетний курс школы закончил за три года. Приобрёл профессию механизатора широкого профиля и долгие годы работал бригадиром в одном из районов края.
Линда заявлялась уставшая и замёрзшая, сбрасывала с себя лохмотья, зажигала в печи солому и ставила для чая чугунок с водой. Огонь в печи освещал избушку. Пили чай с травами, которыми запасались с лета, залезали на печь и, прижимаясь друг к другу, засыпали. К утру даже на печи становилось прохладно и, чтобы в избушке поддерживалась необходимая для жизни температура, бабушка до своего ухода протапливала её ещё раз.
Из родных, кроме пасынка, у Линды никого не было. Она случайно узнала от кого-то его адрес в трудармии, сообщила о безысходной жизни с детьми, посетовала, что погибнут от голода и холода, если никто не поможет.
Лео – так звали пасынка – после освобождения из трудармии работал на Колыме и, чтобы спасти родных от неминуемой гибели, начал отсылать небольшие переводы. Линда кое-как приодела девушек, и их заприметили в молодёжных компаниях. Женщины соседних колхозов удивлялись, откуда у деревенской попрошайки две красивые взрослые дочери.
Жители колхоза имени Свердлова, в котором жила Линда, частично удовлетворяли интерес любопытных: «У неё ещё и сынишка есть», – «Да вы что? Трое детей? Вот бедолага!» – «Сидит на печи, не учится, а мальчонка, видать, смышлёный».
– А девки каки смирны да уважительны! Мой Николашка на старшеньку всё посматриват. Нечего, говорю, глаза пялить – немка она!
– На что же они живут? Ведь у них, хоть шаром покати – пусто!
– Ныдавно сын объявывся – грОши будто прысылае.
Вскоре бабушка Линда получила письмо, пасынок просил продержаться – скоро-де будет. Время шло – он не появлялся. Одежду за летний сезон девушки поизносили, и безжалостная зима вновь ждала их на печи. За короткое лето в кругу молодёжи показались они всего несколько раз, так что об их существовании вскоре забыли.
Однажды – была уже поздняя осень 1946 года – кто-то заметил, как у поселкового совета остановилась машина и из кузова лихо выпрыгнул молодой военный. Он направил свои стопы на край деревни в сторону колхоза имени Свердлова. Мальчишки, любопытный народ, увязались за ним. Какое-то время шёл он уверенно, затем начал оглядываться, замедлять шаг и через какое-то время подозвал их.
– Не знаете, где живёт Кельблер Линда?
Детвора переглянулась, и незнакомец двинулся дальше, но, так как начиналась степь, повернул к избе, что сиротливо виднелась вдали. Мальчишки не отставали и забрасывали его вопросами.
– Дяденька, а какая она, эта тётенька?
– Не знаю – давно не видел.
– А дети у неё есть?
– Есть. Две дочери и сын.
Ситуация не прояснялась. Военный и любопытная детвора подошли к избе, постучали. Дверь открыл древний старик с длинной палкой, на которую опирался.
– Не скажете, где живёт Кельблер Линда?
Старик удивился:


