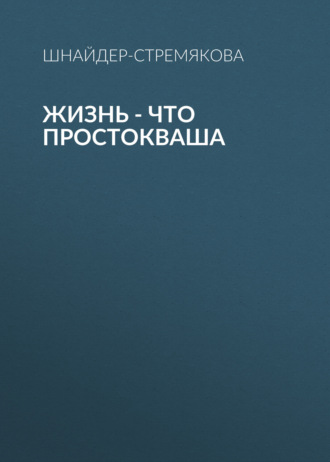
Полная версия
Жизнь – что простокваша
– Лисбетвейзел, надо искать семью сестры и уезжать с нею, мы не сможем тебя взять, – удивила её мама.
– Элла! – расплакалась няня. – Я полюбила близняшек, как собственных детей, мне тяжело с ними расстаться.
– Куда нас повезут и что с нами будет, никто не знает. Может, придётся жить впроголодь и платить тебе за труд будет нечем, – сомневалась мама.
– Буду просто членом вашей семьи, платить ничего не надо, а трудности переживём вместе.
– Будет тяжело. Подумай хорошенько, – вмешался отец.
– Если Элла найдёт работу, надо кому-то присматривать за детьми. Она на работе – я дома, вам же легче!
Мама уговорила отца, и он сдался – всю ночь переписывал готовый уже алфавитный список жителей села, который утром предстояло сдать. Через полвека мы сделали запрос в архив Саратова и получили – к удивлению! – две алфавитные карточки. В одной из них бабушка значится – в другой её нет. Видимо, список жителей готовил не только отец – НКВД работало бдительно…
И сейчас, благодаря ей, мы сиротство своё на Алтае почти не ощущали. Возникало острое чувство незащищённости – бежали к ней и успокаивались. Если обижали дети или бабушка Зина выговаривала за шалости, она укоряла их:
– Как не стыдно! Сироток обижаете.

Наша бабушка Лиза, наша Муттер или няня, (слева в платье) Елизавета Николаевна Зальцман (1885–1951). Село Мариенталь. АССР немцев Поволжья
Её рассказы о злых и непослушных детях, что наказывались Богом, учили послушанию и боголюбию. После её историй не хотелось ни лгать, ни обижать – искренне верилось, что Бог всё слышит и видит…
Избушку по вечерам топили соломой. Когда она остывала, бабушка усаживалась меж нами погреться на плите… И начинались разговоры в темноте. Особенно чудесны были вечера при лунном свете. Удивительно добрые глаза украшали некрасивое лицо – мы любили наблюдать за его мимикой…
– Бабушка, а после этой войны будут ещё войны?
– Будут…
– Опять Германия на нас нападёт?!
– Нет, Германия больше воевать не будет – сама от войны настрадается.
– А кто тогда будет воевать?
– Точно не знаю, но начнётся война с юга. Может, с Китая?
В такие полутёмные вечера нам было грустно и хорошо, мы охотно признавались ей в любви: «Какая ты хорошая, быбушка! Мы тебя сильносильно любим!» – «Бог пожалел нас – как бы мы без тебя жили?» – «Кто бы нам воды принёс, огород прополол?»
– У вас же ещё бабушка Зина есть! – лукаво косилась она.
– Бабушка Зина живёт с тётей Марусей – ей тоже помогать надо, – оправдывали мы бабушку Зину.
Она улыбалась. Видимо, эти вечерние беседы нравились и ей тоже. Мы целовали её и просили: «Живи долго-долго, бабушка!» Она тут же начинала спекулировать нашими чувствами:
– А вы слушайтесь – тогда и жить буду долго.
– А почему в деревне нет мужчин? Только дедушки, и то мало.
– Да, мужчин осталось мало… Война… – вздыхала она
– А война кончится – мужчины вернутся?
– Может быть, – и помолчав, – не все, конечно…
– Бабушка, а откуда берутся злые люди?
– Злые люди? Человека обидели один раз, другой, глядишь – и ещё одним злым на земле стало больше.
– А Иисус Христос никого не обижал – зачем же его казнили?
– Он на себя вину принял и страдал за тех, кто обижал, грабил, убивал. Хотел, чтобы все злые стали таким образом добрее.
– Бабушка, расскажи про него!
– Да я уже рассказывала!
– Ну и что – ещё расскажи!
И она (в который раз!) рассказывала, как мучили, казнили Христа, как он снова воскрес.
– Несправедливо устроено небо!
– Почему? – не понимала она.
– Потому что Бог сохранил злых убийц!
– Да, мог бы и наказать!
– Но Христос же ожил! Убийцы были наказаны его воскрешением! – оправдывала она смерть Христа.
Такая концовка нас устраивала – должно было прийти возмездие! После этих вечеров наступало удивительное умиротворение.
– Бабушка, а за что нас выслали?
– Не знаю. Война…
Вопрос оставался неудовлетворённым и, уже взрослая, когда училась я в восьмом или девятом классах, избегала оскорбительные глаголы «выслали», «сослали». «Мы эвакуированные», – заявляла я, хотя это, разумеется, не соответствовало действительности.
Не знаю, понимала ли бабушка Лиза, что в такие вечера лепила нас.
– Бабушка, расскажи про папу – мы по нему соскучились.
– Да, какой он был? – поддерживала меня Иза.
Она вспоминала и рассказывала об отце только хорошее, но рассказы эти, надо честно признаться, были не так интересны, как рассказы о Боге и всевозможных святых.
Перед тем как выйти из дома, няня обычно крестилась, а если кошка перебегала дорогу, возвращалась, тихо читала молитву и лишь потом уходила. Кто знает, что это было, набожность или суевере, только я с детства уверовала, что есть недобрые приметы. С одной из них связано известие о гибели отца.
Тёплый весенний солнечный день. Восемь-десять детей играли во дворе в прятки. Крики, смех… Вдруг из горницы раздался звон бесконечно долго бьющегося стекла. Дети вздрогнули и окаменели: внутри никого!.. Пришли в себя и, переглядываясь, обошли, крадучись, домик – «взрыв» не был придумкой! Окна оказались целы. Шептались: может, нечистая сила?! Наконец, осмелели и вошли… Весь пол – в осколках разбитого стекла. Большое зеркало, в высоту почти всей стены, орудие труда матери, сверкало на полу большими и маленькими бриллиантами. Одна из девочек тихо заметила:
– Это плохая примета.
Шура Логинов, сосед, успокоил:
– Верёвка была старая – порвалась.
Вечером с работы пришла бабушка. Убрала раму с узорчатым треугольным верхом и, подметая осколки, запричитала:
– Господи, где брать силы всё выдержать? – крестилась она. – Прости, Господи, мои прегрешения, смилуйся, отведи от меня и детей напасти. Сохрани сироток! Сохрани, Христа ради, их родителей, помоги детям выучиться, дай им счастья! Сделай так, чтобы скорей закончилась война и мы вернулись в родные края.
– Бабушка, а, может, ничего не случится?
Но случилось… И хотя нам было всего по пять лет, известие о гибели отца отозвалось эхом на психике – с этого времени я не по-детски сделалась серьёзной.
Со мной происходили удивительные метаморфозы: возникала боязнь темноты, по ночам я часто кричала, лежанка печи казалась объятой пламенем… Со временем эти странности исчезли – возможно, сказалось лечение деревенской старушки. Она плевалась, водила руками у головы, что-то нашёптывала и заставляла пить наговоренную воду. Няня боялась оставлять нас одних и чаще водила теперь к бабушке Зине и дедушке Сандру.
Дедушка Сандр
Декабрь 1942 года. Высвечивался свежий, с мягким морозцем день. Дедушка пришёл с ночного дежурства и прилёг отдохнуть. Бабушка Зина возилась у печи, тётя Маруся управлялась со скотиной. Быстрый резкий хлопок дверью – и тётя Маруся в грубой юбке, старых валенках, старой фуфайке, поверх которой был завязан чёрный платок, испуганно сообщила:
– По тропинке к нашему дому трое в шинелях!..
Дедушка проснулся, попытался успокоить.
– Мали ли кто и зачем, – натягивал он брюки. – Не паникуй.
Бабушка прильнула к окну с одинарной рамой, разрисованному морозом, увидела троих, гуськом чеканивших военным строевым шагом, и, испугавшись, громко вдохнула: «А».
– Из НКВД! Беда! – рявкнул высокий, впуская пары холодного воздуха.
– Проходите, – пригласил дедушка – что вам угодно?
– Не «что», а «кто», подлец! – высокий Беда вынул наган и направил его на дедушку.
Бабушка Зина заголосила.
– Молчать! – зыкнул непрошенный гость.
Коренастый его помощник подошёл к подушке, ощупал, засунул руку в карман, вынул, полоснул, точно фокусник, по подушке, так что обнажились перья. Изумлённые дети смотрели во все глаза, поражаясь, как это безо всяких усилий удалось вспороть наперник – не знали, что меж пальцами скрывалось лезвие. То же самое проделал с другими подушками. Третий переворачивал набитые соломой матрасы.
Открыли сундуки – бабушкин и тёти Маруси. Старые шали, несколько платьев, истоптанные ботинки и туфли, изрядно поношенные плюшевые курточки, что надевались по праздникам, – всё выбрасывалось на земляной пол.
Беда заметил в сундуке несколько книжечек, протянул руку, но маленькая щупленькая бабушка Зина тигрицей бросилась к своим немецким евангелиям, схватила их и с криком «Не дам!» рванулась прочь. За ней кинулись – она яростно оборонялась и ругалась по-немецки: «Пустите! Черти! Свиньи!»
– Убью! – тихо, но внушительно процедил, приближаясь, Беда.
Бесстрашная бабушка не отдала бы своего сокровища – его насильно отобрали; высокий Беда, возможно, и выстрелил бы – мешали дети, повисшие на своей любимице. И всё же ей удалось каким-то образом спрятать реликвию дома, миниатюрное евангелие в обложке из слоновой кости с металлической защёлкой, – вещицу, что дети почитали за счастье подержать в руках. Когда надо было кого-то поощрить, бабушка вынимала из сундука книжицу, скрывавшуюся в ладони: «Можешь подержать». Другие, хныча, завистливо смотрели на счастливчика:
– Альтмама, и я буду слушаться, дай и мне подержать.
– В другой раз. Если слушаться будешь.
…А сейчас выбрасывалось всё из сундуков. Квартира была завалена хламом; дети жались по углам; дедушка на табурете недоумённо вертел головой. В воздухе – пух из распоротых подушек, в комнате – погром. С обыском, наконец-то, было закончено. Старику приказали одеться. Бабушка, тётя Маруся, дети кинулись к нему.
– Нельзя! – остановил их Беда.
Дедушка с грустью, словно запоминая, обвёл всех и глазами задержался на бабушке Зине.
– Не волнуйтесь, разберутся, это ошибка – я скоро вернусь, – уже с шапкой на голове остановился он у порога.
Из школы пришла последыш Лида – худенькая 13-летняя девочка с выразительными голубыми глазами. Видя погром – летящий пух, выпотрошенные сундуки, одеяла на земляном полу, – она с выражением ужаса застыла у порога.
– Что случилось? – скорее выдохнула, чем спросила.
– Лидочка, отнеси пышки отцу в сельсовет, – впопыхах сквозь слёзы говорила бабушка Зина, колдуя с тестом, в который летел пух.
– В сельсовет?
– Его взяли.
– Кто?
– НКВД.
– За что?
– Не знаю. Может, примут еду – не ел ведь ещё! Не раздевайся! Должны же ребёнка пропустить!
Пышки, дорогое по тому времени удовольствие, из-за спешки не получились. Бабушка собрала тёплый узелок, Лида прижала его к себе, побежала к сельсовету. Открыла дверь и – тотчас увидела отца, что сидел у стола, скрестив на коленях руки. Встретил вопрошающий взгляд детских глаз, грустно улыбнулся. «Не виноват! Не виноват!» – пролетело в её голове, и она ринулась: «Папа!»
– Ты что – нельзя! – перегородил ей Беда рукой.
– Lidchen, ich bin nicht schuld. Glaub nicht, niemand glaub! (Лидочка, я ни в чём не виноват, ничему не верь), – успел сказать по-немецки этот 56-летний дорогой человек.
– Говорить только по-русски, по-немецки – запрещено! – отрубил Беда.
И она застыла – в поклоне к отцу.
– Что у тебя в узелке? – поинтересовался, наконец, коренастый.
– Передачка. Мама послала. Можно?
– Можно, пусть при нас ест.
– Да ты, Лидочка, не волнуйся – я не голодный.
– Поешь, папа. Правда, пышки получились неудачные. Там ещё бутылка молока.
У неё взяли узелок, посмотрели содержимое и передали отцу. Они оба не знали, что видятся в последний раз.
– До свидания, папа!
– До свидания. Успокой всех. Я ничего плохого не делал, пусть не сомневаются.
Бабушка Зина не раз ходила в районный центр в надежде на короткую встречу, в надежде что-нибудь прояснить – к дедушке не впускали, но передачку принимали. В последний раз брать ничего не хотели: «Здесь кормят».
– Твенацать километр, талеко! – изъяснялась пальцами бабушка, плача. – Ноги, руки палят. Пери, пошалуста!
– Нельзя, бабушка, – отталкивал узелок молоденький солдатик.
И сказал то, что, видимо, не должен был говорить:
– Завтра его в Кулунду этапируют.
– Кулута? Сафтра? Так талёк? Сачем?
– Да, да, завтра, – улыбался он её произношению. – Ну, давайте узелок. Передам, только об этом никто не должен знать – нельзя нам врагов жалеть.
Усталая, с красными от слёз глазами бабушка вернулась домой, где ждали дедушкины сёстры: тётя Нюра и тётя Вера, дочери: Мария и Лида и несколько спецпереселенок, – не услыхали добрых вестей и вскоре разошлись.
Раньше к бабушке Зине забегали соседки, русские женщины, теперь перестали – решили от греха подальше: дружить с «врагами народа» было опасно. Бабушка засобиралась в Кулунду.
– Ты не знаешь языка – ничего не найдёшь, ничего не выяснишь, – отговаривали тётя Маруся и тётя Нюра.
В Кулунду отправилась красивая, белолицая тётя Нюра – вернулась она чёрная и похудевшая.
– Зря ходила – ничего не выяснила, никуда не впустили, даже передачку не взяли. По дороге домой всё и съела.
И в доме поселился страх, и повисла какая-то особенная, зловещая тишина. Все разговоры сводились к бытовым проблемам: «Ш – ш – ш!.. Стены слышат…» Это шиканье принизывало всё наше детство и отрочество. В людных местах говорили только по-русски – коряво, смешно, но по-русски: непонятная для русского слуха немецкая речь могла нести в себе секретную информацию. Подозрения надо было исключить – на родном немецком говорили дома, и только тихо: запуганным, беззащитным женщинам предстояло сберечь жизнь детей.
Дедушка Сандр – Германн Александр Иванович – 1886 года рождения, арестованный 17 декабря 1942 года, умер в тюрьме 20 сентября 1943 года от пеллагры – диагноз тюремного врача. В одной из справок, полученной впоследствии на многочисленные наши запросы, сообщалось: «Постановлением прокуратуры Новосибирской области от 28 августа 1970 года уголовное дело в отношении Германн А.И. было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления, и он посмертно реабилитирован».
Во второй половине семидесятых маму – к тому времени ей было уже за шестьдесят – вызвали в КГБ для знакомства с делом отца. Ей прочли длинный список из семидесяти трёх свидетелей, что давали, якобы, показания о его «контрреволюционной деятельности», спросили:
– Вы знаете кого-нибудь?
Она не знала. Когда сообщили, что отец умер за три дня до «тройки», объявив в знак протеста голодовку, потеряла сознание.
Так мы через 30 лет узнали, где и когда встретил смерть дедушка Сандр, – тщетно бабушка Зина пыталась гаданиями предугадать его судьбу.
Бабушка Зина
Десять лет бабушка Зина жила ожиданиями встречи с дедушкой. Подолгу разглядывая себя в зеркало, прихорашивалась… Стоит, бывало, розовощёкая, с ясными голубыми глазами и, чуть-чуть поворачивая голову, притрагивается к лицу. Пышные до плеч густые волосы гладко причёсаны, сзади круглый гребень чуть ниже макушки. Она медленно вынимает гребень и проводит им по волосам. Улыбаясь, развязывает фартук и снова завязывает так, чтоб образовался бантик. Этот бантик на попе привлекал взгляды, и тотчас бросалась в глаза её стройная миниатюрная фигура. Всегда чистая и опрятная, она привлекала лёгкой, летящей походкой.
– Ну, что ты, бабушка, так прихорашиваешься? Все равно никто не видит! – смеялись мы, дети.
– Вдруг альтпапа вернётся, а я грязная, неопрятная…
Бабушка целыми днями возилась с детьми тёти Маруси, полола огород, управлялась по хозяйству. Иногда няня и нас приводила, а сама уходила в колхоз зарабатывать трудодни.
Дом был полон детей, и, как все дети, мы бегали, кричали, ругались, мирились и опять ругались; нас не волновали ни заботы бабушки Зины, ни её здоровье, что с каждым днём всё слабело, – хождения с передачками для дедушки Сандра отнимали силы и время. Лето было на исходе, а сена в должной мере не заготовили – некому было. С трудом успели выкопать картошку – малыши тоже помогали.
Женщины боялись зимы – суровой зимы сорок третьего!
Февраль. В сарае ни соломинки.
– Как спасти корову? Чем кормить её? – не раз слышали мы горестный вопрос бабушки. – Сондрик, будто не в колхозе живём, даже соломы не даёт. А ведь Мария работает, на каникулах – и Лида с Машей!.. Будь он неладен! И когда только Сандр вернётся?
А Сандр уже давно лежал в сырой земле.
Недалеко от дома стоял заброшенный пустой амбар, покрытый старой соломой, и две беззащитные, уставшие от жизни женщины приняли решение дёргать на крыше этого амбара солому и таким образом спасти корову, которая недели через две должна была отелиться. Мы любили нашу бурёнушку – звали её Леной – и, заходя в сарай, гладили бока, счищая линявшую шерсть, – для мячика. Корова грустно смотрела, а мы, поглаживая, ободряли её, будто она понимала:
– Потерпи, скоро лето, скоро будет много травы. Нам тоже молока хочется, но мы же терпим!
Молочка мы не дождались. Вскоре кто-то заметил, что с крыши исчезает солома. Установили слежку – поймали бабушку Зину с тётей Марусей.
– Почему Сондрик наша смерть хочет? Даже солома не даёт! Я же, как все, – работать! Почему другим давать, нам – нет? – плача, оправдывалась в правлении колхоза тётя Маруся.
Утром сам Сондрик заявился к нам во двор, с ним – ещё какие-то люди. Тётя Маруся уже ушла – бабушка с детьми оставалась одна. По привычке глянула через замерзшее окно во двор.
– А! – коротко глотнула она и громко крикнула. – Корову уводят!
И в лёгкой домашней одежде, накинув тёмную шаль, рванулась к дверям. Все, кроме трёхлетнего Вити, не сговариваясь, – за нею.
Корову выводили из сарая. Один впереди тянул за верёвку, другой бил по распухшим бокам – погонял.
С трудом подыскивая слова, бабушка пыталась приструнить Сондрика:
– Тети маленький голодать – пошалеть нато! Ему каша, малако, сыр нато! Я ф Родин ходить – прокурор шалофацца!
– Я сам себе прокурор! – не глядя, отрубил он.
– Пошла, пошла! – погонял кто-то.
Полураздетые дети, крича и плача, бежали рядом. Я с сестрой пытались погладить бока; пятилетний Саша тянул за хвост; девятилетняя Лиля забежала вперёд и, поглаживая морду, со словами: «Ле-е-на, Ле-е-на!» толкала корову назад, к дому. Её оттолкнули – и она, в платьице с короткими рукавчиками, нырнула в снег. Сзади ударили, корова рванулась, Саша отпустил хвост и тоже опрокинулся в снег.
Так брюхатую Лену увели из дырявого сарая. Молча глядя вслед, мы горько плакали. Бабушка, не обращая на нас внимание, поплелась к избе. Бросилась на кровать, отчаянно и беспомощно по-немецки запричитала:
– Господи-и! За-а что-о? Смилуйся, Го-осподи! Сандр! Где ты? Помоги, Са-а-анд-д-др!
Глядя на неё, дети забились в углы и затихли. Надолго воцарилась тишина. Хотелось есть, но мы молчали. К вечеру пришла тётя Маруся, увидела лежавшую бабушку, нас, голодных, – и заметалась по избе. Из валенок высыпала пшеницу, которую украдкой натолкала туда в пшеничном амбаре, достала чугунок, бросила пшеницу в воду и сварила, приправив ложкой топлёного масла. Казалось, в целом мире не было ничего вкуснее этой каши, этой разбухшей пшеницы!..
С тех пор свежая, гладкая и розовощёкая бабушка Зина как-то быстро постарела. Лицо посерело, по нему ручейками пробежали морщинки, печать страдания поселилась в нём и больше не сошла…
Лида
На выходные за продуктами из Родинской школы приехала Лида. Тётя Маруся убеждала её сходить к прокурору и просить заступничества.
Корова Лена на колхозной ферме отелилась, давала много и отличное по жирности молоко – мы жили впроголодь. Единственное, что ещё оставалось, – четверть кувшина топлёного масла.
– Сходи к прокурору, ты хорошо говоришь по-русски. Не вернут корову – как будешь учиться! Молочные продукты и картошка – единственное, что можешь брать из дома!
Слово-то какое – «прокурор»! Оно и без того наводило ужас, и просить его – человека, которого считала виновником ареста отца? Страх был велик, но когда стало совсем невмоготу, Лида решилась.
– Председатель колхоза увёл у нас корову, – жаловалась она, – шестерых малышей кормить нечем. Мне тоже без коровы учиться не на что. Помогите, пожалуйста. Пусть вернут!
Он долго расспрашивал о подробностях, которых она не знала, долго читал о чём-то мораль, вышел, наконец, из-за стола, подошёл, погладил ей волосы и покровительственно произнёс:
– Учиться, конечно, надо. Это похвальное желание! Иди домой, вернут вам корову!
Мы прыгали, кричали, хохотали, кувыркались, когда через долгих два месяца те же люди, что увели корову, вновь привели её. Телёнок остался в колхозе, но это уже не огорчало. Вечером напились парного молока, сепарировать которое начали лишь через день. Из обрата опять готовились молочные супы и кисели, творог и сыр, из сметаны сбивалось масло – мы вновь были богаты…
Лиде исполнилось пятнадцать. Все подавали заявления в комсомол – она, разумеется, тоже.
– Не пиши, тебе не надо, – остановила её одноклассница.
– Как это «не надо»? Ты что говоришь?
– «Классная» предупредить велела: тебе нельзя.
Лида усаживается за парту, прячет мокрые глаза, плохо слушает учителя, размышляет: «Чем я хуже? Почему?», и догадывается: «Отец!..» Ей обидно и за себя, и за него, но фантазия разыгралась, мечты унеслись вперёд… Признают, обязательно признают, что арест – нелепость…
Раньше домой возвращались дружной, весёлой компанией – сейчас, лишь только закончился урок, она пулей вылетела из класса, на ходу натянула пальтишко. Чувство обиды распирало. Бежала по другой, безлюдной тропинке и плакала навзрыд. Видеть никого не хотелось.
Наступил вечер. От рыданий, что не в силах была остановить, сделалось плохо. На душе пусто. Жить? Зачем?.. Пошла к речке – броситься в омут, но в последнюю минуту решила, что это будет трагедией для матери, и медленно побрела домой. Дверь избы открыла задом и прошла, низко опустив голову. Бабушка тотчас всё заметила:
– Что случилось?
Лида боялась разрыдаться – молчала… Глядя в её красные глаза, обеспокоенная мать приказала:
– Рассказывай!
– Меня не принимают в комсомол, – и заплакала так горько, что всем стало не по себе.
– Ну и что? Стоит ли расстраиваться? Дураки! Кого же принимать, если не таких, как ты?
Лида хорошо училась, была активисткой, успешно выступала в художественной самодеятельности. Её раздели, заставили поесть, уложили спать. Она уснула, а бабушка Зина ворочалась, не спала – тоже плакала…
Случай на бахче
Няня Лиза решила действовать в одиночку. Ни с кем не посовещавшись, она отправила матери в трудармию письмо. Рассказала об аресте дедушки, самоуправстве Сондрика, не дававшего корма и отбиравшего корову, о страданиях Лиды, и вскоре произошло событие, предугадать которое было трудно.
Летом няня работала сторожем на бахче. Мы, пятилетние, жили с нею в шалаше и помогали дёргать траву – не знали, что она убедила бригадира и председателя Сондрика ставить ей не один, а два трудодня.
– Один – за мой работа, половинка – сиротам, она мене помогать будут.
Нам нравилась эта свободная жизнь, и мы помогали в меру сил – бабушка не напрягала нас. Однажды в председательской коляске приехал сам Сондрик.
Он оглядел огромные кусты лебеды и, опустив и без того низкие брови, тяжело ухнул:
– Плохо работаете – травы полно!
Я двумя руками ухватилась за куст – из земли он не шёл. Сондрик сплюнул, дёрнул его одной рукой и легко отшвырнул в сторону. «Вот это да! Вот так богатырь!» – восхищённо следили мы с Изой за ним. Няня подобострастно бегала возле, показывала на большие арбузы и дыни, хвасталась:
– Кароший! Ой, кароший! Мы карашо смотреть! Хочешь – я разрешать пробовать!
В шалаше Сондрик вальяжно расселся на свежей траве, которую мы только что нарвали и разбросали, в новых хромовых сапогах свернул калачиком ноги и по-барски скомандовал:
– Давай, бабка, режь!
Пока он ел, няня сорвала ему два в коляску – для домашних.
– Гостинец!.. Мало – можно, много – нет! – распоряжалась она, словно бахча была её собственностью.
Может, чувствовала себя хозяйкой, которой никогда не была?
Няню в селе побаивались. Абсолютно лишённая страха, она преследовала вора всегда с большой палкой. Однажды два подростка обезоружили и так избили её, что она потеряла сознание, – очнулась, когда те с полными мешками подбегали к дороге.
Случай заставил потребовать у председателя ружьё, и она, как ни странно, научилась стрелять. Никто не сомневался, что бабка будет шутить, – знали: выстрелит. Об укромном месте страшного «оберега» мы не только не знали – даже не догадывались.
Раз в день наезжал водовоз. Он привозил большую бочку с водой и просил «кавун» – одаривала его няня не всегда.
– Всем дать, всегда дать, што на трудодни к осень люди получать? Ехай, ехай! Кавун и дыня все любить! – ворчала она по-русски и шла за повозкой до конца бахчи. – Теперь уже не срывёт.


