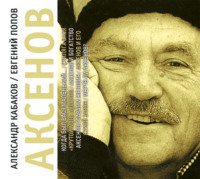Полная версия
Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей
Но в те школьные годы мы виделись почти каждый день. Помню, я звоню ей – пойдем погулять! Нет, говорит, часа через два, я тут тряпочку купила, хочу платье сшить. И через два часа она выходит на прогулку в платье, которое смастерила за это время… Классу к восьмому наши вкусы разошлись: я постриглась, прическа эта называлась “греческий пастух” – приблизительно так, как я и сегодня пострижена. Носила я купленную в комиссионке шерстяную американскую солдатскую рубашку навыпуск, юбку, короткую по тем временам до неприличия (то есть до колена!), и подпоясывалась тонким кожаным ремешком. Моя мама в ужасе была от этого наряда. И правда, улица оборачивалась. Стиль мой, который я в те времена и не пыталась определить, был артистически-хипповым, но тогда слово “хиппи” еще не знали… Да их еще и в природе не было, этих хиппи. Вот такая я была передовая девушка.
Люба поступила учиться на модельера, а я – на биофак. Люба вышла замуж за итальянца, учившегося в Высшей партийной школе, и уехала в Италию. А я – за физика с соседней улицы, самого молодого доктора физ. – мат. наук в академии, но это уже другая история.
Я хорошо понимаю в тряпках. Я, признаюсь, могу многое рассказать о человеке, видя, что он на себя натягивает. До сих пор. Хотя во времена моей молодости эту “карту” читала лучше. И речь идет не только о вкусе человека. Плохой вкус, хороший – вообще не измерения. Стиль одежды очень много говорит о характере, об уровне образования, даже о месте жизни человека. Я твердо знаю, что первую оболочку души дает человеку природа, или Господь Бог, – и это его внешность, а вторую он придумывает себе сам – это его одежда. В ней он самовыражается, даже если никогда об этом не задумывается. Есть еще и третья оболочка, но о ней в следующий раз…
Я вынуждена себя ограничивать, потому что тема одежды неиссякаема. А мужская одежда! Это даже интереснее, чем с женской одеждой. Ведь многие мужчины на службу вынуждены ходить в официальных костюмах, и как тут выразить свою индивидуальность? Брендом? Ценой изделия? Отсутствием галстука или, напротив, выбором такого галстука, который заставит улыбнуться и подумать: а парень-то с юмором! А водолазка под смокинг? А кроссовки к роскошной брючной паре? Только не думайте, пожалуйста, что владелец костюма не понимает, что он творит. Он творит художественный стиль! Не так давно ко мне заглянул приятель, из офиса. У него офис, бизнес, финансовые планы и всякое такое, в чем я не понимаю. Он, конечно, в серьезном темно-сером костюме.
– О, – говорю я слегка насмешливо, – какой солидный костюм!
И тут он приподнимает полу пиджака, и я вижу, что на “серьезной” ткани просвечивает любимое украшение подростков – череп с костями! И милый мой приятель стал мне еще милей. Остроумная борьба с повальной важной серьезностью!
Но вернусь к 50-м. К моей дорогой маме. Она любила наряжаться. Обожала. Во дворе жила портниха тетя Шура, которая за три рубля варганила маме платья. Бабушка за эти ее наряды не бралась. Кстати, не знаю почему. Думаю, что у бабушки был “серьезный” вкус – собираясь в гости, она надевала свой единственный костюм, ткань “пепита”, в мелкую черно- белую чуть скошенную клеточку, с воротником-шарфом. Было солидно, даже безукоризненно и очень “по-взрослому”.
К маминым нарядам я относилась скептически, подсмеивалась. Довольно рано стала покупать ей то, что считала более для нее подходящим. Когда она сама покупала себе какую-то обновку, то стыдливо прятала ее и говорила: не покажу, Люська, ты ругаться будешь… У мамочки был вкус, который можно было бы назвать “дурным”. Голубое с розовым, против которого я ополчалась. Но это – повседневная одежда. А была еще и выходная. Для выходов у мамы были туфли, которые ей сшил армянский сапожник в предвоенный год, когда она уже заканчивала биофак. До середины 60-х мама заворачивала в газетку эти туфельки, “лак с замшей”, каждый раз, когда шла в театр или в гости. И даже, кажется, свою кандидатскую диссертацию в них защищала.
Нарядное платье тоже было одно, пошитое в каком-то супер-ателье, помню его номер, произносимый с придыханием: “Сорок Второе Ателье!” Платье было черное, крепсатеновое, ткань эта была драгоценная, трудно добываемая, одна сторона блестела шелком, а изнанка матовая. Может, наоборот. Так вот, “грудка” маминого платья была из блестящего шелка и вышита стеклярусом, что ли. Вышито высокохудожественно, вышивальщица была мастерица.
И еще в доме была случайная вещь – японское кимоно редкого сине-зеленого цвета с вышитым драконом на спине. Наверное, после войны кто-то завез диковинку… Это была безукоризненная красота, и мамина фотография в этом кимоно сохранилась. Наверное, с тех пор я и люблю эту японскую одежду. У меня есть несколько кимоно, купленных на вокзальном рынке в Киото. Купила оптом за сто долларов семь штук, ношеных, одно с заплаткой. Все – старье. Повседневные кимоно, такие, каких в Японии давно не носят. Там, в городах по крайней мере, кимоно надевают только по случаю свадеб или других семейных торжеств, а жизнь проводят в европейской одежде. Некоторые из тех, купленных около вокзала, кимоно я раздарила подругам, а несколько сохранилось, но я немного стесняюсь их надевать: это в молодые годы мне нравилось быть в центре внимания благодаря экстравагантной одежде, но с годами хочется, чтобы тебя меньше замечали…
Менялись моды, а мы, поглядывая в сторону журналов Linea Italiana и Kobieta i Życie, доступных в театральной библиотеке, смело экспериментировали. Я шила кожаную юбку из диванной обивки, Любочка – пальто с застежкой на спине. Наши мамы наряжались на свой вкус и на наши эксперименты с одеждой смотрели не вполне одобрительно.
В те времена была у всех женщин одна головная боль: обувь. Ее в принципе не было. То есть в мастерской Большого театра был, конечно, сапожник, может, Улановой он туфельки и шил. А может, их было даже два, но от нас это было слишком далеко. К тому же денег таких у нас и быть не могло. Первые черные лодочки я купила в год окончания школы. Английские. Продавали их в магазине, и были они на шпильках. Не знаю, из чего они были сделаны, ведь синтетика была тогда новинкой, стоила дороже натурального материала. Ох, припоминаю я со стыдом, как продала серебряный подсвечник и купила на вырученные деньги арбузного цвета кофточку из хрустящего новомодного нейлона.
До этих первых лодочек я носила туфли-галошки. Это – из комиссионных магазинов, куда мы наведывались с настоящим охотничьим азартом. В комиссионке же я купила первые в моей жизни колготки, которые тогда называли “тайцы” (от английского tight – “плотно прилегающий, плотный”). Когда я вытянула с прилавка эти “тайцы”, продавщица рассвирепела – у нее были свои планы относительно этой редкой вещицы.
– Это для балета! – предупредила она меня. – Это только для балерин…
– Давайте их сюда, я как раз балерина! – И темно-зеленые действительно плотные колготки оказались моими! Ура! Ох, многие лета я их носила!
Помню, Люба из своей “охотничьей” поездки в Ригу привезла настоящие ковбойские сапоги, размера на три меньше. Она их разре́зала сзади, но все равно не смогла влезть. И сапоги достались мне. Вот тут-то и встала во всем своем драматизме проблема размера. Нога моя размером между 35-м и 36-м, но носила я обувь от 34-го до 39-го размера, какие попадались. Натянуть я эти сапоги смогла, но и мне они были малы размера на два. Ходила я в них с трудом, но ходила. “Великолепная семерка” еще не прошла по нашим экранам, и сапоги были столь экзотическим предметом, что надо было еще объяснять, что это за удивительная обувка…
Первые в моей жизни сапоги я купила у Любиной мамы – Люба уже после долгих мытарств уехала за границу и стала присылать своей маме кое-какие вещи, а я их с восторгом покупала. Мягкие темно-зеленые сапоги до колена произвели фурор в университете, где я тогда училась…
Моя скромность в одежде (нынешнего времени) происходит отчасти из-за моей колоссальной привередливости. Во всем я нахожу дефекты: то застежка потайная плохо спроектирована, то кокетка высоковата, то вот блузка всем хороша, но нет боковых карманов… Трудно, что ли, в боковой шов заделать?
И вот именно по причине привередливости любимые вещи я ношу годами, до истлевания. И муж мой такой же. Думаю, что сегодня не много есть людей, которые чинят одежду. А мы чиним. Иногда самостоятельно, и надо признать, что у Андрея это получается лучше, чем у меня. Иногда я таскаю рванинку в пошивочную мастерскую для починки. Удовольствие недешевое, иногда починка стоит почти как новая вещь. Но принципы всего дороже!
Когда-то, лет сорок тому назад, свою писательскую карьеру я начала статьей “Закон сохранения”, она была опубликована в журнале “ДИ” (“Декоративное искусство”) и посвящена моей покойной подруге, театральной художнице Гале Колманок, которая была гением возрождения вещей. У нее (и у нас, подруг, благодаря ей) ничего не пропадало. Ни клочка ткани. Даже изношенная детская шуба, непригодная для дальнейшей жизни, шла у нее в дело – “здоровая” спинка была вырезана и этим куском обита скамеечка…
О, не забыть! Еще одна важная история. У меня была по- друга, Ирина Уварова, которая была тесно связана с кукольным театром. Она прекрасно знала его историю, его мистику и сама время от времени ставила кукольные спектакли как художник, иногда – как режиссер. От нее я узнала интереснейшую деталь: одежду для кукол никогда не шили из новой ткани, надо было брать непременно уже изношенную, прожившую “взрослую” жизнь. Почему? А секрет! И мои изношенные вещи шли иногда через Иру в театральную мастерскую, к кукольникам, которые пустили, между прочим, ту самую арбузную кофточку, которая стоила серебряного подсвечника, в последний путь, на платье какой-нибудь куклы-принцессы…
Несколько лет тому назад я попала в дом к одному очень знаменитому журналисту, талантливому и умному. Принимали меня по первому разряду – еда была, смешно сказать, “ручной” и тонкой работы. Свежие крабы, прилетевшие на самолете чуть ли не в живом виде сегодня утром, но приготовленные по таким технологиям, о которых я, рядовая домашняя хозяйка, могу только догадываться. Ну, и вино соответствующее. Для меня, человека, различающего вино по двум параметрам, красное или белое, нюансы и оттенки вкуса были – увы! – совершенно недоступны, зато после ужина хозяин показал мне гордость дома – это было лоскутное одеяло высокого художества, на самом деле потрясающая картина, сшитая его бабушкой из лоскутков выношенной одежды. “Вот это, – показывал он, – кусочек от моей школьной формы, а этот лоскуток – от маминого сарафана, в котором она со мной гуляла, когда мне было два года… а это – от бабушкиной блузки…” Так биография семьи была представлена на этом панно. На меня произвело это большое впечатление.
Итак, резюме. Во времена моей юности одевались люди трудно, интересно и гораздо беднее. Пальто “строили” годами, постепенно, покупая отрез, через год – подкладку, затем – воротник, и, в конце концов поднакопив денег на работу портному, получали готовое изделие, которое носили потом по двадцать лет. Не шучу! Именно так. Эта “долгая носка” мне очень нравится. И в моем гардеробе есть вещи, которым двадцать и более лет.
У меня даже есть подозрение, что с вещами, которые человек носит, образуется некоторая мистическая связь: они тебя любят, если ты любишь их. Есть такие вещи у меня, которые я надеваю, когда что-то идет не так. Есть особенно надежные, которые я надеваю, когда иду на сложную для меня встречу. “Счастливые” вещи, в которых девочки идут сдавать экзамены…
И последнее, пожалуй, что я могла бы добавить ко всему сказанному: есть “мемориальные” вещи, которые я храню, – шелковый мешочек от покрывала, которое надевал на себя мой прадед, когда молился, рубашка, в которой крестили по меньшей мере троих членов семьи, ночная рубашечка, которую я подарила маме в университетские годы, в которой она и умерла. Долгое время в доме хранились первые туфельки моего отца. Но они таинственно исчезли, как это происходит иногда с такими “мемориальными” вещами.
Большую часть жизни я прожила в мире воинствующих материалистов. Кое-что они созидали, но гораздо больше разрушали. Да и сейчас мы, люди, – враги высокоорганизованной материи. Сегодняшнюю ситуацию я бы обозначила как “борьбу материалистов с материей”. И тот лоскуток, с которого я начала, пусть будет маленьким флажком растущей армии людей, которые отдают себе отчет в том, что, оберегая материальный мир от самих себя, мы оберегаем и саму возможность жизни человека на нашей планете.
Сергей Николаевич
ГУМ: сцены у фонтана

Во времена моего детства (как и сейчас) в ГУМе бил фонтан и продавали вкусное мороженое в вафельных стаканчиках. Помню, всегда выбирал себе сливочное, и совсем не помню, чтобы мне в ГУМе что-нибудь покупали. К прилавкам было не подступиться. Толпы москвичей и гостей столицы с вдохновенными лицами носились по бесконечным переходам, лестницам, галереям. Они что-то искали, где-то отмечались, что-то выкрикивали требовательными голосами. Половину их слов я не понимал, как, впрочем, и логику перемещений по сложному, запутанному пространству, спроектированному Шуховым. Но больше всего я боялся потерять родителей. Это почему-то я запомнил очень точно, как и мамины слова: “Если потеряешься, иди к фонтану и жди нас там”.
Сцена первая. ИсторическаяПри царе ГУМ и назывался иначе – Верхние торговые ряды. Построены они были не без тайного вызова на месте легендарного Московского торга, шумевшего здесь с древнейших времен, лишь для красоты сокрытого классическим фасадом Осипа Бове. То есть внутри это был самый что ни на есть азиатский базар, а снаружи – ампирные колонны, купол, портики да еще памятник Минину и Пожарскому у входа для подъема патриотического чувства. Эпоха надвигавшегося капитализма ни Бове, ни торг не пощадила. Все было снесено, и на месте копошащегося муравейника, едва прикрытого жестяными навесами и непрочными крышами, был возведен новенький, с иголочки, самый продвинутый и самый большой торговый пассаж Европы.
В сущности, это был идеальный город ненастоящей, несбыточной России, какой ее любили изображать придворные живописцы Прянишников и Маковский, какой ее видели в мечтах и наяву архитектор Шервуд и инженер Шухов. Наш ответ Западу, симбиоз официального “русского стиля” и новейших технологий. От одних только стеклянных, парящих в воздухе сводов можно было сойти с ума. А ведь там еще были товары. Да какие!
Сегодня одни их названия звучат как музыка сфер, как голос Шаляпина из древних недр граммофона. “О, если б навеки так было…” Шелковые и парчовые ткани братьев Сапожниковых, столовое серебро Ивана Хлебникова, фарфор Кузнецовых, кондитерская Абрикосовых, парфюмерия Анри Брокара…
От всего этого великолепия сегодня почти ничего не осталось. Только хрустальные флаконы из-под духов “Букет императрицы” да артезианская вода, по-прежнему бьющая как раз в том самом месте, где уже сто двадцать лет происходят разные любовные свидания и счастливые воссоединения, – у фонтана!
Как ни странно, начало советского периода ГУМа зафиксировано в 55-м томе полного собрания сочинений Ленина: “Предлагаю учредить МУМ, межведомственный универсальный магазин”, – наложил свою резолюцию вождь мирового пролетариата. Так бы мы и мумкали до сих пор, если бы в 1921 году МУМ не поменяли на ГУМ. У нового времени была четкая артикуляция и внятные установки: ГОЭЛРО, ГПУ, ГУМ. “Все, что требует желудок, тело или ум, – все человеку предоставляет ГУМ”. Или: “Нет места сомненью и думе – всё для женщины только в ГУМе”. И еще: “Нечего на цены плакаться – в ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы”. Эти рекламные слоганы Владимир Маяковский мог сочинять километрами, меряя шагами тесную столовую в Гендриковом переулке. Кстати, и сам поэт, и его привередливая муза Лиля Брик ГУМу предпочитали шопинг в Париже или Берлине.
Впрочем, уже в начале 30-х годов ГУМ как торговая точка перестал существовать. Всю первую линию занял сначала аппарат ЦИК, а затем – наркомат внутренних дел (НКВД). Историки до сих пор спорят, где находился кабинет Берии.
Место так и осталось засекречено, зато доподлинно установлено, что нынешний демонстрационный зал на третьем этаже регулярно использовался для траурных церемоний. По статусу их удостаивались не самые выдающиеся, но вполне заслуженные партийцы. Например, жена Сталина Надежда Аллилуева. Слухи о ее самоубийстве поползли по Москве сразу после роковых выстрелов 8 ноября 1932 года. Кто-то даже видел, как убитый горем вдовец целовал в губы покойницу и повторял: “Надя, Надя, что же ты наделала”. Но, похоже, все это из жанра “чаянья народные”.
Как известно, на похороны жены Сталин не пошел. И даже собственным детям Василию и Светлане запретил попрощаться с матерью. Потом неоднократно на заседаниях Политбюро поднимался вопрос о том, чтобы ГУМ вообще снести с лица земли. Но каждый раз что-то этому мешало – к явному неудовольствию Хозяина, который мрачнел при одном взгляде на здание, ставшее невольным свидетелем его самого большого поражения.
Впрочем, Парад Победы, которому суждено было пройти на фоне свежевыкрашенных гумовских стен, как будто уравновесит эти тягостные воспоминания, если и не примирив Сталина со зданием напротив Мавзолея, то, по крайней мере, отведя от него угрозу немедленного уничтожения.
А надо заметить, что ГУМ в те годы жил не только партийными похоронами и государственными праздниками, но и самой обычной трудовой жизнью, какой жила вся страна. С начала 20-х годов и вплоть до 1953-го, на третьем этаже 2-й и 3-й линий со стороны Ильинки размещались коммуналки, где из всех удобств цивилизации в распоряжении жильцов имелись только общественные туалеты ГУМа. И все бы так и тянулось еще долго-долго, как струйка воды, капающая из полузакрытого ржавого крана, если бы не Анастас Иванович Микоян, отвечавший за легкую промышленность в СССР. У этого человека были интуиция, вкус, размах и виртуозное умение обходить острые углы как в политике, так и в жизни. Дальше игнорировать сферу потребления было невозможно. Все-таки шел уже восьмой год после окончания великой войны. Уже вышла в свет кулинарная библия советских людей – “Книга о вкусной и здоровой пище”, а главный универмаг СССР все еще был закрыт. Не дело, товарищи!
И вот тогда, в самый разгар холодной войны, Микоян, не убоявшись обвинений в космополитизме, потребует от проектировщиков и поставщиков взять за образец именно американские универмаги с их крикливым изобилием, конвейерной системой и установкой на массовые вкусы.
Что и говорить, ГУМ 50-х потрясал масштабами. “Подвалы ГУМа вмещают 500 вагонов товаров. Среднедневная посещаемость – около 200 тысяч человек, а в отдельные дни это количество возрастает до 250 тысяч человек. За один год универмаг посетило 65 миллионов человек. Это примерно равно числу жителей Франции, Бельгии, Австрии и Греции, вместе взятых”, – радостно рапортовал первый директор ГУМа Владимир Каменев.
Всё, конечно, так! Только эта гигантомания не страховала от разного рода конфузов и досадных обломов. Например, как расстроил своих поклонников в СССР всеобщий любимец Жерар Филип, когда, скупив полсекции женского белья в ГУМе, развернул свою скандальную выставку в Париже! Мол, что можно ждать от страны, в которой женщины обречены носить такие панталоны и бюстгальтеры?
Или Симона Синьоре с Ивом Монтаном, не высказавшие ни малейшего энтузиазма при посещении знаменитой 100-й секции, и даже наоборот, недвусмысленно заявили Хрущеву, что ситуация с закрытыми распределителями и благами для партийной элиты только подрывает веру в идеи социализма и всеобщего равенства. Их довольно быстро вычеркнули из списков “друзей Советского Союза”.
Впрочем, это были лишь отдельные малоприятные эпизоды, ничего особенно не менявшие ни в жизни, ни в ассортименте ГУМа. К началу 60-х обнаружились проблемы куда серьезнее: вдруг стало ясно, что качественных товаров для этого бесперебойного конвейера катастрофически не хватает. И очень быстро из символа советского благоденствия ГУМ превращается в символ отечественного дефицита.
И снова на Политбюро поднимается вопрос, что хорошо бы его закрыть, а еще лучше – вообще снести. Потому что только одной очереди позволено находиться вблизи священных стен – в Мавзолей! Но по звону курантов на Спасской башне ровно в 8:00 утра темные толпы, караулившие этот миг на морозе по нескольку часов, начинали яростный штурм гумовских подъездов и прилавков, пугая ветхих кремлевских старцев и вызывая в их памяти страшные сцены из фильмов Эйзенштейна “Октябрь” или “Стачка”. Больше всего они боялись, что вместо ГУМа снесут их.
Сцена вторая. НостальгическаяВ начале 60-х ГУМ стал Меккой для приезжих. Москвичи там терялись. Помню, что мы с родителями вели себя в ГУМе как праздные туристы. Папа пытался что-то фотографировать, мама разглядывала унылые витрины с тем же выражением, с каким время от времени просматривала мой школьный дневник. Смесь отчаянья и смирения одновременно. Это же ее сын! Это же ее Родина! Куда деваться? Впрочем, на самом деле выход был. Отец работал за границей, и какое-то количество сиренево-голубых чеков Внешпосылторга, которые можно было отоварить в валютной “Березке”, скрашивали наше скромное советское бытие. Исполнив патриотический долг и приобщив единственного сына к реальной жизни, родители покидали главный универмаг Москвы, чтобы отправиться на Таганку или на улицу Ферсмана, где за закрытыми жалюзи шла своя тайная, неприметная, полусекретная жизнь, к которой гумовские очереди никакого отношения не имели. Там вообще не было очередей, зато было много, как я теперь понимаю, вполне добротного и качественного импорта. Мама примеряла, папа расплачивался, я скучал. Всё как обычно!
Я не задавал лишних вопросов. В моей семье это было не принято. Но мысль о некоторой несправедливости в устройстве мира была заложена именно в тот момент, когда папа загружал пластиковые пакеты из “Березки” в багажник своей новенькой “Волги” (77–54 МОЩ, до сих пор помню ее номер), а мама в своем французском пальто в стиль милитари усаживалась на свое законное место справа. Длилось это все недолго. Папа рано умер. “Волгу” пришлось продать, визиты в “Березку” стали гораздо реже, но и ГУМ в свете всех этих перемен так и не стал мне ближе.
Там по-прежнему было не протолкнуться. И всё те же темные толпы осаждали прилавки и протягивали руки, на бледных запястьях которых были написаны шариковой ручкой заветные номера. Как говорила одна моя подруга, “кто не стоял в этих очередях, тот не с нами”.
Но даже ради великой любви я не готов был тратить жизнь на поиски итальянских сапог на молнии, или часами караулить батники в облип на заклепках, или вести изнуряющую охоту за черным свитером-лапшой с высоким воротом. Зато я почти наизусть знал захватывающую сагу этих одиноких сражений в коридорах и на лестницах ГУМа.
Меня возбуждал победный блеск в любимых глазах, когда очередной трофей извлекался из недр картонной коробки и комната оглашалась счастливыми воплями: “Мой размер! Мой!” “За это можно всё отдать!” – как пела в то время по телевизору еще молодая Алла Пугачева, простирая к нам свои тонкие руки. И мы отдавали и отдавались без всяких сожалений и комплексов.
Так вышло, что какое-то время я работал в непосредственной близости с ГУМом. Просто дверь в дверь, окно в окно. Проезд Сапунова, отделение драматургии ВААП[1]. Высокая лестница вела в тесные комнаты, заставленные сверху донизу пачками с пьесами советских драматургов, которые отсюда рассылались по всем театрам нашей необъятной Родины. Уже за версту от всего этого пахло театральной пылью, от которой я задыхался. “Кому это надо? – думал я, с тоской погружаясь в чтение очередного опуса, отпечатанного, как и сто лет назад, на линотипе. – И кто это все будет играть? И кто это будет ставить?”
Но кто-то ставил, и кто-то играл. А кто-то, отчаявшись достать что-то приличное, шел в ГУМ. Какое-то время даже считалось чем-то вроде хорошего тона ходить во всем советском. Какие-нибудь войлочные ботинки на молнии под названием “Прощай, молодость” или тяжелые башмаки для турпоходов на высокой шнуровке. Впервые я увидел их на будущем главном летописце русского рока Артемии Троицком, пришедшем наниматься на работу в ВААП. Тогда подумал: “Какой стильный парень!” Но познакомиться ближе не удалось. Тёму к нам не взяли. Режимное предприятие.
“И потом, вы видели его башмаки?” – буравя меня глазами, спросила завотделом кадров Клавдия Дмитриевна. Видел, но что делать? С обувью-то нынче засада, мадам.
Или серое пальто из букле в любую погоду с октября по апрель на Володе Мирзоеве, будущем знаменитом режиссере, а тогда моем заместителе в журнале “Советский театр”. Никогда не забуду, как мы шли вдвоем по Красной площади, медленно падал снег, красиво оседая на его пальто и уже седоватой бороде. А я все говорил и говорил, что при нашей жизни ничего здесь не изменится. Что надо валить из этого пыльного мавзолея, как бы уютно мы себя ни чувствовали, забаррикадировавшись от всего мира завалами никому не нужных пьес.