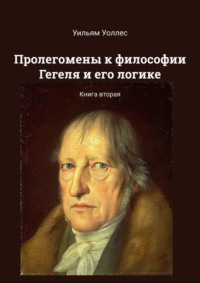Полная версия
Пролегомены к изучению философии Гегеля. Книга первая
Величие философии заключается в ее способности постигать факты. Наиболее характерным фактом нового времени является христианство. Общие мысли и действия цивилизованного мира попеременно восхищались и отталкивались, но всегда находились под влиянием и в высокой степени пронизывались христианской теорией жизни и еще более верным видением этой жизни, проявленным в Сыне Человеческом.. Пройти мимо этого огромного облака свидетельства и оставить его на другой стороне – значит признать, что ваша система не является ключом к тайне мира, – даже если мы добавим, как некоторые предпочитают, мир таким, какой он есть и был. И поэтому гегелевская система, если она вообще хочет быть философией, должна быть в этом смысле христианской. Но это не критик и не апологет исторического христианства. Голос философии подобен голосу еврейского доктора Закона: «Если этот совет или эта работа будут человеческими, то они сойдут на нет; но если они будут от Бога, вы не сможете ниспровергнуть их. Философия исследует то, что есть, и нет [стр. 33] что, по некоторым мнениям, должно быть. Такая точка зрения не требует обсуждения «Как» или «Почему» христианства. Оно не предполагает исследования исторических документов или веры в чудеса: для него христианство лишь случайно опирается на свидетельства истории; а чудеса, как их вульгарно объясняют, не могут найти отклика в философской системе. Для него христианство является «абсолютной религией»: религией, которая полностью стала и реализовала все, чем религия должна была быть. Эта религия имеет, конечно, свою историческую сторону: она появилась в определённую эпоху в анналах нашей расы: она проявилась в уникальной личности замечательного народа. И в ранний период своей жизни Гегель пытался собрать в одном представлении черты этой величественной фигуры в его жизни, речи и смерти. Но в свете философии эта историческая сторона представляется сравнительно неважной. Не личность, а «откровение разума» через дух человека: не летопись жизни, некогда проведённой в служении Богу и людям, но слова «Вечного Евангелия» составляют отныне суть христианства.
Таким образом, контролирующая и центральная концепция жизни и действительности, которая является окончательным объяснением всего, что человек думает и делает, имеет двоякий аспект. Существует как бы двойной Абсолют, ибо под этим именем философия имеет то, что в религии соответствует Богу. Это правда, что в окончательной форме его системы Абсолютный Дух имеет три фазы, каждая из которых как бы переходит в следующую и включается в нее: Искусство разрабатывает свои выводы, пока не появляется как Религия, и Религия, требующая своего совершенствования в Философии.. Но в «Феноменологии», его первой работе, религия Искусства выступает лишь как ступень от «естественной» религии к религии проявленной или раскрытой; и в первом издании Энциклопедии то, что впоследствии называется Искусством, под названием «Религия искусства». В полном соответствии с этими указаниями в «Лекциях по эстетике» сказано, что «истинное и оригинальное положение Искусства состоит в том, чтобы быть первоочередным непосредственным самоудовлетворением Абсолютного Духа»; хотя в наши дни (добавлено) «его форма перестала быть высшей потребностью духа». Тогда вряд ли будет преувеличением сказать, что для Гегеля Абсолют имеет две фазы: религию и философию. 13
Гегелевская точка зрения наиболее решительно, хотя, возможно, и с некоторой лекционной чрезмерной настойчивостью, представлена в «Философии религии». «Цель религии, как и философии, – это вечная истина в самой ее объективности – Бог и ничего, кроме Бога, – и „объяснение“ Бога. Философия есть не мудрость мира, а познание не мирского: не познание внешней массы эмпирического существования и жизни, а познание того, что вечно, что есть Бог и что вытекает из Его природы. Для этого природа должна раскрыть и развить себя. Следовательно, философия „объясняет“ себя только тогда, когда она „объясняет“ религию; и, объясняя себя, она объясняет религию… Таким образом, религия и философия совпадают: в сущности, философия сама есть богослужение, есть религия: ибо она есть то же самое отречение от субъективных фантазий и мнений и занимается одним только Богом.» 14
Опять же, можно задаться вопросом, в каком смысле философия имеет дело с Богом и Истиной. Эти два термина у Гегеля часто являются синонимами. Все объекты науки, все условия мышления, все формы реальности выходят из себя и ищут центр и точку покоя. Они во многом неадекватны и частичны, жаждут адекватности и полноты. Они склонны к самоорганизации; чтобы вызвать больше и, более отчетливо, более полную реальность, которую они предполагают, которая должна была бы быть, иначе они не могли бы быть: они сводят свою первую видимость полноты к должной степени неадекватности и выявляют свою дополнительную сторону, чтобы составить систему или вселенная; и в этой тенденции к самокорректирующемуся единству состоит их продвижение к истине. Их неправда заключается в изоляции и притворной независимости или окончательности. Это завершенное единство, в котором все вещи обретают свою целостность и становятся адекватными, является их Истиной: и эта Истина, как ее называют на религиозном языке, есть Бог. Правильно или неправильно, но именно так истолковывается Бог в «Логике Гегеля».
Такая позиция должна показаться очень странной тому, кто знаком лишь с трезвым изучением английской философии. В чем бы то ни было еще разногласие лидеров нескольких школ в этой стране, они почти все заодно изгоняют Бога и религию в мир за пределами нынешней подлунной сферы, в непостижимую область за пределами научного исследования, где можно делать заявления. по своему желанию, но у нас нет возможности проверить какое-либо утверждение. Это общая доктрина Спенсера и Мэнсела, Гамильтона и Милля. Даже те английские мыслители, которые проявляют некоторую озабоченность поддержкой того, что в настоящее время называется теизмом, обычно довольствуются оправданием для ума смутного восприятия Существа, находящегося за пределами нас и несоизмеримо отличающегося от нас. Бог для них – остаточное явление, маргинальное существование. Вне царства опыта и знания существует не-ничто – нечто – за пределами определенных границ: неисчислимое и, следовательно, объект, возможно, страха, возможно, надежды: отражение в кромешной тьме великого «Что-что-будет- не-быть? Он – Неизвестная Сила, ощущаемая [стр. 36] то, что некоторые из этих авторов называют интуицией, а другие – опытом. Однако они не дают познанию какой-либо способности постигать в деталях истины, принадлежащие Царству Божьему. Все же учение Гегеля есть ниспровержение установленных таким образом границ религиозной мысли. Для него всякая мысль и вся действительность, когда она схвачена знанием, являются со стороны человека возвышением ума по отношению к Богу; тогда как, если рассматривать их с божественной точки зрения, это проявление Богом Его собственной природы в его бесконечное разнообразие.
Только когда мы ясно сосредоточим внимание на этих общих чертах его рассуждений, мы сможем понять, почему он относит зрелость античной философии ко времени Плотина и Прокла. Не то чтобы эти неоплатоники как мыслители обладали силой, равной их господину в Афинах. Но в царстве слепых одноглазый может быть королём. Позднейшие мыслители отчетливее и настойчивее ставили свой взгляд на землю вечную – «на ту сторону бытия», по выражению Платона. По той же причине Гегель уделяет так много внимания религиозным или полурелигиозным теориям Якоба Беме и Якоби, хотя эти люди во многом были непохожи на него самого.
ГЛАВА V. ПСЕВДОИДЕАЛИЗМ: ЯКОБИ
Опасно пытаться в нескольких абзацах подытожить чистый результат философии. Поскольку Аристотель отделил чистую «энергию» философии от деятельности, которая оставляет после себя сделанные дела и поступки, нет нужды повторять, что результат философской системы не является ничем осязаемым или ощутимым, ничем, на что можно положить палец и сказать определенно: Вот он. Дух философии всегда отказывается заключаться в формулу, как бы ловко вы ни пытались его туда загнать. Изложение принципа или тенденции философской системы говорит не о том, чем эта система является, а о том, чем она не является. Оно отграничивает позицию от смежных точек зрения; и поэтому никогда не выходит за пределы границы, которая отделяет эту систему от чего-то другого. Метод и процесс рассуждения столь же важен для познания, как и результат, к которому он приводит: и метод в этом случае тесно связан с предметом. Поэтому простой анализ метода или простое изложение цели и результата системы было бы, как в том, так и в другом случае, бесплодным трудом и не привело бы ни к чему, кроме слов. Таким образом, любая попытка передать проблеск истины в нескольких предложениях и крупных набросках оказывается пресеченной. Теория Гегеля питает отвращение к простым обобщениям, к абстракциям, в которых нет жизни и из которых нельзя вырасти. Его принцип должен доказать и подтвердить свою истинность и адекватность: и эта проверка заполняет весь круг кругов, из которых, как говорят, состоит философия.
Кажется, будто в Гегеле есть две разные привычки ума, которые мир – внешний наблюдатель – редко видит, разве что в раздельности. С одной стороны, он симпатизирует мистическим и интуитивным умам, сторонникам непосредственного знания и врожденных идей, тем, кто считает, что наука и демонстрация скорее отвлекают от единственно необходимого – тем, кто хотел бы «лежать на лоне Авраама весь год», тем, кто хотел бы ухватиться за целое, прежде чем пройти через рутину деталей. С другой стороны, в нем сильно развит «рационализирующий» и невидящий интеллект, с практическим и реалистическим уклоном и полным научным духом. Шеллинг, будучи в гневе, мог бы описать его как «квинтэссенцию всего прозаического, как снаружи, так и внутри». Однако, если посмотреть на Гегеля с другой стороны, его обвиняют в мечтательности, пиетизме и мистическом богословии. Его слияние обычных контрастов мысли в более полную истину, и то, что в народе называют смешением религиозных и логических вопросов, и общая непостижимость его доктрины – все это, кажется, подтверждает такое обвинение. Однако все это не противоречит грубой и язвительной силе понимания, простоте разума и определенной твердости темперамента. Этот философ во многих отношениях не отличим от обычного гражданина, и нередки моменты, когда жена слышит его сетования на провидение, обрекшее его быть философом. Он презрительно относится ко всему слабому сентиментализму, почти жестоко подчеркивает разумность действительного и глупость мечтаний о возможном-возможном; и ведет свои домашние счета так же тщательно, как средний глава семьи. И, возможно, это слияние двух тенденций мышления можно заметить в постепенном созревании его идей. В период его «Lehrjahre», или ученичества, с 1793 по 1800 год, мы видим, как изучение религии в Берне сменяется изучением политики и философии во Франкфорте-на-Майне. 15 16
Его цель в целом можно назвать попыткой соединить широту с глубиной, интенсивность мистика, жаждущего единения с Истиной, с расширенным диапазоном и ясностью тех, кто умножает знания. Глубина ума лишь настолько глубока, насколько он смел, чтобы расширить и потерять себя в экспликации. Он должен доказать свою глубину упорядоченной полнотой реализованного им знания». Позиция и творчество Гегеля не будут понятны, если мы не будем учитывать оба этих антагонистических момента. 17
Цель философии, как уже отмечалось, для Гегеля – познать Бога, то есть познать вещи в их Истине, увидеть все вещи в Боге, постичь мир в его вечном значении. Если предположить, что эта цель может быть достигнута, то какой метод открыт для ее достижения? С одной стороны, существует метод обычной науки, когда речь идет о ее объектах. Это вещи, найденные как бы спроецированными в пространство перед наблюдателем, лежащие вне друг друга в prima facie независимости, хотя и связанные (при дальнейшем обнаружении) друг с другом определенными «случайностями», называемыми качествами и отношениями. К объектам познания несколько наивный интеллект, принимающий традицию как физический факт, относит некоторые «вещи» весьма своеобразного характера. Одна из них – Бог: другие, к которым примыкает историческая критика, – Душа и Мир. И что бы ни говорили о вещности, реальности или существовании мира, несомненно, что Бог и Душа фигурируют, и фигурируют в значительной степени, в сознании человеческой расы как сущности, отличающиеся, вероятно, во многих отношениях от других вещей, но все же обладающие некоторыми общими фундаментальными чертами и, таким образом, играющие роль отдельных реальностей среди других реальностей.
Учитывая такие объекты, для размышляющего ума вполне естественно попытаться создать науку о Боге и науку о душе, как и о других «вещах». А к ним философ, любящий систему, мог бы добавить науку о мире (космологию). Действительно, считалось, что эти объекты являются особенными и уникальными. Так, например, что касается Бога, то логик, который видел традицию в ее истинном свете, считал необходимым доказать Его существование»: и для этого в разное время были придуманы различные аргументы. Что касается человеческой души, то считалось необходимым установить ее независимую реальность как вещи, действительно отделенной от телесного организма, с которым, очевидно, связаны ее явления, – доказать, короче говоря, ее субстанциальное существование и ее освобождение от телесной участи растворения и распада. Что касается мира, то здесь проблема была совсем иной: чувствовалось, что это название скорее наводит на размышления, чем обозначает реальность. Как мы можем предсказать целому то, что можно предсказать его частям? То или иное может иметь начало и причину, может иметь предел и конец: но можно ли представить совокупность под этими аспектами, не приводя к самопротиворечию? И результатом этих вопросов в случае с «Космологией» стало то, что в конечном счете подобные сомнения возникли и в отношении «Рациональной» теологии и «Рациональной» психологии. 18
Практически эта метафизическая наука, названная так потому, что имеет дело с областью или областями бытия за пределами обычной или естественной (физической) реальности, обращалась с Богом и душой теми же терминами (или категориями), которые она использовала при работе с «материальными» объектами. Бог, например, был силой, причиной, существом; так же и душа. Главная цель разрушительной «Критики чистого разума» Канта – оспорить справедливость включения Бога и души в число объектов науки, в число вещей, которые мы можем познать, как мы можем познать растения или звезды. Для того чтобы сделать объект познания (в строгом смысле слова), сделать вещь, необходимым условием, по мнению Канта, является восприятие в пространстве и времени. Без ощущений – и этих ощущений, как бы разложенных по местам и длительностям, – объект науки невозможен. Никакая простая демонстрация не сможет вызвать его к существованию. И с этим требованием старые теология и психология, которые исповедовали изложение объекта-Бога и объекта-души, были исключены из списка наук и сведены к простым диалектическим упражнениям. Круг наук, таким образом, не ведет за пределы обусловленного, за пределы пространства и времени. Ему нечего сказать о «первой причине» или о конечной цели.
Таков был результат, который можно с полным основанием ожидать от «Критики естественного разума» Канта, – особенно если читать ее без дополнительных продолжений, и прежде всего тем, в ком чувство было сильнее мысли, или тем, кто от природы был более наделен тягой к вере, чем философским умом. Такая личность проявилась в Й. Х. Якоби, младшем брате поэта, ничем не выдающегося в свое время. Среди обязанностей государственной службы и забот по бизнесу он находил время для изучения Спинозы, английских и шотландских моралистов, а главное – с интересом следил за развитием Канта, начиная с 1763 года. Его дом в Дюссельдорфе был местом многочисленных литературных встреч, а сам Якоби поддерживал тесное общение с лидерами литературного и интеллектуального мира, такими как Лессинг, Гаманн, Гете. Его первыми значительными произведениями были два романа в письмах – «Алвилл», начатый в серийном журнале в 1775 году, и «Вольдемар», начатый в другом журнале в 1777 году; оба были изданы как полные произведения в 1781 году. Оба они опираются на моральный антитезис, и оба оставляют антитезис в том виде, в каком они его нашли. Здесь защитником выступает сердце: «только оно одно и прямо говорит человеку, что хорошо»: «добродетель – основной инстинкт человеческой природы»: истинная основа морали – это непосредственная уверенность; а высший стандарт – это «этический гений», который как бы открыл добродетель и который все еще является первостепенным авторитетом в тех исключительных жизненных ситуациях, когда «грамматика добродетели» не может предложить адекватных правил и когда, следовательно, непосредственный голос совести должен в «лицензии возвышенной поэзии» осмелиться, как говорит Берк, «приостановить свои собственные правила в пользу своих собственных принципов. ' С другой стороны, есть поборник разума, который объявляет весь этот сентиментализм «настоящей мистикой антиномизма и квиетизмом безнравственности»: «Для человечества, – говорит он, – и для каждого человека (каждого полноценного человека) принципы и некоторая система принципов являются необходимыми». В заключение Вольдемар приводит пару девизов: «Кто доверяет своему сердцу, тот дурак» и «Доверяй любви: она все берет, но и все дает». 19 20
В 1780 году у Якоби состоялся исторический разговор с Лессингом в Вольфенбюттеле. Разговор зашел о Спинозе. В течение многих лет философия Спинозы, казалось, исчезла из мира. Его имя звучало лишь в недоброжелательном контексте, как будто было опасно даже подозревать, что он заражен атеизмом. Но и Лессинг, и Якоби обнаружили его. Первый видел в нем союзника в борьбе за высший свет и более широкие взгляды, которую он вел в духе и с размахом, о которых едва ли догадывались те, с кем он обычно работал. Якоби, напротив, видел в нем олицетворение всех тех иррелигиозных тенденций, которые в той или иной степени проявляет вся философия: тенденцию завуалировать или отодвинуть на второй план Бога и личность. «Я верю, – говорит Якоби, начиная разговор, – в разумную личную причину мира». «Тогда я собираюсь, – ответил Лессинг, – услышать нечто совершенно новое»: и он сухо отбросил рапсодию другого о «личном внемирном божестве», заметив: «Слова, мой дорогой Якоби, слова». Работа Якоби «Письма о доктрине Спинозы» (она вышла в 1785 году) стала началом полемики, в которой приняли участие Мендельсон и Гердер, и в которой под опекой Гердера принял участие Гете. Для точного филологического изучения Спинозы она не внесла большого вклада: ведь тот Спиноза, которого Гердер и Гете считали своим духовным предком, в их мыслях преобразился в фигуру, которой Лейбниц имел почти равное право дать свое имя. Он поддерживал для них символ имманентности божественного в природе: он был лидером в борьбе с «обывательским» деизмом и утилитаризмом. 21
В кантовской критике псевдонаучности теологии Якоби, в общем-то, не было недостатка. То, что рассуждение своей демонстрацией не может обнаружить Бога, было для него аксиомой. Но «человек чувства» чувствовал себя неловко из-за язвительных методов кёнигсбергского логика. Ему казалось, что мир людей и вещей превращается под манипуляциями Канта в простое собрание явлений и идей разума. Еще больше он ощущал потерю своего Бога. Тот суррогат аргументов в пользу теизма, который Кант, казалось, предлагал в виде следствий нравственного закона, не давал того, чего хотел Якоби. Простая мораль – это холодный и механический принцип, думал он, по сравнению с той бесконечной жизнью и любовью, которую, как мы считаем, мы имеем в Боге. Сын человеческий, считал он, в силу вселившегося в него гения совести был верховным над моральным законом: насколько же Абсолютное и Вечное выше по уровню бытия, чем его механические закономерности!
Если путь рассуждений не приведет нас к Абсолюту, тем более (а именно этого хочет достичь Якоби) к Богу, то должен быть другой путь: ведь что-то в человеке, что можно назвать Верой или Чувством, Духовным Ощущением или Разумом, провозглашает уверенность в реальности как Бога, так и природы. Существует объективная реальность, находящаяся вне его и за его пределами, до которой еще предстоит добраться смелым прыжком, когда он, усилием воли закрыв глаза на временное и механическое, окажется переброшенным через разделяющую пропасть в страну вечной жизни и любви.
«Я взываю, – говорит он в своих последних высказываниях, – к императиву, к непобедимому чувству как первооснове всей философии и всей религии, – к чувству, которое позволяет человеку осознать и жить тем, что у него есть чувство к сверхчувственному». «Поскольку именно религия делает человека человеком, – продолжает он, – и только она поднимает его над животными, она же делает его философом». Таким органом для сверхчувственного является то, что в своих поздних работах он называет Vernunft (Разум) и отличает от Verstand (рассудок). «Этот разум, – говорит Кольридж (которому мы обязаны таким употреблением терминов в английском языке) в «Друге», – является органом, имеющим такое же отношение к духовным объектам, какое глаз имеет к материальным явлениям, Это «та интуиция вещей, которая возникает, когда мы воспринимаем себя как единое целое и противопоставляется той «науке простого понимания», в которой «перенося реальность на отрицания реальности (на постоянно меняющиеся рамки однообразной жизни), мы думаем о себе как об отделенных существах и ставим природу в противоположность разуму, как объект субъекту, вещь мысли, смерть жизни». ' Но Разум – это нечто большее. Это непосредственный контакт с реальностью, которую он утверждает и которой даже является. Он постигает «я» и «ты», он постигает прежде всего великого «Ты», Бога: постигает и, можно даже сказать, присваивает. И оно постигает их в один миг, в один смертный залп, потому что действительно неявно владеет ими. Назовите этот шаг чудом, если хотите: вы должны признать, добавляет он, что «в то или иное время каждая философия должна прибегнуть к чуду». 22 23 24
И все же это утверждение звучит фальшиво – в его повторении проявляется женское упрямство и слабость. У него есть реальность, но у него ее нет. «Если бы Бог был известен, – говорит он в одном месте, – он не был бы Богом». Он страстно жаждет обрести живое и истинное: он чувствует себя и Вечное единым целым: его вера дает реальность того, на что он надеется. Но, добавляет он, «мы никогда не увидим Абсолюта»: первичный свет разума лишь слаб. Это лишь предчувствие, предпосылка Вечного. Этот разум, короче говоря, нуждается в дисциплине и развитии, ему нужна этическая жизнь, чтобы поднять его: «Без морали нет религиозности», – говорит он. «Свет, – жалуется он, – есть в моем сердце, но в тот момент, когда я хочу довести его до понимания, свет гаснет». И все же он знает – и Кольридж повторяет это – «сознание разума и его откровений возможно только в понимании».
«Похоже, что на Якоби действуют один или два мотива. Простой человек, особенно если он обладает высоким характером и «благородной» религиозностью, чувствует, что жажда философствования нарушает безопасность жизни и ставит под угрозу то, что ему заслуженно дорого. В таком человеке «энтузиазм логики» – спокойное стремление к истине любой ценой, столь характерное для Лессинга, – уступает «энтузиазму жизни» – страсти, в которой неразрывно слиты земное и небесное, где человек держится за Бога как за оплот самости и возводит личность – нашу человеческую личность – к трону Вечного. Он будет всем, что благородно и хорошо, если только от него не потребуют полного отказа от себя. Так и для Якоби Бог или Абсолют (ибо он оставляет свою «нефилософию» настолько далеко, что использует оба имени) – это скорее конечная цель великой, всепоглощающей тоски, чем спокойная, эгоцентричная, саморазвивающаяся жизнь, которая увлекает за собой человека. Он чувствует, что было бы очень ужасно, если бы в конце концов не нашлось Бога, чтобы встретить нас, и трон вселенной оказался бы пустым. Поэтому долой философию! Давайте держаться за веру нашей природы и нашего детства и отказываться от ее предательских утешений! Гегель, например, не склонен спорить с центральным положением Якоби. Он тоже, задавая и отвечая на вопрос о проблемах этой и лучшей жизни, мог бы сказать: «Вопрос, ответ предполагают
два момента: что сама вещь, которая задает вопросы, отвечает, – есть, она
знает; как знает и то, что воспринимается вне себя – силу.
Действующая до своего начала, действующая на протяжении всего своего пути, не зависящая от своего конца, – что эта вещь также должна быть; Назовите это Богом, затем назовите это Душой, и оба они будут для меня единственными фактами. Докажите, что это факты? То, что они превосходят мою способность доказывать, доказывает.
они таковы: Факт это, я знаю, я не знаю ничего, что было бы фактом в той же степени». Но когда Якоби говорит далее, что высший и последний долг истинного мудреца – «раскрыть реальность», имея в виду тем самым, что, учитывая чувство, он должен только «хорошо его определить, боясь, что божественная философия перешагнет за свою черту и станет покровительницей владык ада».