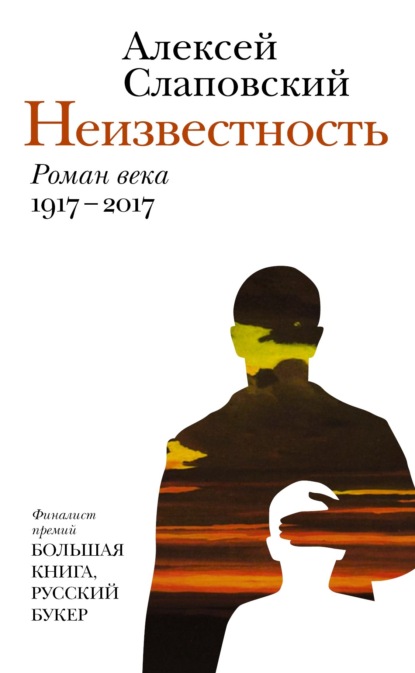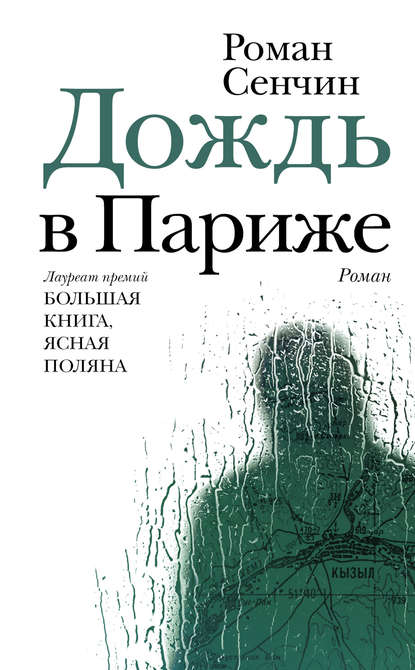Полная версия
Девяностые
Бежал долго, по узким улочкам, через дворы, не слушая звуков погони.
От страха прибавилось сил, ноги шевелились споро, дыхание было почти ровным. Быстро привыкаешь быть всегда начеку и при необходимости убегать. Я и на этот раз уцелел. Влетел в какой-то подвал, забился за какие-то толстые трубы и замер.
Тишина. Я закрыл глаза, сунул руки в рукава куртки, спрятал лицо под ворот свитера.
Постепенно задремал. Далеко-далеко появился светлый веселый кружочек. Нет, это не звезда… Он плавно приближался ко мне, рос, расцветал. Вот он уже танцует передо мной. Мертвый холод насыщался теплом, жизнью. Я расправился и окунул в тепло руки, потом лицо. Я слушал его ласковое дыхание, я тянулся к нему, чтоб тепло приняло меня всего, спрятало в себе навсегда…
* * *Кто-то осторожно зашебуршал за чудом сохранившейся деревянной стеной. Я распахнул глаза, но было совсем темно. Так же холодно и одиноко. Но это шебуршение… Неужели во сне? Нет, нет! Громко забилось сердце, во рту появились слюни. Рука нащупала рукоятку ножа, крепко вцепилась в него, вынула из кожаных ножен.
Шебуршение повторилось. Несомненно, за досками было нечто живое! Кошка, не меньше…
Я бесшумно поднялся, обдумывая, как бы ловчее обрушиться на жертву. Упустить такой шанс было бы величайшей глупостью.
Осторожно, очень осторожно пошел. Вот проем в тот закуток, откуда исходило шебуршение… Кошка, конечно, хорошо видит меня, может, она уже удрала, спряталась… Я задрал руку с ножом для полноты удара, а другой водил перед собой и по бокам. Водил и ногами, нащупывая добычу.
Где же? Слюни теплой струйкой текли по подбородку. Я уже представлял, как разделываю маленькую тушку, парящую, аппетитную. Как обжариваю кусочки на костре, вдыхая аромат свежего мяса… Газ в зажигалке еще есть, еще есть…
* * *– Не надо, – жалобно попросили из темноты.
Я дернулся, оглушенный словами, точно мне самому воткнули в живот тонкую и длинную заточку.
– Пожалуйста, не убивайте меня. – Голос полудетский, кажется, девичий, но хрипловатый и застоявшийся.
– Ты кто? – спросил я, вглядываясь в темноту, держа нож наготове, ожидая ловушки.
– Я Лена.
– Ты… ты одна?
– Да.
Левой рукой я достал из кармана драгоценную зажигалку, не теряя бдительности, зажег. Ровно и слабо осветился весь закуток. На полу, среди одеял и одежды, сидела девочка лет двенадцати. Большие испуганные глаза смотрели на меня пристально. Она не жмурилась, значит, не отвыкла от света. Я затушил зажигалку, спросил:
– У тебя зажигалка есть?
– Нет… Спички и свечка.
– А еда?
– Еда кончилась.
– Зажги свечку.
Девочка зашевелилась, громко чиркнула спичка. Спокойным огоньком затеплилась вставленная в пустую консервную банку свечка. Сразу стало живо, уютно.
Я еще раз осмотрелся, спрятал нож и опустился на корточки. Девочка по-прежнему рассматривала меня; ее страх, кажется, почти прошел. Я долго думал, что бы сказать ей. Наконец придумал:
– Давно ты здесь?
– Уже тридцать четыре дня.
– Дня! – я усмехнулся.
Лена улыбнулась в ответ, и я заметил ее белые, здоровые зубы. Она была совсем не похожа на всех, кого встречал я в последнее время.
– У меня и часы есть! – наверное, желая окончательно сдружиться со мной, похвалилась девочка. – Сейчас половина восьмого. А в восемь, – голос ее стал грустноватым, – в восемь мы всей семьей садились ужинать. Папа, мама, Ромашка и я…
Я сидел на корточках, протянув руки к огоньку.
– М-да, – тоже завспоминал, – а после ужина плюхнуться в кресло и покурить…
– Вы курите?
На ее вопрос я снова усмехнулся:
– Было б что… Тыщу лет ни затяжки.
Девочка полезла в сумку, что лежала за ее спиной, вынула пачку «Астры», протянула мне.
– Берите, мне уже, наверно, не понадобится. Папины…
Я принял сокровище, рассмотрел надписи.
– Ростовская. Неплохая фабрика. Спасибо… м-м… Лена.
– Пожалуйста! – с готовностью ответила она. – Если не секрет, а вас как зовут?
– Меня? Хе-хе… – Я замялся и почему-то со стеснением назвал свое имя: – Роман.
Лена засмеялась тихо, но искренне, потом резко погрустнела.
– У меня брата так же зовут. Ромой… Ромашкой.
– А где твой брат? – я насторожился.
– Не знаю. Тридцать шесть дней назад мы потерялись. Мы шли – папа, мама, Ромашка и я, а на нас напали. Папа крикнул, чтоб мы бежали. Мы побежали… У каждого были сумки с необходимым… Я вернулась домой, ждала их два дня, а потом сюда спустилась. Там страшно, там людоеды.
Я сидел напротив нее, курил. Мне было непривычно и неловко в обществе другого человека.
– А сколько вам лет? – спросила Лена.
– Мне? Мне девятнадцать.
– Я думала – больше. У вас борода такая… А мне тринадцать. Я в седьмой школе учусь, по улице Чехова. Знаете? А вы где учитесь?
– М-м… Учился тоже… в этой, в пятнадцатой учился.
– Знаю, знаю! – радостно закивала девочка. – Я там на олимпиаде по математике была. А вы, – голос ее стал жалостливым, – таким старым выглядите, обросший весь. Даже и не веришь…
Я усмехнулся, помял колючую бороду.
– Так теплее как-то…
Голова слегка кружилась от табака. Приятно стало, потянуло в сон.
– Есть хочешь? – спросил я.
– Хочу, – охотно подтвердила Лена. – Два дня ничего не ела. Были сухари, консервы… сардина в масле… Много чего. Но все кончилось.
– Сардина в масле, – повторил я, припоминая ее вкус, но не припомнил и вытащил из-под свитера кочерыжку.
При свете кочерыжка имела неприглядный вид. Грязная, обглоданная, но все равно – съедобная. Я подал ее Лене.
– На, поешь. Это все, что есть.
– Спасибо!
Она вынула из тряпья фляжку, встала, прошла в угол закутка, склонилась над небольшой посудиной. Экономно обмыла кочерыжку.
Вернулась на место, села, разрезала ее. Протянула мне половину.
– Ешь всё, я сыт.
Я соврал. Есть хотелось. Но не кочерыжку.
Лена молча спрятала мою долю в сумку. Стала не спеша жевать. Хрустела, как кролик морковкой.
– Рома, а вы читали «Тараса Бульбу»? – спросила вдруг.
Я сначала и не понял, о чем она, потом кивнул:
– Да, когда-то.
– Помните, там когда Андрей… Андрий пришел в город и дал голодному хлеба, а голодный съел и умер… Помните?
– Вроде. – Я не помнил.
– А я так же не умру?
– Не умрешь, не бойся. – Хотелось улыбнуться, но не получилось, я сумел только ласково как-то хмыкнуть. – Не бойся, ешь.
Лена похрустела кочерыжкой, заговорила снова:
– А теперь читаю «Алые паруса». – Она вынула из все той же сумки обернутую в газету книжку. – Раньше только фильм смотрела, а теперь вот читаю. Вы не читали?
– Нет, – мотнул я головой и попросил: – Можно полистать?
Она протянула мне книгу. Я стал перебирать страницы отвыкшими от бумаги пальцами.
– Интересно. Почитайте, Рома. Такая добрая книга!
Я не смог удержаться от ухмылки. Положил книгу на одеяло.
Посидели некоторое время молча.
– А где ты воду берешь? – спросил я.
– Здесь труба лопнувшая. Я лед накалываю ножиком, и во фляжку. У меня большая фляжка, папина. Я ее кладу на ночь возле себя. Лед растаивает, и пить можно, и умываться.
– Умываться? М-да-а…
Лена посмотрела на часы:
– Десятый час. Пора спать.
Она расстелила тряпки, превратив их в подобие постели. Даже подушки обозначились.
– Ложитесь, – пригласила. – Умыться не хотите?
– Нет, нет! – испугался я. – Пока нет…
С трудом стащил с себя приросшую к свитеру кожаную куртку, глянул на нее и не поверил, что это было когда-то курткой. Помню, я носил ее с гордостью, натирал растительным маслом, чтобы блестела… Теперь же – изодранный, ни на что не похожий, грязный ком… Из-под свитера потек запах мертвечины.
– Ложитесь, Рома, – с улыбкой повторила девочка.
Слышать свое имя было приятно и щекотно.
Я прополз к стене, растянулся на мягких одеялах, накрылся курткой. Лена почистила зубы, погасила свечу, легла рядом.
* * *Мы не спали, лежали молча. Казалось, что в закутке очень тепло. Как дома… Я ловил дыхание моей соседки, наслаждался запахом зубной пасты, который перебивал этот мерзкий, тошнотворный, трупозный дух, исходивший от меня. И самой девочкой пахло очень вкусно… Мне стало обидно, что все это – в самом конце. Дальше только одно… Я проверил, на месте ли нож, и не сдержался – тихонечко заскулил.
– Что, что такое?! – испуганно спросила Лена, повернулась ко мне. – Что с вами, Рома?
– Это… как это… – зашептал я, не находя слов, – это нервы…
От нелепого слова «нервы» стало еще тошнее. Глаза царапались, из них потекли горячие, колючие слезы.
– Не надо, – она гладила мои похожие на проволочки волосы, утешала: – Не надо, Рома. Ведь всё будет хорошо. Завтра утром придумаем что-нибудь. Все-все будет хорошо! Да ведь? Спокойной ночи.
1992
В новых реалиях
На улице темнело, электрический свет не был зажжен. Егоров находился один в своей однокомнатной благоустроенной квартире. Лежал на диване, не спал.
Старался не думать. Устал от мыслей.
А жена и дочки в деревне у ее матери, там легче прокормиться. Завод четвертый месяц стоит. У Егорова бессрочный отпуск без содержания.
Он лежит и старается ни о чем не думать. Устал…
Бах! Телефон. Еще не отключили.
– Алло?
– Добрый вечер, – вежливый голос. – Александра я мог бы услышать?
– Да, это я.
– Сань, ты?! – Голос обрадовался.
– Извините, а с кем имею?..
– Не узнал? Это Макс! Макс Бурцев!
– А-а, Максим! – обрадовался теперь и Егоров. – Здоро́во.
Они не виделись уже года два. Когда-то вместе учились в политехническом институте, затем сталкивались по работе, одно время задружили было, но вот последние два года даже не встречались. Не получалось.
– Рад, очень рад, что вспомнил…
– Да?.. Слушай, Сань, ты сейчас свободен?
– Как ветер, – хмыкнул в ответ Егоров.
– Отлично! Слушай, помнишь, где я живу?
– Ну конечно.
– Давай ко мне! У меня тут маленькое торжество. Мужская компашка… Приходи, посидим.
– Да я как-то… – Егоров не прочь был немного развеяться, выпить, но, действительно, как-то так вдруг…
– Да ну, Санёк, ты чего?! Давай, тут же два шага. Приходи, Санька, жду!
Егоров согласился.
Одевается поприличнее. Хочет побриться, но не бреется, идет так.
У Бурцева двухкомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Жена. Детей нет.
Теперь квартира обставлена совсем иначе, чем пару лет назад; еще в прихожей Егоров понял, что переходный период пошел Максиму на пользу.
– Что за торжество-то? – отздоровавшись, пообнимавшись с хозяином, спросил.
– Да мелочь… Отлично, что пришел. Сто ж лет не видались.
Гостей человек десять. Мужчины в строгих костюмах, при галстуках, мясистые, многие с лысинами, кое-кто в очках. Деловые люди государственного типа. Такими для Егорова были некогда нерядовые члены КПСС. А кто они теперь, такие люди?
И Максим пополнел, порозовел, подрастерял волосы… Егоров же, дожив до тридцати пяти, в свитере, в потертых джинсах, суховатый, вихрастый. Уже пять лет – замначальника цеха на родном заводе. А теперь вот стал как бы безработным.
– Опоздавшему – штрафную! – объявил один из гостей, когда Бурцев разливал по водочным рюмкам коньяк.
Егорову налили полный хрустальный фужер. Он выпил.
Компания уже основательно навеселе. Общаются друг с другом взахлеб, много смеются, заодно пытаются с легкой руки решать какие-то деловые вопросы. Курят ароматные сигареты. Ненавязчиво, уютно звучит интерьерная музыка.
Бурцев занимался Егоровым.
– Вот это попробуй, – подкладывал он что-то зеленоватое, похожее на кашицу, в тарелку. – Продукт моря! Очень полезная вещь, ну и… Ну как?
Егоров ел, было вкусно.
– Как живешь-то? – интересовался Максим.
– А-а, хреновенько.
– Что так?
– Завод прикрыли. Денег нет. Хреновенько – одним словом.
– Так, так…
Бурцев налил Егорову половину фужера, себе рюмку. Выпили. Хозяин потянулся, потер горло, вздохнул:
– А я приспособился, хе-хе, в новых реалиях.
– Вижу, молодец.
Егорову стало хорошо от коньяка. Он действовал совсем иначе, чем водка. Не грузило.
– Решили вот посидеть по старинке, в домашней обстановочке, – говорит Максим, покуривая, рассматривая жующего Егорова. – После трудового дня не грех… А на всех этих дачах да в ресторанах… казенщиной попахивает. Тут свободно.
– Свободно, – согласился Егоров и спросил: – А где жена? На девичнике?
Бурцев улыбнулся:
– Алёна-то? Да она там… на другой квартире. Давай? – Выпили. – Фуф, н-да… Я тут трехкомнатку в центре прикупил. Эта запасной стала. Во-от… Кури.
– Не курю теперь.
– А, здоровьице…
– Какое, к черту, здоровье! – поморщился Егоров и сам налил коньяку себе и Максиму.
Компания разбилась на кучки по два-три человека. Беседовали, пили, курили. Всем удобно, легко…
– Да, кстати, Санька, я тут с одним репортером познакомился. Немец. У него вся наша перестроечка на кассетах. Как-то после баньки смотрели с ним, вдруг – ты! Хе-хе… Не веришь? Сейчас. – Бурцев поднялся, пошатываясь, пробрался к видеомагнитофону; поискал нужную кассету, включил. – Господа! – сказал громко. – Господа, видите сего человека? – Он указал на Егорова.
– Да. Приятный молодой человек, – отвечали гости, отвлекшись от своих бесед.
– Отлично! А сейчас вы увидите его же вот здесь! – Бурцев ткнул в экран телевизора.
Господа заинтересовались. Хозяин вернулся к Егорову. На экране появилась какая-то демонстрация.
– Даже вот переписал у немца этого. На память. История наша как-никак. Может, и тебе надо? Магнитофона-то нет? Гм… Гляди – вон, вон ты!
Егоров увидел себя, в руках плакат «Прошу Слова! Гражданин», а рядом свою жену с картонкой на груди – «Долой 6-ю Статью!». Они шли по центральной улице, среди десятков других людей с плакатами и трехцветными флагами.
– Видел? – радовался Бурцев и похлопывал Егорова по плечу.
– Видел, – хмуро сказал Егоров. – Демонстрация «ДемСоюза» в восемьдесят девятом.
– Н-да-а, дела… А нынче за кого стоишь?
– А мне теперь фиолетово. Теперь одного хочу, – Егоров заговорил громко, со злобой, – чтобы дочки мои… Чтоб меня человеком считали! Вот… что.
Бурцев наполнил ему фужер.
– Давай накатим…
Гости, посмотрев немного на архивную демонстрацию, вновь вернулись к своим беседам. А на экране уже площадь перед зданием обкома, сотни людей…
– Митинг, – объяснил Бурцев.
Бородатый представительный мужчина в очках что-то резко, отрывисто говорил в мегафон, а люди внизу поддерживали его речь одобрительными криками и даже дружно голосовали за что-то.
– Не помнишь, о чем он? – спросил Максим. – Слов не разобрать, а интересно.
– Не помню.
Егоров смотрел на митинг. Он помнил его. Он все помнил.
– Во-во, опять ты!
Егоров появился крупным планом. Он тянул вверх плакат, глаза были большие, светящиеся; он что-то выкрикнул. Камера перескочила на другого.
– Видел, да? Во, времечко было!..
Егоров поднялся, пошел в прихожую. Бурцев за ним.
– Ты куда, Сань?
Егоров обувался.
– Ты чего, обиделся, что ли? Сань?
– Да ну, брось, – ответил Егоров спокойно. – Просто… жена ждет. Извини.
Он ушел и в ту же ночь повесился.
1993
Кайф
За все, как говорится, надо платить. Я вот от души напился у Андрюхи и пошел. Несколько раз падал. Около магазина «Кедр» меня взяли.
– Стой-ка! – принял в объятия пэпээсник с дубинкой.
Потом, помню, куда-то я побежал, а они за мной. Возле сберкассы упал. Помню, меня обыскивали. Нашли темно-зеленый камушек в кармане.
– План! – обрадовался кто-то.
– Не, камень какой-то.
Сунули его обратно.
Потом, помню, стал я буянить. Вырывался. Но ничего, вроде не били.
Потом, помню, в уазике ихнем сидел. Окошечко в двери с решеткой. Город за решеткой, люди спокойно ходят. А я сижу, смотрю. Пьяный.
Потом ввели в помещение. Вот так вот направо – клетка большая, в ней битком людей. Налево – лестница вниз, а прямо так – стол; за столом милиционер с большим значком на груди и женщина в белом халате. Кого-то допрашивают.
Подхожу к столу.
– За что меня задержали?
Меня подхватывает какой-то милиционер, перетаскивает на диван.
– Посиди тут пока.
Сижу, потом, помню, встал.
– Не имеете права задерживать! Я поэт. Я пишу поэмы!
Меня толкнули на диван:
– Сиди давай.
Сижу. Пить захотелось.
– Дайте воды!
Подводят к столу.
– Фамилия, имя, отчество?
– Сенчин Роман Валерьевич. Поэт.
Женщина тоскливо:
– Зачем так напился?
– Надо.
Снова, помню, оказался на диване. Сижу. Кого-то другого допрашивают. Пить хочется.
– Дайте воды!
Не дают.
Встаю, застегиваю пальто и пытаюсь уйти.
Бу́хают на диван.
– Сиди спокойно.
– Убейте меня.
– Зачем?
– Вы ведь любите убивать.
– Сиди спокойно.
Сижу, сижу. Пить очень хочется. Все кружится. Весело.
Начинаю петь:
Мама хочет, чтоб я был!Папа хочет, чтоб я знал!Я прожил почти сто лет!Я сто лет на все срал!
Из клетки бурно одобряют.
Вскакиваю и ору:
Не хочу, чтобы я был!Не хочу, чтобы я знал!Не хочу-у!..
Меня волокут вниз. Визжу, пытаюсь вырваться. Нет.
Какая-то, помню, маленькая комнатка.
Милиционер:
– Раздевайся давай.
– Что?
– Раздевайся, говорю.
– Аха! – Сую ему под нос фигу.
Удар коленом ниже живота. Приседаю и успокаиваюсь.
И сразу, помню, голый, с одеялом в руке. Ногам холодно, липко. По коридору. Слева и справа отсеки. Вся лицевая сторона и дверь из сетки. Видел такое в фильмах. Везде люди. Много. Облепили сетку, что-то орут, смеются.
Вот уже в одном из отсеков. Полно людей. Деревянный настил, чтоб лежать.
Мне ничего не говорят. Все страшные, в одеялах. Одеяла такие грязные, что страшно.
Провал.
Помню, тихо, тусклый дежурный свет. Сижу на краю настила. Рядом мужик с рыжей бородой.
– …А меня жена сдала. Сама, гада. Ну, пришел домой веселый… Утром прибежит выкупать.
А пить хочется.
– Здесь вода есть? – оглядываюсь.
Рыжий смеется. В углу грязный сухой писсуар.
Встаю. Колочу в сетку, ору:
– Дайте воды! Во-ды! Во-ды!
Ору, помню, долго. В соседней камере зашумели. И в нашей.
– Во-ды! Во-ды! – это я ору.
И другие что-то выкрикивают, сетку трясут.
Подходит, который меня раздевал.
П-ш-ш-ш. Прямо в глаза! Падаю.
– У-у-у-у-а-а!!
Повалялся, проморгался. Вскакиваю. Они все смотрят на меня спокойно.
– Что же вы?! Надо восстать!
Никто не хочет. Опять тихо. Сижу. Рыжий что-то мне объясняет. Потом падает и засыпает. Сижу.
Тихо, тоскливо. Все спят, многие безобразно храпят. Постепенно трезвею, но думать не могу. Просто жду.
– Дежурный, а-а! – вульгарный женский голосок слева.
Оказывается, и женщины есть.
– Дежурный, а-а!
Кто-то смеется, я улыбаюсь.
– Эй, дежурный! – уже другой, грубый и живой. Тоже женский.
– Что, девчата, хотите? – кто-то спросил.
– Хотим! – ответил грубый голос.
– Эх, да не сидел бы я в темнице!..
Смеется кто-то.
– Дежурный, а-а!
Смех.
– Да дежурный, твою мать!! – истошный крик грубой. – Скорее сюда!
– Дежурный, а-а!!
Появляется дежурный, который мне прыснул. Проходит. Какие-то разговоры там, ахи.
Дежурный быстро уходит обратно.
– А-а-а!!! – уже не тоненько и вульгарно, а душераздирающе.
Бодрствующие мужчины озабочены:
– Что там? Кого зарезали?
Ничего не понятно. Кутаюсь в одеяло.
– А-а-а!!!
Потом женщина-врач с железным портфельчиком. Дежурный. Та женщина из-за стола.
Вновь разговоры.
Потом отчетливо:
– Одевайся, пошли.
– Не могу я! А-а…
– Что я тебя на руках, сучку, понесу?
Женские голоса.
Потом обратно женщина-врач и женщина из-за стола. Через несколько минут – какая-то вся маленькая, в клетчатом пальтишке. Идет медленно, хватается за решетку. Сзади дежурный.
Потом тихо опять, спокойно.
– А что с ней? – вроде трезвый мужской голос.
– Выкинула, – голос грубой. – С пятого месяца.
– У-у.
Смотрю на сокамерников. Спят лежат. А мне места нет. Упасть, зарыться в эту массу тел и одеял боюсь. А сейчас уснуть бы… потом проснуться.
Идет мимо дежурный.
– Гражданин дежурный! – я ему. – Дайте водички, всё подпишу.
Он даже остановился, посмотрел. Усмехнулся, пошел дальше.
А время идет. Медленно так идет. Еще, наверное, вечер. Приводят новых. Этих даже не раздевают. Суют по камерам. В нашу не суют – некуда.
Справа, где лестница, возникают звуки борьбы. Сипят, возятся. Потом тихо.
Потом:
– А-а-а! – и поток нецензурных ругательств. Это мужской голос.
Потом:
– А-а! Суки драные, волки́ позорные!..
Вроде заткнули рот. Мычание.
Парень в камере напротив, которого недавно привели, выворачивает глаза в сторону лестницы. Жадно смотрит.
– Что там? – спрашиваю.
– На стул Лёху посадили, падлы!
Этот, напротив, в белом грязном свитере, порванных джинсах. Долго сидит у решетки, потом ложится на настил и затихает.
Проводят кого-то, все лицо в крови. Еще кого-то.
Потом дежурный кричит:
– Мишаков!
– Здесь, здесь!
Забирают наверх Мишакова.
Потом опять тихо. Начинаю дремать.
Появилась уборщица. Протирает пол.
Прошу:
– Тетенька, дайте водички, а!
Водит шваброй туда-сюда. Не реагирует.
– Дайте, а? Глоток.
– Не положено.
Медленно проплывает мимо.
Больше не дремлется.
Время идет. Когда же утро? Башка раскалывается. Язык одеревенел, во рту все горит. Сижу, качаюсь, как индус, кутаюсь в одеяло.
Долго, очень долго ничего не случается. Люди отдыхают. Храпят, сопят, свистят, мычат.
Встаю. Стараюсь посмотреть, что там делается слева, справа.
Ничего интересного. Ничего не видно.
Рассматриваю стены камеры. Надписи всякие: «Здесь был Василий У.», «Балтон. 2.2.92», «Трезвяк это рай».
Ногтем старательно выцарапываю: «Сен. 14.03.94. Понравилось».
Еще примерно часа через два начинается некоторое оживление. Выкрикивают фамилии, людей уводят.
– Выпускать начали, – бормочет рыжий мужик, мой сосед. Он сидит, трет лицо, шею, грудь.
Все очень быстро просыпаются. Встают, садятся, шумят.
– Ельшов!
– Здесь я!
Из нашей камеры уводят Ельшова.
Многие возвращаются. Они одеты. Их помещают куда-то дальше, влево.
Опять уборщица с ведром и шваброй. Мечется по коридору.
Рыжего тоже забирают.
Наша камера постепенно пустеет. Нервничаю.
– Сенчин!
– Я!
Наконец-то!.. Выводят. Ведут по коридору.
Вот закуток какой-то. Железный стул с ремнями для рук, ног, шеи. Сейчас он пустой. О! Раковина!
– Можно попить?
Дежурный разрешает. Делаю пару глотков. Вода холодная, пресная. Больше не хочу.
Заводят в комнату. По стенам – большие ячейки. В некоторые засунуты комки одежды.
Дежурный смотрит в список, достает мою.
– Одевайся давай.
Одеваюсь.
– Всё на месте?
– Вроде.
Вот одет, обут. Карманы пусты. Платочек только носовой.
– Одеяло сверни.
Сворачиваю серое, в пятнах одеяло, кладу на стопку таких же.
Возвращаемся в застенки.
Запирают в камеру. Тут все одетые. Сидят, молчат, ждут.
Тоже сажусь. Прислушиваюсь к выкрикам фамилий.
– …А если денег нет? – робко интересуется юноша из угла. – Тогда как?
– Домой повезут, – отвечает кто-то, – чтоб выкупали.
– Домой?!
Юноша в отчаянии.
К камере подходят два милиционера в куртках и дежурный. Открывают дверь.
– Скорбинский, выходи!
– Куда?
– Узна́ешь.
– На пятнаху?
– Выходи давай.
Но Скорбинский не хочет. Его ловят, вытаскивают силой. Он орет, мечется в руках.
Дверь замыкают. Крики Скорбинского всё дальше и дальше.
– Пятнадцать суток – это вилы, – хрипло объясняет парень с огромной шапкой в руках. – Три раза тянул.
– А за что дают? – вновь подает голос юноша.
– А за все. По пьяни натворишь делов, и влепят. Даже и сам не помнишь…
– Рикшанов!
– Тут он.
Из отсека напротив забирают Рикшанова.
Снова молчание. Ожидание.
– А можно вещами выкупиться? – допытывается юноша.
– Можно. Смотря кто там сидит да какие вещи. Мо-ожно!..
Опять появился дежурный. В руках бумажка.
– Липин, Егоров, Сусоев, Дьяченко, Усольцев, Никитин, Рогожин.
Из нашей камеры увели троих.
Оставшиеся молчат. Совсем устал. Лег на деревянный этот настил. И уснул.