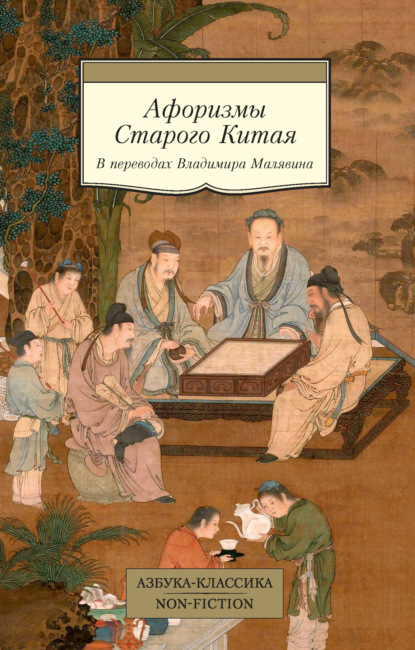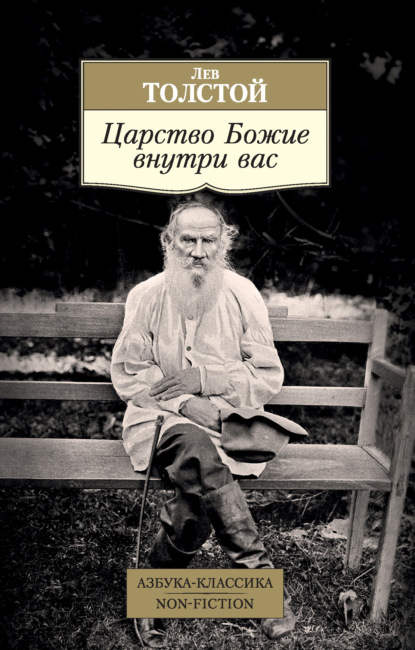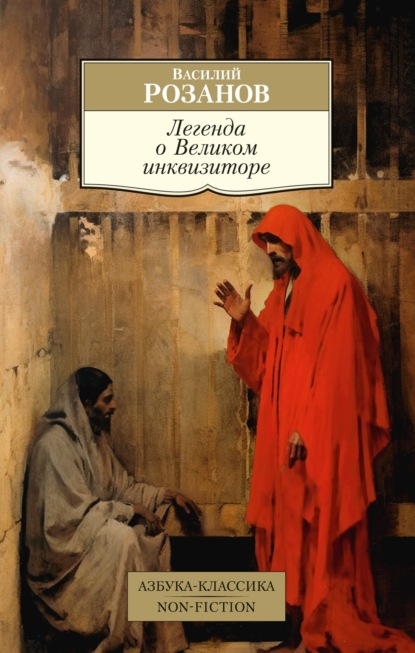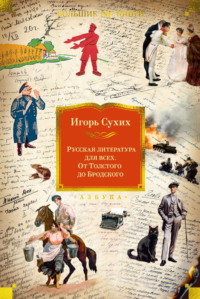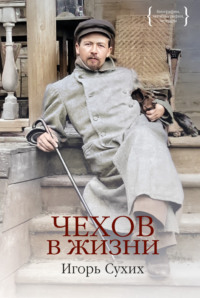Полная версия
Русский канон. Книги ХХ века. От Шолохова до Довлатова
«Тихий Дон» – очередной пересказ истории о возвращении. В финале романа Григорий Мелехов, как скиталец Одиссей, снова оказывается у родного порога. Этот путь, как в древнем эпосе, тоже занял десять лет. Однако герой вернулся не победителем, «пространством и временем полным».
Автора предупреждали: «Конец четвертой книги (вернее, та часть повествования, где герой романа Григорий Мелехов, представитель крепкого казачества, талантливый и страстный человек, уходит в бандиты) компрометирует у читателя и мятущийся образ Григория Мелехова, и весь созданный Шолоховым мир образов… Такой конец „Тихого Дона“ – замысел или ошибка? Я думаю, что ошибка…» (А. Толстой).
«Самый красный из Толстых и самый толстый из белых» (Н. Эрдман) таких ошибок не допускал. Он заканчивал свою трилогию примерно в то же самое время так, как следовало: после всех мытарств привел две счастливые парочки в Большой театр, зажег перед ними лампочку Ильича, показал и самого Ильича с товарищем Сталиным, предсказал светлое будущее. «Рощин – Кате на ухо шепотом: „Ты понимаешь – какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные и молчаливые муки… Мир будет нами перестраиваться для добра… Все в этом зале готовы отдать за это жизнь… Это не вымысел – они тебе покажут шрамы и синеватые пятна от пуль… И это – на моей родине, и это – Россия…“»
Хождение по мукам завершается в сладком сиропе идиллии посреди разгромленной страны. И это пишется в 1941 году, со знанием будущего – и возможных прототипов героев, и родины-России.
Чем кончает Шолохов, отработав обязательную программу с «отвратительной картиной разложения Донской армии» и «народом, который нельзя победить» (реплика англичанина, умницы и выпивохи)?
Он приводит героя на пепелище семьи, к единственному сыну, в холодный обезлюдевший мир. Может быть, он и хотел бы по-другому. Но инстинкт художника не подвел. Одиссея казачьего Гамлета завершается под черным солнцем трагедии.
Код прочтения шолоховского текста может быть разным. В «Тихом Доне» свободно соединяются, иногда конфликтуя: персональный роман – история любви – семейная сага – региональный казачий эпос – военно-историческая хроника – наконец, философско-экзистенциальная притча.
Судьба казака, воина, проливающего свою и чужую кровь, мечущегося между двумя женщинами и разными лагерями, становится метафорой удела человеческого.
«Казак-середняк», «отщепенец», «борец за старое», «жертва заблуждения», «целостный человек» (кто там еще?) оказывается наивным философом, сокровенным человеком, который сначала ищет третью правду, а потом – пятый угол в вывихнувшем себе суставы веке.
В эпоху, когда распалась связь времен, быть победителем – постыдно. Как будто, если бы герой закончил свой путь в красном лагере, это воскресило бы брата, спасло от смерти жену, продлило дни матери, восстановило сожженные дома и брошенные поля. Под черным солнцем трагедии счастливый выбор невозможен, поражение защищающейся жизни – неизбежно.
Надежда – лишь на ту же жизнь, на память, на забвение, на читательский катарсис и сострадание.
Евангелие от Михаила
(1928–1940. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова)
…И погашаемСветильники.В прежней безднеБезверияМы, —Не понимая, что именно в эти дни и часыСовершаетсяМироваяМистерия…А. Белый. 1918«А вам скажу, – улыбнувшись, обратился он к мастеру, – что ваш роман вам принесет еще сюрпризы».
Главный, последний, «закатный» роман Булгакова «Черный маг», «Копыто инженера», «Консультант с копытом», «Великий канцлер», «Князь тьмы», ставший в итоге «Мастером и Маргаритой», – писался тринадцать лет, ждал публикации двадцать шесть, читается уже больше тридцати.
За это время появились десятки изданий и переводов, сотни толкований и интерпретаций, тысячи книг и статей. Из них можно узнать много интересного и «интересного». Булгаков побывал борцом с тоталитаризмом и апологетом силы, апостолом гуманности и певцом дьявола, наследником великих классических традиций и самовлюбленным дюжинным фельетонистом, поклонником каббалы, масонства, гностицизма и тайным антисемитом, и проч., и проч.
«Классической является та книга, которую некий народ или группа народов на протяжении долгого времени решают читать так, как если бы на ее страницах все было продуманно, неизбежно и глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования» (Х.-Л. Борхес. «По поводу классиков»).
По этому критерию книга уже стала классической: сама породила традицию, разошлась на афоризмы, стала для целого поколения культовой. Но у вещей с таким предельным ценностным статусом есть одно малоприятное свойство. Сквозь груды толкований все труднее пробиться к их исходному, изначальному смыслу. Особенно это касается романа причудливо-барочного, подмигивающе-загадочного, культурно-многослойного.
«Мастер и Маргарита» – роман-лабиринт. Скорее даже – три романа, три лабиринта, временами пересекающихся, но достаточно автономных. Так что идти по этому саду расходящихся тропок можно в разных направлениях, но оказаться в результате в одной точке.
Четыре главы последней редакции (вторая, шестнадцатая, двадцать пятая и двадцать шестая) – история одних суток весеннего месяца нисана, фрагмент Страстей Господних, исполненный булгаковской рукой.
Иешуа Га-Ноцри, Понтий Пилат, Левий Матвей, Иуда. Четыре персонажа «вечной книги», включая главного, становятся героями булгаковского повествования. Эти шестьдесят пять страниц (шестая часть текста) – смысловое и философское ядро «Мастера и Маргариты» и в то же время – предмет самой острой полемики, конфликта интерпретаций.
Предельный вариант «чтения в сердцах» выглядит примерно так: «Очевидно, М. Булгаков увлечен каким-то теософическим „экуменизмом“… Не только Иисус, но и Сатана представлены в романе отнюдь не в новозаветной трактовке… Но если у нас не остается никаких сомнений в том, что М. Булгаков исповедовал „Евангелие от Воланда“, необходимо признать, что в таком случае весь роман оказывается судом над Иисусом канонических евангелий, совершаемым совместно Мастером и сатанинским воинством» (Н. Гаврюшин).
Однако и просто ортодоксальный, догматический взгляд на эти булгаковские страницы превращает их во что-то легковесно-еретическое, лишает их собственного драматизма. «Иешуа Га-Ноцри… праведный чудак, крушимый трусливой машиной власти, подводит итоги всей „ренановской“ эпохи и выдает родство с длинным рядом воплощений образа в искусстве и литературе XIX века» (С. Аверинцев). «Вставная повесть о Пилате у Булгакова… представляет собой апокриф, весьма далекий от Евангелия. Главной задачей писателя было изобразить человека, „умывающего руки“, который тем самым предает себя» (А. Мень. «Сын человеческий»).
Справедливо, что «Евангелие от Михаила» – апокриф, не совпадающий с официальным вероучением. Но, в отличие от отца Александра, смиренно предлагавшего очерк, который «поможет читателю лучше понять Евангелие, пробудить к нему интерес», автор «Мастера и Маргариты» вовсе не ставил такой цели. Булгаков строит, конструирует художественную реальность, сознательно отталкиваясь от канонических текстов. «Евангелие от Михаила» помнит о своих «родственниках» «от Матфея» и «от Иоанна», но использует их как материал, трансформирует в соответствии с собственными задачами. Фонетические замены привычных евангельских названий и имен (Ершалаим, Иешуа) – лишь внешний знак того обновления образа, которое нужно Булгакову в древних главах.
Иисус евангельский знал, откуда он пришел, кем послан, во имя чего живет и куда уйдет. Он имел дело с толпами, пророчествовал, проповедовал, совершал чудеса и усмирял стихии. Его страх и одиночество в Гефсиманском саду были лишь эпизодом, мгновением, понятным для смертного человека, но не для богочеловека. Но и здесь, как мы узнаем от Луки, его поддерживал ангел: «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его» (Лк. 22: 43).
Иешуа моложе своего евангельского прототипа и не защищен от мира ничем. Он совершенно одинок, не знает родителей («Родные есть? – Нет никого. Я один в мире»), имеет всего одного верного ученика, боится смерти («А ты бы меня отпустил, игемон… я вижу, что меня хотят убить»), ни одним словом не намекает на покровительство высших сил, а его проповедь сводится к одной-единственной максиме: человек добр, «злых людей нет на свете».
Однако, выстраивая свою версию биографии Иешуа Га-Ноцри, Булгаков сохраняет, удерживает самое главное. Пилатовскому демагогическому вопросу «Что есть истина?» в Евангелии от Иоанна предшествует объяснение Иисуса: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Ин. 18: 37).
Иешуа не просто свидетельствует. Он сам, с его удивительной, внеразумной, вопреки очевидности, верой в любого человека (будь то равнодушно-злобный Марк Крысобой или «очень добрый и любознательный человек» Иуда), есть воплощенная истина. Потому-то он не подхватывает предложенный Пилатом иронический тип философствования, а отвечает просто и конкретно, обнаруживая уникальное понимание души другого человека: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти… Беда в том… что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей». Быть «великим врачом» – значит исцелять болезни не столько тела, сколько души.
Достоевский говорил: если ему математически докажут, что истина и Христос несовместимы, он предпочтет остаться с Христом, а не с истиной. Он же собирался воссоздать в «Идиоте» образ «положительно прекрасного человека», князя-Христа. Отзвуки этих замыслов и идей есть в «Мастере…». Иешуа «не сделал никому в жизни ни малейшего зла». Его простые истины производны от его личности.
Хотя Иешуа действует фактически лишь в одном большом эпизоде, его присутствие (или значимое отсутствие) оказывается смысловым центром всей булгаковской книги. Такой композиционный прием в более радикальном варианте был уже опробован в «Последних днях». В пьесе о Пушкине поэт ни разу не появляется на сцене. Но с его имени начинается афиша, список действующих лиц. И его присутствием, его стихами определяется все происходящее.
Переписывая на свой лад Писание и предание, корректируя его, Булгаков тем не менее сохраняет (причем во всех трех романах) его основной конструктивный принцип.
«И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко Мне… Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!» – рассказывал евангельский Матфей о въезде в Иерусалим (Мф. 21: 1–2, 6–9).
«Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
– У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал».
Так что эти «добрые люди», включая преданного Левия Матвея (Матфея), неверно записали и «все перепутали» не только в словах, но и в фактах. «Евангелие от Михаила» отменяет предшествующие свидетельства других евангелистов, но сохраняет их исходную установку: было именно так, как рассказано.
Не было родителей, жены, осла, множества учеников, ощущения избранности, чудесных исцелений и хождения по водам. Но странная проповедь, предательство Иуды, суд Пилата, казнь, страшная гроза над Ершалаимом – были.
«Вот теперь я знаю, как это было на самом деле», – будто бы сказала машинистка, перепечатывающая современную версию истории прекрасного Иосифа – роман Т. Манна «Иосиф и его братья». Булгаков раньше Манна и более последовательно идет по тому же пути – создает, «записывает» роман-миф (Б. Гаспаров), все события которого обладают – внутри художественного целого – статусом истинности, достоверности.
Только несчастный позитивист Берлиоз пытается доказать Иванушке, что никто из богов «не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса», и отождествляет «простые выдумки» и «самый обыкновенный миф». Да невольная виновница его гибели Чума-Аннушка наблюдает чудеса в виде вылетающих в окно незнакомцев.
Точка зрения текста формулируется в первой же главе Воландом: «А не надо никаких точек зрения, – ответил странный профессор, – просто он существовал, и больше ничего… И доказательств никаких не требуется…»
Не надо никаких доказательств, было все, не только распятие Иешуа, но и шабаш ведьм, и большой бал сатаны в квартире № 50, и Бегемот с Коровьевым в «Грибоедове», и подписывающий бумаги костюм.
Граница между «было» и «не было», реальностью и вымыслом в художественном мире булгаковского романа отсутствует, подобно тому как она не существует в мифе, в поэмах Гомера, в сказаниях несущих благую весть евангелистов.
Булгаков не воссоздает миф (вариант Т. Манна), а создает его внутри своего романа. Однако выполнена эта булгаковская версия в совершенно необычной для канонических евангелий стилистической манере.
Э. Ауэрбах в книге «Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе» считал, что в основе литературы нового времени лежат два стилистических принципа, восходящих к Гомеру и Ветхому Завету: «Один – описание, придающее вещам законченность и наглядность, свет, равномерно распределяющийся на всем, связь всего без зияний и пробелов, свободное течение речи, действие, полностью происходящее на переднем плане, однозначная ясность, ограниченная в сферах исторически развивающегося и человечески проблемного. Второй – выделение одних и затемнение других частей, отрывочность, воздействие невысказанного, введение заднего плана, многозначность и необходимость истолкования, претензии на всемирно-историческое значение, разработка представления об историческом становлении и углубление проблемных аспектов». Специально о Новом Завете замечено: «Чувственно наглядное здесь – не следствие сознательного подражания действительности и потому редко достигает выражения; оно проявляется только потому, что тесно увязывается с событиями, о которых рассказывается, тогда оно раскрывается в жестах и словах внутренне затронутых людей, – но авторы нисколько не озабочены тем, чтобы придать чувственно-конкретному определенную форму».
В булгаковской истории Иешуа библейские претензии на всемирно-историческое значение, психологические многозначность и недоговоренность соединены с тщательно проработанным передним планом, законченностью и наглядностью, равномерно распределенным и ярким светом.
Пока Иешуа и Пилат ведут свой вечный спор, пока решаются судьбы мира, движется привычным путем солнце (невысокое, неуклонно подымающееся вверх, безжалостный солнцепек, раскаленный шар – всего во второй главе оно упоминается двенадцать раз), бормочет фонтанчик в саду, чертит круги под потолком ласточка, доносится издалека шум толпы. В следующих евангельских главах появляются все новые живописные детали: красная лужа разлитого вина, доживающий свои дни ручей, больное фиговое дерево, которое «пыталось жить», страшная туча с желтым брюхом.
Четкая графика евангельской истории с минимумом «чувственно наглядного» у Булгакова раскрашена и озвучена, приобрела «гомеровский» наглядный и пластический характер. Роман строится по принципу «живых картин» – путем фиксации, растягивания и тщательной пластической разработки каждого мгновения. В булгаковской интерпретации это бесконечно длинный день, поворотный день человеческой истории.
Не случайно внутрироманный автор романа о Пилате определяет свой дар так: «Я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь». Не рассказывать, а описывать, рисовать, изображать…
«Мастер и Маргарита» – роман не испытания идеи (как, скажем, у Достоевского), а живописания ее.
В этой, по видимости, объективной пластике незаметно формируются символические мотивы: беспощадное солнце трагедии, обманное мерцание луны, при которой совершается убийство предателя, кровавая лужа вина, багровая гуща бессмертия, страшная туча как образ апокалипсиса, вселенской катастрофы.
Смыслом объективно-живописной, остраненно-драматической картины становятся все те же вечные вопросы, но опять-таки в булгаковской художественно-еретической аранжировке.
Булгаковский Иешуа – не Сын Божий и даже не Сын Человеческий. Он – сирота, человек без прошлого, самостоятельно открывающий некие истины и, кажется, не подозревающий об их, этих истин, и о своем будущем.
Он гибнет потому, что попадает между жерновами духовной (Каифа и синедрион) и светской (Пилат) власти, потому что люди любят деньги и за них готовы на предательство (Иуда), потому что толпа любит зрелища, даже если это – чужая смерть. Огромный, сжигаемый яростным солнцем мир равнодушен к одинокому голосу человека, нашедшего простую, как дыхание, прозрачную, как вода, истину.
В обозримом ершалаимском пространстве романа на проповедь Иешуа откликаются лишь двое – сборщик податей, бросивший деньги на дорогу и ставший его единственным учеником, и жестокий прокуратор, пославший его на смерть.
Левия Матвея часто представляют ограниченным фанатиком, не понимающим Иешуа, искажающим его идеи («Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил»). Почему же тогда, как становится известно в финале, он заслужил свет?
Приведенные слова Иешуа метят скорее в Матфея и других евангелистов и связаны с булгаковским представлением об истине личности, не вмещающейся в любые «изречения» и проповеди. На самом деле Левий Матвей – образ бесконечной преданности, самоотверженности, любви и веры (такой же фанатичной и безрассудной, как любовь и вера Маргариты). Бывший сборщик податей сжигает за собой мосты и безоглядно идет за учителем, записывает каждое его слово, готов любой ценой спасти Иешуа от крестных мук, собирается мстить предателю Иуде. Как Маргарита, ради любимого ставшая ведьмой, Левий Матвей из-за Иешуа не боится вступить в схватку с самим Богом: «Проклинаю тебя, Бог!.. Ты бог зла!.. Ты не всемогущий Бог. Ты черный бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!»
В первом романе Левий Матвей выделен даже композиционно: его глазами, «единственного зрителя, а не участника казни», мы видим все происходящее на Лысой Горе, роль Левия Матвея в древней фабуле в чем-то аналогична роли мастера. Он – первый свидетель, пытающийся рассказать, «как все было на самом деле». Он делает свои «логии» даже во время казни: «Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой Горе, а смерти все нет!.. Солнце склоняется, а смерти нет». Единственная его просьба при свидании с Пилатом касается куска чистого пергамента. Закономерно, что он оказывается посредником в переговорах Иешуа с Воландом о судьбе Мастера, оставаясь все тем же фанатичным учеником, самым непримиримым и враждебным к духу зла: «– Я не хочу, чтобы ты здравствовал, – ответил дерзко вошедший».
С Пилатом в роман, напротив, входит тема трусости, душевной слабости, компромисса, невольного предательства.
Зачем мастеру (и Булгакову) понадобился прокуратор? Ведь в кругу канонических образов есть персонаж, в связи с которым та же тема могла быть обозначена с неменьшим успехом, не вызывая в то же время упреков в симпатиях автора к власти и заигрывании со злом («Иешуа Га-Ноцри интересует мастера меньше, нежели Пилат, сын короля-звездочета, еще меньше интереса вызывает в Булгакове философия добра, в ней реальный автор реального романа изверился прежде всех… Иешуа, как и мастер, прежде всего спасает сильных мира сего, прежде всего – палачей». – К. Икрамов).
Апостол Петр, первый ученик, тоже трижды предает Христа, отрекаясь от него. (Кстати, чеховский рассказ «Студент», в котором история Петра непосредственно сопоставлена с современностью и возникает образ невидимой цепи времен, можно счесть структурным аналогом булгаковского романа – но в лапидарной лирической транскрипции.)
Различие между сходными поступками, однако, велико. Петр – обычный слабый человек, он испытывает давление обстоятельств, его жизни угрожает непосредственная опасность. В случае с Пилатом эти внешние причины отсутствуют или почти отсутствуют (намек на страх перед императором все-таки есть в тексте). Пилат, в отличие от Петра, может спасти Иешуа, он даже пытается это сделать, но робко, нерешительно – и в конце концов умывает руки (в романе, в отличие от Евангелия от Матфея, этот жест, впрочем, отсутствует), сдается.
Автора романа «Мастер и Маргарита» обычно сравнивают, почти отождествляют с мастером (даже – с Мастером), к чему еще придется вернуться. Но он – не только мастер. Автор всегда больше любого героя и в то же время может оказаться любым из них.
В замечательном письме П. С. Попову 14–21 апреля 1932 года (идет работа над второй редакцией – «Консультант с копытом») Булгаков признается: «В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. Не будь их, не было бы разговора о Монахе (речь идет о повести Чехова „Черный монах“, который воспринимается Булгаковым как символический вестник смерти. – И. С.), и самое солнце (и здесь, как в романе, солнце. – И. С.) светило бы по-иному, и сочинял бы я, не шевеля беззвучно губами на рассвете в постели, а как следует быть, за письменным столом.
Но теперь уже делать нечего, ничего не вернешь. Проклинаю я только те два припадка нежданной, налетевшей как обморок робости, из-за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть: эта робость была случайна – плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет».
Биографы ищут и находят эти роковые ошибки в булгаковской жизни. Одной из них мог быть телефонный разговор со Сталиным 18 апреля 1930 года, в котором писатель выразил желание встретиться и поговорить с вождем о важных проблемах; разговор так и не состоялся.
Интереснее, однако, другое. «Роковая ошибка», «обморок робости» – такие определения вполне можно отнести к булгаковскому Пилату. Личная тема сублимируется и воплощается во вроде бы абсолютно далеком от автора персонаже.
После выкрика на площади («Все? – беззвучно шепнул себе Пилат, – все. Имя!»), спасающего Вар-раввана и окончательно отправляющего на казнь Иешуа, «солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист».
Это не только воющая толпа, но – голос бездны, тьмы, «другого ведомства», торжествующего в данный миг свою победу. Потом можно убить предателя (в эпизоде с Иудой реализуется скорее не евангельское «подставь другую щеку», а ветхозаветное «око за око»), как в зеркале увидеть свою жестокость в поступках подчиненного («У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите…»), спасти ученика Иешуа («Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет») – можно творить сколько угодно добра, но случившееся небывшим сделать уже не удастся.
Оправдание есть – утешения нет. И его не будет две тысячи лет.
Не торжество силы, а ее слабость, роковая необратимость каждого поступка – вот что такое булгаковский Пилат.
Искупить совершённое невозможно, его лишь можно, если удастся, забыть. Но всегда найдется кто-то с куском пергамента. Он запишет, и записанное останется. И даже если рукописи сгорят, все останется так, как было записано.
Ершалаимский роман пришит к современности тремя стежками. Начало рассказывает Берлиозу с Бездомным Воланд. Казнь грезится в сумасшедшем доме Иванушке. Две главы об убийстве Иуды и встрече Левия Матвея с Пилатом читает по чудесно восстановленной Воландом рукописи Маргарита. Но рассказчик, визионер, прекрасная и верная читательница объединены общей мотивировкой: они опираются на роман мастера, который угадал то, что было на самом деле.
Сожженный роман словно висит в воздухе, присутствует в атмосфере, проникает в сознание разных персонажей. Причем он больше того, что нам суждено прочитать (Воланд возвращает из небытия «толстую пачку рукописей»). И закончится он уже в ином пространстве-времени, прямо на наших глазах.
Роман Мастера, ершалаимская история строится, в сущности, по законам новеллы – с ограниченным числом персонажей, концентрацией места, времени, действия: встреча Пилата с Иешуа, суд – казнь Иешуа – убийство Иуды – встреча Пилата с Левием Матвеем. Романными здесь оказываются, в сущности, лишь живописность, детализация, тщательность и подробность повествования.