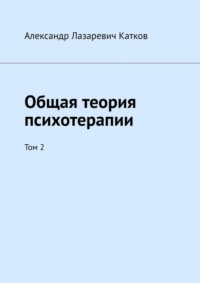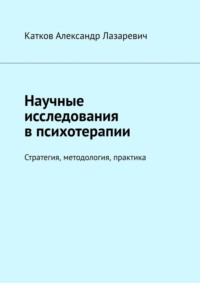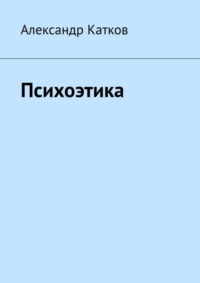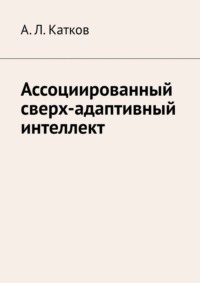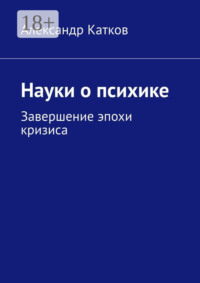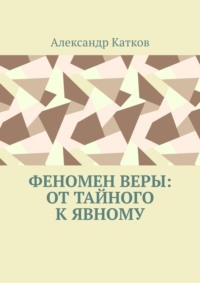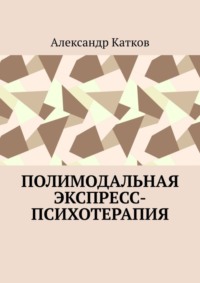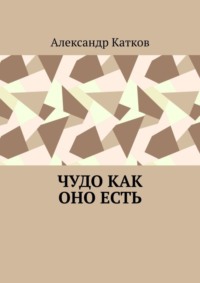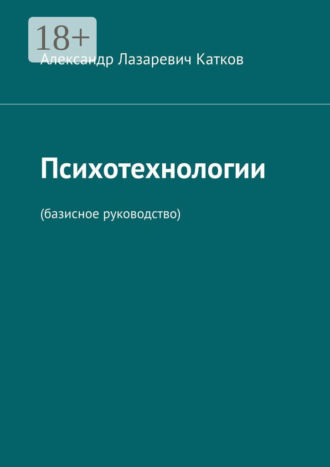
Полная версия
Психотехнологии. (Базисное руководство)
Между тем, как понятно из всего вышесказанного, еще более перспективной и, конечно, более сложной для понимания составляющей концепта «информационной (темпоральной) генетики» является аргументированная возможность управления другим интереснейшим аспектом реальности – категорией времени. Что обеспечивает поистине безграничные адаптационные и эволюционные перспективы популяции homo sapiens, и кроме того, является наиболее радикальным и эффективным способом решения накопившихся цивилизационных проблем и перманентных кризисов самого разного толка.
Однако в целом аналогия с программируемым форматированием объектной сферы по «лекалам» особой информационной программы здесь более чем уместна. Такая аналогия в какой-то степени проясняет сложнейшую динамику актуализации и развертывания в информационном полюсе особой темпоральной генетики потенциального, не проявляемого в стандартных параметрах ФИАС статуса объемной реальности.
Подобная постановка вопроса разворачивает фокус нашего внимания уже в сторону феномена жизни, традиционно – т. е. с позиции доминирующих установок естественно-научного подхода – понимаемого как некий способ самоорганизации наблюдаемого материального субстрата реальности (притом что наличие каких-либо других, не наблюдаемых и не измеряемых в стандартно заданных условиях аспектов реальности здесь отрицается).
Исходя их этих допущений, изначально должен возникнуть феномен жизни – некий атрибут высокоорганизованной материи – а затем уже и феномен психического, выводимый из взаимодействия этой живой и высокоорганизованной материи с объектами, предметами, явлениями окружающего мира, иначе говоря – средой. Нелепость такого допущения, а значит и всех традиционных определений психики, совершенно очевидна. Ибо феномен жизни – по авторитетному заключению лауреата Нобелевской премии Эрвина Шредингера (2018) – не выводится из фундаментальных закономерностей физического мира. Мало того, феномен жизни им прямо противоречит. То же самое можно сказать и в отношении сложных форм организации материи. Для того чтобы такие системы сложились, функционировали и развивались – изначально необходима генерация системного стержня (информационной программы) с отчетливым антиэнтропийным вектором активности. А в нашем случае – еще и такой программы, которая бы предусматривала сложнейшую темпоральную динамику формирования и развития статуса субъекта.
И здесь мы никак не сможем обойтись без хотя бы краткого фрагмента эпистемологического анализа, демонстрирующего, во-первых, всю сложность охватываемой в данном случае проблематики. А во-вторых, сам факт того, что концепция информационной (темпоральной) генетики серьезно и глубоко прорабатывалась в ходе реализации первых этапов Базисной научно-исследовательской программы по психотерапии. Данный фрагмент, кроме того, указывает на глубокие корни идеи информационных (темпоральных) генов, берущих свое начало от провидческих высказываний гениальных мыслителей прошлого, но также – а это еще более важно – и самую суть неприемлемого эпистемологического дефицита, присутствующего в этих опередивших свое время высказываниях.
Так, например, фундаментальный концепт авторов раннего буддизма (а именно к этому учению проявлял повышенный интерес Шредингер) – идея «дхармы» – имеет прямое отношения к импульсному процессу генерации времени и всего сущего. Об этом прямо говорят определения понятия «дхармы», прописанные в наиболее ранних, дошедших до нас источниках. Здесь дхарма рассматривается как «первичное явление», «неделимая составляющая бытия», «абсолютная природа реальности», «характеристика – так как она есть – реальности», «элементарный блок, мельчайшая частица сознания», «мгновение». Дхармы непрерывно появляются и исчезают; их «волнение» образует человеческую суть; дхармы содержат мир и дают возможность воспринимать мир (Ф. ИЩербатский, 1988; С. Радхакришнан, 1993; С. Чаттерджи, Д. Датта, 1994; М. Мюллер, 2009; К. Ринпоче, 2017; Е. Торчинов, 2017). Примечательно то, что в этих определениях представлены актуальные (объектные) планы реальности – события, явления; характеристики импульсной активности сознания-времени, а также статус субъекта. Субъект и объект, таким образом, взаимосвязаны концептом дхармы. Отсюда, что называется, рукой подать до идеи объемной реальности. Однако именно в этом контексте «темпорально-информационных генов» объемной реальности концепт дхармы если кто-то из «серьезных» ученых и рассматривал, то уж точно не пытался выстраивать сверхсложные математические модели объектных планов реальности с использованием идеи дхармы. И уж тем более – модели объемной реальности с использованием пластических характеристик элемента сознания-времени в этих подлинных «атомах» пространственно-временного-информационного континуума. .
Наиболее отчетливо идея о наличии нематериальной информационной основы реальности была представлена Платоном в развиваемом им понятии Под этим термином Платон, во-первых, подразумевал «присутствие» в неком особом и недоступном для живущих людей пространстве определенных идей (или, как бы мы сейчас сказали, информационного потенциала). А во-вторых – возможность актуализации или припоминания этих идей, после чего такие актуализированные идеи становятся реальной движущей силой и собственно объектами в хорошо знакомой нам «объективной реальности». Откуда, собственно, и появился термин И далее вот эти провидческие высказывания гениального мыслителя Платона о сложной структуре реальности были квалифицированы как «объективный идеализм» и сданы в исторический архив, как и многие другие идеи, скрыто или явно конфронтирующие с допущениями естественно-научного подхода. анамнесиса. анамнесис.
Далее в наиболее известной и, вне всякого сомнения, наиболее полной из дошедших до нас исследовательских работ – трактате Аристотеля «О душе» (около 350 г. до н. э.), близкая к теме настоящего подраздела проблематика раскрывается следующим образом. Относительно сложности исследуемой сферы Аристотель пишет так: «Добиться о душе чего-нибудь достоверного во всех отношениях… безусловно, труднее всего… относится ли она к тому, что существует в возможности, или, скорее, это есть некоторая : ведь это имеет немаловажное значение» (Аристотель, цит. по изд. 1975). Понятие в отношении рассматриваемой сложнейшей категории Аристотель раскрывает следующим образом: «Что душа есть причина и смысл сущности – это ясно, так как сущность есть причина бытия каждой вещи, а у живых существ быть означает жить, причина и начало этого – душа; кроме того, основание (logos) сущего в возможности – . Душа есть в таком смысле как знание… обладающего в возможности жизнью». Мы бы сказали, что речь здесь идет о потенциальном статусе информационной программы, благодаря которой развертывается «бытие» или феномен жизни. И здесь важно понимать, что Аристотель имел в виду именно информацию (чистые смыслы), но не какие-то материальные носители этих смыслов. В еще одном фрагменте цитируемого произведения по этому поводу он высказывается предельно ясно: «Так вот, благодаря чему мы прежде всего живем, ощущаем и размышляем, – это душа, так что она есть некий смысл и форма, а не материя или субстрат». И это очень важное уточнение, поскольку отсекает любую возможность спекуляции темой биологической генетики. Следуя логике Аристотеля, гены есть вторичное образование, возникающее вокруг первичной информационной программы , а не наоборот. Однако в силу отсутствия во все времена после Аристотеля возможностей по «опредмечиванию» потрясающей когнитивной оптики этого автора идея также была отправлена в исторические архивы. энтелехия энтелехии энтелехия энтелехия (энтелехии) энтелехии
Проблему участия инстанции души (монады) в процессе активной генерации как первичной, так и вторичной – в нашей классификации – информации исследовал и такой великий ученый как Готфрид Вильгельм Лейбниц, творивший на рубеже XVII—XVIII веков. В частности, в одном из главных философских сочинений «Монадология» он описывает сферу функциональной активности души-монады следующим образом: «Монада есть простая субстанция, не имеющая частей… В этой простой субстанции необходимо должна существовать множественность состояний и отношений, хотя частей она не имеет. Преходящее состояние, которое обнимает и представляет собой множество в едином или в простой субстанции, есть ни что иное, как то, что называется восприятием (перцепцией), которое нужно отличать от апперцепции, или сознания». И далее Лейбниц развивает идею о том, что имеет место восприятие и в отсутствии сознания, или – неосознаваемое восприятие. И, что характерно, именно в этом своем пассаже он прямо называет души живых существ То есть Г. В. Лейбниц четко дифференцирует различные состояния монады-души и постулирует зависимость генерируемой информации именно от этих кондиционных характеристик. Так, например, в следующем фрагменте цитируемой работы Лейбниц пеняет философам картезианского толка именно за то, что они этих различий не делают и совершают таким образом грубую методологическую ошибку: «И здесь картезианцы сделали большую ошибку, считая, что за неосознаваемые восприятия… поэтому же они, разделив ходячее мнение, смешали продолжительный обморок со смертью в строгом смысле» (Г. В. Лейбниц, цит. по изд. 1982). энтелехиями. ничто
И далее Лейбниц говорит о трансцендентной функции совокупность монад разного уровня развития (всего им выделялось четыре таких уровня) – последние, по его собственному выражению, «живые зеркала Вселенной». Однако разумные души – монады более высокого уровня – представляют собой вместе с тем отображения самого Божества как творца природы, или монады самого высокого уровня. И в этих высказываниях Лейбница опять-таки можно отследить намек на сложную темпоральную структуру психического; на главную, дифференцирующую и связующую функцию психики, явленную в том, что психика – суть средство и способ развертывание основополагающих статусов объемной реальности, но также и возможность полноценной, двусторонней коммуникации между ними. Главное условие такой полноценной коммуникации между статусом субъекта и, как понятно из сказанного, не проявляемым в стандартных форматах сознания – времени статусом объемной реальности, по Лейбницу, есть достижение уровня развития психики субъекта до монады-духа (третий из возможных уровней). Что предполагает возможность освобождения от проявлений телесности, в частности – от смущающего влияния перцепций и апперцепций. Таков, по мнению Готфрида Лейбница, человек будущего, или сверхчеловек, трансцендентная сущность которого максимально приближена к ангелам и Богу.
Однако взаимодействие с предметной сферой и генерация «разнокалиберной» информации, согласно Лейбницу, не является единственной функцией этой загадочной инстанции. Существенно более важной здесь представляется функция некоего внутреннего стимула, благодаря которому и происходит вот эта постоянная смена кондиционных состояний и отношений. Об этой функции Лейбниц высказывается следующим образом: «Деятельность внутреннего принципа, которая производит изменение и переходит от одного восприятия к другому, может быть названа . Правда, стремление не всегда может достигнуть цельного восприятия, к которому оно стремится, но в известной мере оно всегда добивается этого и приводит к новым восприятиям». То есть душа-монада-энтелехия, или особая программа – не так уж важно, как именно мы назовем эту сущность – обеспечивает еще и некий внутренний мотив (вспоминаем «волю к жизни» Шопенгауэра), и энергию, преодолевающую энтропию предметного мира. стремлением
Наконец Лейбниц, который был таким же блестящим математиком и физиком, как и философом, прекрасно понимал необходимость создания совершенно новой науки, способной продемонстрировать, обосновать и просчитать сложную картину реальности, из которой невозможно исключить «разнокалиберную» информационную активность души-монады. Разумеется, такая новая наука должна была действовать на основе обновленных априорных методологических принципов, разительно отличающихся от традиционных допущений естественно-научного подхода. И вместе с тем это должна быть именно наука со строгой системой доказательств и возможностью математического анализа выдвигаемых здесь гипотетических положений. О перспективах такой принципиально новой науки Лейбниц высказывался в следующих возвышенных выражениях: «Ибо тот, кто будет обладать этой наукой, прежде всего сделает для себя ясным с помощью точных доказательств то, что может быть установлено о Боге и о душе; а для этого нужно, чтобы мы уже имели достаточные данные» (Г. В. Лейбниц, цит. по изд. 1982). Однако сам Лейбниц смог только лишь набросать общий план и написать предисловие к книге под интригующим названием: «Начала и образцы новой всеобщей науки», из которых было понятно, что вот этих «достаточных данных», как и проработанной идей относительно того, каким образом могут быть добыты такие данные, у него во время написания цитируемого труда (т. е. за 250 лет до появления суперкомпьютеров, с помощью которых именно такие данные могут добываться и просчитываться) не было. В связи с чем изложенные здесь идеи Лейбница были отправлены в исторические архивы. А труд «Монадология» если и припоминается, то чаще всего лишь в связи с вводимым здесь понятием «неосознаваемого», неверно переформулированного как «бессознательное».
О степени сложности задачи, которую представляет полноценная репрезентация всей панорамы информационной (темпоральной) генетики сложной категории реальности, и которая, как оказалась, была «не по плечу» даже и Лейбницу, можно судить по работам другого величайшего мыслителя Иммануила Канта. В своем эпохальном труде «Критика чистого разума» (1781) Кант постулировал окончательный и, казалось бы, бесповоротный вывод категории души из предметной сферы принципиально познаваемого, а потому – научного опыта. Аргументы, представленные здесь Кантом, более чем убедительны:
1) понятие души не подпадает под априорный закон причинности, т. е. никакой системы априорного – понятного разуму – знания о душе построить в принципе невозможно;
2) во внутреннем чувстве – перцепции, апперцепции и тем более феномене «Я», который вообще не сводим к внутреннему чувству – нет аналога материи, которая является субстратом классического естествознания;
3) понятие души так же «выпадает» из формата чистых, по Канту, трансцендентальных условий получения какого-либо опыта: категорий пространства и времени (т. е. в известном нам пространственно-временном континууме такого «объекта» познания попросту не существует);
4) следовательно, такие категории как Бог, душа и вопрос о бессмертии души отходят в сферу трансцендентного, т. е. принципиально не проявляемого в категориях чистого разума статуса. (И. Кант, цит. по изд. 1993). Но далее в своих трудах «Критика практического разума» (1788), «Критика способности к суждению» (1790) Кант говорит о том, что познание психического может осуществляться не только эмпирическим – опытным путем и представлять, таким образом, обособленный раздел прагматической антропологии, но также этот познавательный процесс может и выступать в виде некоего аналога естествознания, в смысле использования метода самонаблюдения и научной интерпретации информации о феномене «внутреннего чувства», феномене «Я». Следовательно – и это очень важная констатация в процитированных трудах Канта – познание психического может представлять собой раздел трансцендентальной философии, исследующей фундаментальные и прикладные познавательные способности человека, в частности – способности конструировать условия опыта до появления самого опыта. Видимо, это обстоятельство Кант и имел в виду, когда говорил о новой науке – подлинной метафизике, которая, по его мнению, еще только должна появиться. И только с позиции этой абсолютно новой науки, по мысли Канта, и можно искать адекватные объяснения сложнейшего феномена априорного синтеза непосредственно данного нам актуального плана реальности (И. Кант, цит. по изд. 1993, 1994, 2015).
И вместе с тем даже и этот величайший мыслитель, по мощи своего гения сравнимый разве что с Гераклитом, сделав первый и самый главный шаг к установлению сущностной взаимосвязи между статусом субъекта, объекта и непроявленным статусом объемной реальности (предикация задаваемых форматов категории времени и пространства статусу субъекта (!), сделав и второй важнейший шаг в этом же направлении (акцент на фундаментальные, трансцендентальные, по Канту, познавательные способности человека), – так и не сделал завершающего третьего шага к созданию этой новой науки. Условия проявления трансцендентного – категорий души, духа, Бога – в форматах, понятных чистому разуму (например, за счет привносимой трансцендентальной пластики субъективных категорий времени и пространства) Кантом так и не были сформулированы и должным образом обоснованы. Трансцендентная сущность понятия души и эмпирическое (прагматическое) содержание понятия психики оказались разделенными на столетия. А с учетом мощного влияния на умы исследователей, которое оказывала философия еще в самом начале эпохи Нового времени и, принимая во внимание почти безграничный авторитет самого Иммануила Канта, – сложившаяся информационная матрица в отношении понимания категорий души и психики регулярно воспроизводилась и продолжает воспроизводиться в общем корпусе науки. И в частности, и особенно – в секторе наук о психике, вследствие чего исследователи сферы психического, даже и такие как У. Джеймс, Л. С. Выготский, столетиями упирались в одну и ту же стену отсутствия сущностного понимания истоков кризисного состояния системы рационального знания, сущностного же понимания рецептов преодоления этого фундаментального кризиса, по большей части прописанных в трудах величайшего мыслителя эпохи Нового времени Иммануила Канта.
Здесь же необходимо обратиться и к трудам Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, имя которого именно в связи с концептами авангардной науки практически не упоминается. Не исключено, что и по причине особенностей изложения основных работ, тексты которых по сложности построения едва ли не превосходят предметы этих работ. Между тем основной предмет исследования Гегеля – понятия субъективного, объективного и абсолютного духа – безусловно соотносится и с концепцией, и основной проблематикой информационной (темпоральной) генетики. В частности, в фундаментальном произведении «Феноменология духа», впервые изданном в 1807 году, Гегель описывает субъективный дух как «дух непосредственный; в этом смысле он есть душа, или природный дух… в душе пробуждается сознание; сознание полагает себя как разум, который непосредственно пробудился, как себя знающий разум, освобождающий себя посредством своей деятельности до степени объективности, до сознания своего понятия». В этой сентенции Гегель по сути прямо говорит о том, что сознание, разум и, следовательно, субъект есть отформатированная механизмом сознания «часть» потенциального-психического. Важно здесь и то, что сознание и разум, по утверждению Гегеля, , то есть генерируются вот этой потенциальной инстанцией психического. В этих утверждениях также просматривается и некое далеко выходящее за рамки обыденности целеполагание. По Гегелю, такое целеполагание заключается в развитии или становлении абсолютного духа или абсолютной идеи – именно за счет проработки инстанции «природной души» механизмами сознания и реальности, «через снятие которой он только и становится впервые духом для себя». И далее абсолютно логичным выглядит предположение Гегеля о том, что инстанция «природного духа» не такая уж стихийная и незрелая, как это полагается во многих философских, психологических и прочих дискурсах. Он, в частности, пишет, что «уже с самого начала перед нами дух – не как просто понятие, не как нечто просто субъективное, но как идея единства субъективности и объективности, каждое дальнейшее движение которой есть выхождение за пределы простой субъективности» (Г. В. Ф. Гегель, цит. по изд. 1977). пробуждаются непосредственно
Значительными и перспективными представляются идеи Гегеля, высказываемые им и в отношении категории времени. Разделяя здесь точку зрения Канта на трансцендентный характер универсальных категорий пространства-времени, Гегель тем не менее постоянно подчеркивал, что пространство и время – это не просто близкие или тождественные понятия, но в сущности это одно понятие. Так, например, уже в другом своем произведении «Философия природы» Гегель утверждает следующее: «В представлении пространство и время совершенно отделены друг от друга, и нам кажется, что существует пространство и, кроме того, и время. Против этого решительно восстает философия» (Г. В. Ф. Гегель, цит. по изд. 1977). И здесь же Гегель проясняет полную идентичность этих будто бы разделяемых понятий в следующих тезисах: также „также“
1) истиной пространства является снятие им самим его моментов;
2) время и есть наличное бытие этого постоянного снятия;
3) не во времени(т. е. пространственные характеристики реальности – авт.) возникает и преходит, а само время есть это становление, есть возникновение и прехождение. все
То есть время, по Гегелю, следует понимать как отдельную сущность, обладающую в том числе и пространственными характеристиками, которые являются субъекту только лишь в процессе «моментального снятия». И более того, согласно Гегелю, вот эта загадочная сущность – время – может пребывать и в состоянии длительности, и в состоянии вечности (вневременности). Причем и одно, и другое состояние неким образом «присутствуют» в реальности: «вечности не будет, вечности не было, а вечность есть». Отсюда буквально рукой подать до простой мысли относительно того, что вечность как раз и «располагается» сразу же за границами мгновения настоящего. Но простые мысли – это не для Гегеля. Зато сложнейшие процессы кругооборота генерации информации в полюсе «мгновений настоящего» и затем – препровождения рождающихся таким образом понятий в полюс вечности-бесконечности Гегель раскалывал как орехи. Так, например, он говорил о том, что: «Понятие.. не есть нечто временное. Наоборот, оно есть власть над временем… Идеи вечны» (Г. В. Ф. Гегель, цит. по изд. 1977). В этом смысле время – это даже не только и не столько пространственный феномены, сколько идеальный инструмент для генерации и ассимиляции информация в полюсе вечности-бесконечности. И здесь уже совсем близко до идеи темпоральной генетики, проясняющей сущность психического – целого, идеи – к которой Гераклит, Платон и даже Кант только еще «подбирались». Но не случилось. Так же, как не получилось у Гегеля связать масштаб «мгновенных снятий» с эпистемологической структурой реальности и выведением именно такой модели темпоральной реальности, которая пригодна для сложных математических расчетов.
Другой известный немецкий философ – Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, главные труды которого были опубликованы во второй половине XVIII века, в своих произведениях постоянно возвращался к идее тесного взаимодействия духовного и органического начала сложной структуры реальности и доказывал невозможность их отдельного, изолированного существования. Такая сложная реальность, согласно Шеллингу, есть некий единым организм, инициированный феноменом жизни как таковой. И далее он ясно говорил о том, что в этом колоссальном вселенском «организме» присутствует видимая, контурируемая сторона и невидимая, не доступная какому-либо измерению, но ясно угадываемая основа. Так, например, в своем основном произведении с весьма красноречивым названием «О мировой душе. Гипотеза высшей физики для объяснения всеобщего организма, или Разработка первых положений натурфилософии» Шеллинг высказывается о взаимодействии выводимых им ипостасей следующим образом: «Исследование всеобщих изменений в природе, а также развития и состояния органического мира действительно приводит естествоиспытателя к общему началу, которое, паря между неорганической и органической природой, содержит первопричину всех изменений в первой и последнее основание всей деятельности во второй; поскольку это начало есть повсюду, его нет нигде, и поскольку оно есть все, оно не может быть ничем определенным или особенным; именно поэтому в языке для него по существу нет обозначения – идею его древняя философия (к ней, завершив свой круговорот, постепенно возвращается наша) передала нам лишь в поэтических образах» (Ф. В. Й. Шеллинг, цит. по изд. 1987). В этом весьма емком пассаже Шеллинга сокрыто многое. Тут можно усмотреть и осмысленную попытку выведения дифференцируемых статусов объемной реальности – объектного, субъектного и потенциального-непроявленного. И, конечно же, ключевую характеристику этого последнего статуса объемной реальности в виде отсутствия здесь привычных нам (и тем более апологетам естественно-научного подхода) атрибутов времени и пространства. Но главное – абсолютно беспрецедентную роль этого сверх-интересного статуса в обеспечении «бытия» двух других статусов теперь уже объемной реальности, между которыми вот этот невидимый импульс начала всего и вся «парит». Однако возможно еще более важным – с точки зрения идентификации главной эпистемологической проблемы, существующей в способах репрезентации сложнейшей категории реальности – представляется последний тезис Шеллинга, касающийся того, что и философия, и наука в целом в отсутствие сущностного решения относительно понятных способов репрезентации вот этой загадочной, вневременной и внепространственной основы «всего», так и будут ходить по замкнутому кругу. То есть и здесь мы возвращаемся к теме конфликта «гнозиса» и «логоса» и понимаем всю важность нахождения сущностного решения этого эпохального конфликта.