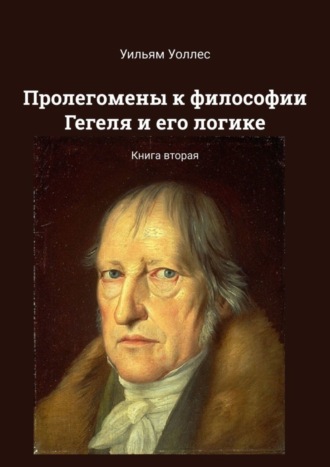
Полная версия
Пролегомены к философии Гегеля и его логике. Книга вторая
В те времена, когда античная или, если уж на то пошло, современная философия еще находилась в неосознанном союзе с наукой, а мысль, как говорится, еще была скована метафизикой, человек был центром и краеугольным камнем Вселенной. Человек был мерой всех вещей:
«Человек, однажды увиденный, навсегда запечатлевает свое присутствие на всех безжизненных вещах: ветры отныне – это голоса, стенания или крики, жалобное бормотание или быстрый веселый смех: никогда бессмысленный порыв, теперь человек рожден».
В меру своих способностей и культуры человек во все века был вынужден вчитываться в внешние по отношению к нему явления. Такое вчитывание в природу было, в своей низкой степени, фетишизмом и антропоморфизмом. Но в более поздние времена, когда науки освободились от ига философии, они отказались от подобной помощи в прочтении загадки Вселенной и решили начать с руды, с атома или клетки, а затем предоставить элементам самим решать свои задачи. Современная наука, таким образом, применяет на практике уроки, полученные от Спинозы и Юма. Первый учит, что все представления о порядке в природе, да и вообще все методы, с помощью которых популярно объясняется природа, – это лишь плоды нашего воображения, обусловленные слабостью человеческого интеллекта. Вторая указывает на то, что все связи между вещами – исключительно дело времени и обычая, подтвержденное только опытом2. В научных исследованиях не должно быть никаких предварительных предпосылок, никакой помощи, преждевременно извлекаемой из более поздних терминов процесса. Пусть человек, говорят, объясняется теми законами и действием тех первичных элементов, из которых строится каждая другая часть природы: пусть молекулы путем механического соединения построят человека, тело и душу, а затем построят общество. Элементы, которые мы находим в результате анализа, должны быть всем тем, что необходимо для синтеза. Таким образом, в наше время наука полностью и с деталями фактических знаний в нескольких отраслях осуществляет принципы атома и пустоты, которые Демокрит предположил, но не смог проверить реальными исследованиями. 13
Однако научный дух, дух анализа и абстракции (или «опосредования» и «отражения», не ограничивается в своей деятельности физическим миром. Критика обычных представлений и условностей была применена – и была применена в более ранний период – к тому, что называется духовным миром, к искусству, религии, морали и нескольким формам человеческого общества. Под этими названиями целые эпохи своими индивидуальными умами создавали органические системы, единства, претендующие на то, чтобы быть постоянными, нерушимыми и божественными. Такими единствами или органическими структурами являются семья, государство, произведения искусства, формы, доктрины и системы религии, существующие и признаваемые в обыденном сознании. 14
Но в этих случаях, как и в природе, рефлексивный принцип может выйти вперед и спросить, какое право имеют эти единства на существование. Именно этот вопрос поднимают и поднимали в прошлом веке и в наши дни «энциклопедические», «ауфкларунговские», социалистические и «свободомыслящие» теории. Что такое семья, говорят они, не более чем фикция или конвенция, которая используется для того, чтобы придать пристойный, но несколько прозрачный вид определенному животному аппетиту и его вероятным последствиям? Что такое государство и что такое общество, как не фикция или договор, с помощью которого слабые пытаются казаться сильными, а несправедливые стремятся укрыться от последствий собственной несправедливости? Что такое религия, говорят, это заблуждение, проистекающее из страхов и слабости толпы и хитрости немногих, которое люди развивали до тех пор, пока оно не окутало человечество своими змеиными путами? И Поэзия, уверяют нас, как и родственные ей искусства, погибнет, а ее иллюзии развеются, когда Наука, находящаяся сейчас в колыбели, превратится в полноценного Геркулеса. Что касается морали, права и т. п., то и здесь издревле готовилось такое же осуждение. Все они, дескать, лишь выдумки власти и ремесла или фантомы человеческого воображения, которые сила позитивной науки и голых фактов должна в скором времени развеять.
Настаивая на разделении элементов в вульгарно принятых единствах мира, наука и свободомыслие, подобно Эпикуру в прежние времена, полагали, что освобождают мир от различных суеверий, от уз, которыми инстинкт и обычай сковали вещи, объединив их в более или менее произвольные системы. Они оба отрицают главенство и реальность тех идей, которые связывают в единое целое то, что имеет самостоятельное существование, и называют эти идеи всеобъемлющим мистицизмом и метафизикой. Они разубеждают нас в существовании духов, жизненных сил, божественного права правительств, конечных причин, et hoc genu» omue. Таким образом, они практически утверждают независимость человека и его право требовать удовлетворения вопрошающей, ищущей основания способности своей природы. Но при этом они упраздняют единство мира. «Феноменализм», как называют этот способ взгляда на вещи, полностью прекращает всякое подобие философии. 15
В какой-то степени философия возвращается к позиции более широкого сознания, к всеобщей вере в гармонию и симметрию. Она возвращается к единству или связности, которую естественные предчувствия человечества находят в картине мира. Интуитивное вероучение, реагируя на предполагаемые эксцессы науки, просто вернулось к заячьему изложению народного вероучения. Если наука, например, показывала, что восприятие внешнего мира – это умозаключение, проходящее через ряд промежуточных этапов, то Кид просто отрицал эти промежуточные этапы, апеллируя к здравому смыслу, а Якоби – к вере. Убеждение и природный инстинкт были объявлены противовесом абстракциям науки. Но философия, постигающая и осмысливающая бытие, не может встать на ту же позицию, что и интуитивная школа, или пренебречь свидетельствами науки. Если духовное единство мира разрушено, то простое утверждение, что мы чувствуем и верим, что оно все еще сохраняется, не принесет большой пользы. Необходимо примирить контраст между целостностью естественного видения и фрагментарным, но в своих фрагментах проработанным результатом науки.
Науки рассеивают устоявшиеся представления и тем самым способствуют прогрессу человечества, устраняя один кажущийся барьер за другим. Они показывают негативный аспект тех единств, которые неизбежно навязывает разум. Но именно философия должна отвести этим результатам должное место и оценить всю ценность связей мысли, как отрицательных, так и положительных. И таким образом философия собирает плоды научных исследований общего развития человечества: и использует саму работу науки, чтобы заполнить лакуны, пробелы, которые народное сознание преодолевает бездумно и с легким сердцем. Философия приходит, чтобы подвести итог и оценить то, чего достигла наука: и здесь как бы дух мира берет в свои руки приобретения, завоеванные более дерзкими и самолюбивыми из его сыновей, и вкладывает их в общее достояние.
Они откладываются и хранятся там, сначала в абстрактной и технической форме, но вскоре им суждено перейти во всеобщее владение и сформировать ту массу убеждений и инстинктивных или имплантированных знаний, из которых новое поколение будет черпать свои умственные запасы. Каждая великая философская система в свою очередь откладывается в сторону. Она покидает профессорскую кафедру и проникает в обычную жизнь людей, воплощаясь в их повседневных представлениях, – мертвое на вид семя мысли, из которого, благодаря совместному воздействию разумного опыта и спекуляций, однажды возникнет новая философия.
Философия – это синтез наук, но в новой сфере, в более высокой среде, не признаваемой самими науками. Примирение, которое, как считает философ, он должен осуществить между обыденным сознанием и наукой, отождествляется каждой из сторон с той или иной фазой антагонистического заблуждения. Наука будет называть философию видоизмененной формой старого религиозного суеверия. Народное сознание истины, и особенно религия, увидит в философии лишь повторение или усугубление пороков науки. Попытка единства не понравится ни тем, ни другим, пока они не вступят на почву, которую занимает философия, и не начнут двигаться в этом направлении. А это возвышение в философский эфир требует напряжения мысли, которое является самым суровым трудом, возложенным на человека: поэтому непрерывное философствование часто называют сверхчеловеческим. Она делает доказательство невозможным только для тех, кто готов думать самостоятельно. Каждый шаг – это усилие, а результат, в отрыве от процесса, который его породил, исчезает, как дворец в сказке. Сравнительно легко абстрагироваться, оставить одну вещь за другой вне поля зрения, изолировать элемент, двигаться от неподвижной точки к точке, вместо того чтобы переходить из одной в другую, и при этом не потерять себя в этом поглощении. Сравнительно легко замкнуться на себе, отвергнуть все разделения и пропасти, которые обнажает наука, и слепо цепляться за факт единства, который ощущает и за который ручается естественное сознание. Первое – это общая позиция науки: второе – общая позиция большей части популярного сознания, большей части популярной религии и большей части так называемой философии. Но трудная задача, которую ставит перед собой философия, состоит в том, чтобы объединить эти две линии действия, и объединить их не как две вещи, каждая из которых должна иметь свою очередь, а неразрывно в одной деятельности.
«Вся философия есть не что иное, как изучение конкретных форм или типов единства». Существует множество видов и классов этого синтетического единства. Их нельзя просто утверждать в расплывчатой форме, поскольку они то тут, то там бросаются в глаза массовому сознанию. Философия видит в этом единстве не конечный и не поддающийся анализу факт, не обман, а рост, раскрытие или разворачивание, которое выливается в организм или систему, строящую себя все более и более полно под действием собственной силы. Эта система, образованная этими видами фундаментального единства, называется «Идеей», высшим законом которой является развитие. Философия стремится сделать для этой связующей и объединяющей природы, то есть для мысли, нечто подобное тому, что науки сделали или хотели бы сделать для фактов чувства и материи, – сделать для духовного связующего элемента в его целостности то, что делается для нескольких фактов, которые объединяются. Она прослеживает вселенную мысли от ее зародышевой формы, где она кажется как бы неразложимой точкой, до полностью созревшей системы или организма, и показывает не только то, что одна фаза чистой мысли переходит в другую, но и то, как она это делает, и при этом не теряется, а лишь приостанавливается и лишается своей узости в более зрелой фазе. 16
Но он идет дальше этого, развивая в науку и царство Истины естественную и необоснованную веру в единство и порядок. Неподвижные точки, существенные реалии физического и духовного мира, произведения Природы и Разума, между которыми, казалось бы, тянутся соединительные линии, лишаются своей фиксированности и устойчивости.
Так называемая «реальность» этих объектов, как видно, обусловлена леностью мысли, которая стала привычной, так что мы теряем из виду процесс, который дал им бытие. Их реальность – это, короче говоря, абстракция: когда мы обращаемся к целому, к процессу мышления в целом, мы видим, что было бы справедливо говорить об их идеальности, то есть об их вписанности в систему или общую теорию, от которой они зависят. Итак, так называемые вещи Природы и Разума следует рассматривать как дальнейшие этапы эволюции Идеи, различающиеся скорее по степени, чем по виду. Природа и искусство, закон и мораль повторяют один и тот же органический процесс: за исключением того, что с каждым продвижением вперед возникает новый элемент или уровень мысли, более высокий, в котором движение разума происходит с более крупными вопросами и более сложными терминами. Таким образом, царства природного и ментального мира, со всеми их провинциями, теряют свои негибкие различия и становятся беременными жизненным принципом.
Таким образом, перед наукой и философией открываются два царства: царство внешней природы и царство разума. В обоих этих царствах существует определенный порядок и система. Разгадать этот порядок и показать последовательные шаги, из которых складывается система, – вот задача прикладной философии. Это сфера применения философии природы и философии разума. Но более ранняя и жизненно важная проблема (и та, которая является особой работой Гегеля) – определить этот порядок сам по себе в его родной среде мысли, где только он совершенно ясен, прозрачен и текуч: система усложняющейся мысли, как мир аттракторов или чистых духов, где материя и форма, как принято понимать, совпадают. Она стремится зафиксировать ряды духовной иерархии, в которых располагаются чистые типы мысли: сверхчувственный мир, в котором каждая точка потенциально является целым, а целое – ничто, если оно не постигает каждый свой член: круг кругов, каждый из которых – итог, если бы мы только могли в нем остановиться, а не были непрерывно устремлены дальше, в более широкий диапазон мысли. В этом организме мысли, проявленном с научной точки зрения, нет необходимости говорить о вопросе времени. Этот организм, если мы можем применить несовершенный термин для обозначения Идеи, – это сфера Логики, которая, по словам Гегеля, рассматривает чистую Идею, Идею в абстрактной среде мысли.
ГЛАВА VI. ГЕНЕЗИС ГЕГЕЛЬЯНСТВА
Мы видели, как человек заставляет мир приспосабливаться к своим желаниям и превращает его в свою собственность, накладывая на него свой отпечаток. На мир – а в той мере это его мир – он устанавливает законы своих собственных мыслей и желаний, тем самым очеловечивая его. Но если такое формование и объединение природы в единое целое является результатом его практических действий над ней, то это не менее инстинктивная основа его теоретического отношения к ней. Врожденная тенденция человеческого разума – соединять и устанавливать отношения, – соединять, может быть, ошибочно, или без должной проверки, или под влиянием страстей или предрассудков, – но, во всяком случае, соединять. Ибо, как не устает повторять мистер Герберт Спенсер и многие другие: ««Мы мыслим отношениями». Это действительно форма всех мыслей: и если есть другие формы, то они должны быть производными от этой. Раньше человека определяли как мыслящее или рациональное животное: это значит, что человек – животное связующее и дающее отношения; и отсюда определение Аристотеля, делающее его «политическим» животным, является лишь следствием, наиболее применимым в области этики. Здесь находится конечная точка, из которой естественное сознание, а также энергия науки, искусства и религии в равной степени приступают к выполнению своих особых задач. 17
Чем больше мы знакомимся с вещами, по крайней мере, до тех пор, пока мы удерживаем взгляд от поглощения одной точкой, тем больше связей мы видим. Но могут произойти две вещи. Либо мы склонны упускать факт синтеза из виду, как будто он не требует дальнейшего изучения или внимания, и рассматриваем связанные вещи исключительно как заслуживающие внимания. Мы используем общие и наполовину объяснимые термины, такие как развитие, эволюция, непрерывность, как мостики от одной вещи к другой, не придавая никакого значения средствам передвижения самих по себе. Какая-то одна вещь является продуктом чего-то другого: мы позволяем термину «продукт» ускользнуть из предложения как несущественному: а затем читаем утверждение так, чтобы объяснить одну вещь, превратив ее в другую. Вещи, согласно этому мнению, важны все: остальное – просто слова. Эти отношения между вещами не подлежат дальнейшему исследованию или определению: они каждый nd generis, или своеобразны: и мы должны довольствоваться тем, что можем классифицировать их каким-то приблизительным образом, как основу для нашего деления предложений. Это, конечно, один из способов избавиться от метафизики – на время. Другой способ заключается в следующем. В определенные моменты, когда мы останавливаемся, чтобы поразмыслить над частичной картиной, и закрываем глаза на тотальность, начинают возникать сомнения, оправдана ли наша процедура, когда мы объединяем и комбинируем изолированные явления. Имеем ли мы право вбрасывать в мир природы нашу собственную субъективность, законы нашего воображения и мышления? Не правильнее ли было бы вообще воздержаться от использования подобных концепций?
Этот вопрос был предложен Юмом применительно к некоторым особым формам связи или объединения, в частности к причинности. Кант попытался дать исчерпывающий ответ. В целом его ответ был близок к скептическому решению, которое Юм предложил для своих собственных сомнений: но в своей особой природе он значительно отличался. Кант соглашался с Юмом, утверждая, что формы мышления не могут привести ни к какому знанию о природе вещей, если они не обоснованы и не подкреплены опытом. Знания, к которым способен человеческий разум, по его словам, действительно объективны, поскольку они действительны для всех интеллектов: но в конечном счете они все равно субъективны, поскольку их сбивает с толку недоступная Вещь-в-себе. Но кантовское решение отличается от решения Юма, когда он переходит к анализу факта этих отношений между идеями и к составлению генеалогической таблицы тех форм представлений, которые образуют нашу исконную интеллектуальную силу. Знание, согласно взгляду Канта на его природу, представляет собой встречу двух элементов, один из которых происходит от наших ощущений, а другой – от нашего понимания. Материя ощущений соответствует определенным условиям, которые в самом общем виде известны как время и пространство. Вклад нашего понимания носит более строго формальный характер, давая синтез и упорядочивание материи ощущений. Именно об этой второй составляющей мы сейчас и поговорим. Юм говорил, что наши попытки синтеза явлений – это просто привычки, приобретаемые в процессе опыта. Кант согласился с этим, но лишь утверждал, что наше действительное знание обязательно предполагает эти формы синтеза и, следовательно, истинно только для нас, но не для вещей. Но помимо этого результата, его притязания на память будут основываться на его изложении разума как формы форм, области интеллектуальных форм. Он подготовил почву для прогресса философии, впервые открыв область логики как науки о чистом интеллекте: интеллекте самом по себе, а не просто наблюдателе других вещей. Его работа стала тем, что мы можем назвать первой психологией чистого мышления.
Но система, представленная Кантом, имела не один недостаток. В первую очередь, таблица категорий была неполной. Она была заимствована, как говорит сам Кант, из старого логического подразделения суждений, заимствованного более или менее непосредственно у Аристотеля и школяров. Но многие отношения, встречающиеся в обыденном мышлении, нельзя было свести ни к одной из двенадцати форм, не совершив над ними насилия. Во-вторых, в классификации не было ни принципа, ни причины, и она не давала оснований для развития.
То, что должно быть четыре фундаментальных категории, каждая из которых состоит из трех подразделений, а всего их двенадцать, так же необъяснимо, как и то, что четыре афинских племени ранних времен должны были образовать двенадцать фратрий. Двенадцать патриархов мысли пользуются равным авторитетом, практически не влияя друг на друга. Мы имеем здесь, выражаясь научным языком, искусственную, а не естественную классификацию типов мышления. В-третьих, вопрос был поставлен как чисто психологический, или субъективный, касающийся конституции человеческого разума в его целостности и чистоте. И таким образом кантовское утверждение обрывается, как мы должны теперь сказать, без необходимости, на Вещи-в-себе, – таинственном мире в его неизменном и неизменном бытии, который, хотя и является неизвестным фактором, все же входит в знание.
Эта субъективность, искусственность и несовершенство списка – недостатки, которые не должны вызывать особого удивления. Ведь в 1781 году мы живем в те времена, когда «Права человека», требования личности и субъективного разума провозглашались с большей силой, чем в большинстве исторических периодов. Исповедь» Руссо была лишь одним ярким примером из сотен автобиографий, в которых подробно описывались частные и личные аспекты жизни человека, а религиозный мир в то же время был наполнен записями о благочестивых переживаниях и мельчайшими подробностями обращений. Это было время, совершенно лишенное истинного понимания того, что подразумевается под природой и историей. У него не было того исторического чувства, которое освобождает человека от ограничений его собственной природы и его эпохи и, таким образом, делает возможным для него постижение того, что является универсальным и истинным. Вместо исторической критики в этот период был применен метод, который иногда называют «продвинутым богословием», а также рационализм. Рационализировать означало применять каноны нашего ограниченного просвещения к неограниченным диапазонам реальности. В этих условиях ограничения «Критики чистого разума» Канта вполне объяснимы. 18
У Гегеля этот вопрос приобретает более широкий масштаб и получает более обстоятельный ответ. В первую очередь вопрос о Категориях переносится из той сферы, которую мы называли психологической, в ту, которую Гегель называет логической. Он переносится, говоря языком древних, от Разума в человеке, рассматриваемого субъективно, к Разумному или Интеллектуальному миру, к которому наш Разум как бы прикасается, и таким образом становится обладателем знания. Во вторую очередь, Категории становятся огромным «множеством». Интеллектуальный телескоп обнаруживает новые звезды за созвездиями, видимыми невооруженным глазом, и превращает туманности мысли в миры эгоцентричного интеллекта. Больше нет никакой мистической добродетели, которая, как предполагается, заключена в числе двенадцать. Современный химик мысли значительно увеличивает число своих элементарных «типов и факторов» и доказывает, что многие из старых Категорий не являются ни простыми, ни неразложимыми. В-третьих, существует систематическое развитие или процесс, который связывает категории воедино и из самых простых, абстрактных и неадекватных порождает самые сложные и адекватные. Каждый термин или член в организме мысли имеет свое место, обусловленное всеми остальными: каждый из них содержит зародыш или зрелый плод другого.
В этом логическом взгляде на Категории, в расширении их границ и сближении их связей мы можем в общих чертах увидеть прогресс, который Гегель делает по сравнению с Кантом. Объяснить, как он пришел к этому шагу, было бы очень ценным делом для истории и биографии: но это потребовало бы обширных знаний о научной жизни конца прошлого века и начала нынешнего. Можно отметить один или два момента. Работа Г. Р. Трквирануса «Биология, или Философия одушевленной природы», первые три тома которой вышли в 1803—1805 годах, и «Философская зоология» Жана Ламарка, опубликованная в 1809 году, были почти одновременны с первым великим произведением Гегеля, «Феноменологией», появившейся в 1807 году. В этих двух работах, но особенно в работе Ламарка, теория происхождения видов от одного типичного вида путем приспособления и наследования была изложена в сравнительно определенной и систематической форме. Кроме того, «Метаморфозы растений» показали, что Гете уже в 1790 году занимался рассуждениями, которые в более современное время стали ассоциироваться почти исключительно с именем Дарвина. Все они, и особенно эссе великого поэта, были внимательно изучены Гегелем: об этом свидетельствует подробный анализ работы Гете, приведенный в «Философии природы», а также частые ссылки на двух физиологов в возвышенностях к более поздним разделам этой работы. Теория развития, выражаясь обычным языком, витала в воздухе: она вдохновляла и поэзию, и научные спекуляции: в тонкой и философской форме она была применена в великолепном масштабе Гегелем. Она дает теорию мысли как процесса – развития, которое не знает различий между прошлым и будущим, поскольку предполагает вечное настоящее и продолжается eui apecie aeterni. 19
Следует также помнить, что между Кантом и Гегелем лежит быстрое и энергичное действие Фихте и Шеллинга более раннего периода. Фихте применял доктрину Канта в области морали и религии: Шеллинг – в области природы и истории. Таким образом, они перевели теорию чистого разума из несколько сужающихся пределов человеческого разума в область актуальности и конкретных фактов. Таким образом, они практически и косвенно преодолели субъективность, элемент слабости, который цеплялся за категории Канта. Но, хотя они продвинули мысль в более широкое и сложное поле и проложили путь к новой постановке проблемы на универсальной основе, они не добавили многого к фундаменту и не исправили его неадекватность.
Фихте, показав, что интеллект – это скорее акт, чем факт, что началом философии является постулат «Думай!», что мысль должна ограничить себя и ввести различия, и что категории возникают из этого акта самоопределения, придал категориям больше единства и принципа, чем это сделал Кант. Но Гегелю оставалось поставить проблему в более полном свете. И сделать это ему позволило то исчерпывающее изучение истории и всех произведений человеческого разума, то неустанное стремление разобраться в своих мыслях и увидеть смысл истории, которым отмечено третье десятилетие его жизни. Благодаря этим исследованиям он смог заменить расплывчатое «Абсолют», ставшее крылатым словом философии того времени, полностью детализированной структурой Идеи, Разумного мира со всеми его конкретными типами и процессами, от которых они зависят: подобно тому, как Кант перевел расплывчатый и абстрактный термин «понимание» в артикулировавшую схему своих двенадцати категорий.







