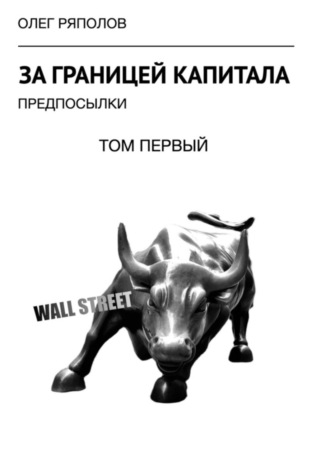
Полная версия
За границей капитала: предпосылки. Том первый
Для того чтобы преобразовать общечеловеческую природу так, чтобы она получила подготовку и навыки в определенной отрасли труда, стала развитой и специфической рабочей силой, требуется определенное образование или воспитание, которое, в свою очередь, сто́ит большей или меньшей суммы товарных эквивалентов. Эти издержки на образование различны в зависимости от квалификации рабочей силы. Следовательно, эти издержки обучения – совершенно ничтожные для обычной рабочей силы – входят в круг стоимостей, затрачиваемых на ее производство.
Итак, стоимость рабочей силы сводится к стоимости определенной суммы жизненных средств. Она изменяется поэтому с изменением стоимости этих жизненных средств, т.е. с изменением величины рабочего времени, необходимого для их производства.
Часть жизненных средств, например продукты питания, топливо и т.д., потребляется ежедневно и потому ежедневно же должна возмещаться. Другие жизненные средства, как платье, мебель и т.д., потребляются в течение более или менее продолжительных промежутков времени, а потому и подлежат возмещению лишь по истечении более продолжительного времени. Одни товары покупаются или оплачиваются ежедневно, другие еженедельно, раз в четверть года и т. д. Но как бы ни распределялась сумма этих расходов в течение, например, года, она должна быть покрыта из средних, поступающих изо дня в день доходов. Если масса товаров, ежедневно необходимая для производства рабочей силы, = А, масса товаров, требуемых еженедельно, = В, требуемых каждую четверть года, = С и т.д., то ежедневное среднее количество этих товаров =
365А +52В +4С + и т. д.
365
Пусть в этой необходимой для среднего дня товарной массе заключено 6 часов общественного труда; тогда в рабочей силе ежедневно овеществляется половина дня общественного среднего труда, т.е. требуется половина рабочего дня для ежедневного производства рабочей силы. Это количество труда, необходимое для ежедневного производства рабочей силы, составляет ее дневную стоимость, или стоимость ежедневно воспроизводимой рабочей силы. Если полдня среднего общественного труда выражается в массе золота в 3 шиллинга, или в один талер, то талер есть цена, соответствующая дневной стоимости рабочей силы. Если владелец рабочей силы ежедневно продает ее за один талер, то ее продажная цена равна ее стоимости, и по нашему предположению владелец денег, снедаемый желанием превратить свой талер в капитал, действительно уплачивает эту стоимость.
Низшую, или минимальную, границу стоимости рабочей силы образует стоимость той товарной массы, без ежедневного притока которой носитель рабочей силы, человек, не был бы в состоянии возобновлять свой жизненный процесс, т.е. стоимость физически необходимых жизненных средств. Если цена рабочей силы падает до этого минимума, то она падает ниже стоимости, т.к. при таких условиях рабочая сила может поддерживаться и проявляться лишь в хиреющем виде. Между тем стоимость всякого товара определяется тем рабочим временем, которое требуется для производства товара нормального качества.
В высшей степени дешевой сентиментальностью было бы считать слишком грубым это определение стоимости рабочей силы, вытекающее из самого существа дела, и жаловаться подобно Росси:
«Рассматривать способность к труду (puissance de travail), отвлекаясь от жизненных средств, поддерживающих труд во время процесса производства, значит рассматривать свое собственное измышление (etre de raison). Говорить о труде, говорить о способности к труду, значит говорить в то же время о рабочем и средствах его существования, о рабочем и заработной плате»92.
Способность к труду еще не означает труд, подобно тому как способность переваривать пищу вовсе еще не совпадает с фактическим перевариванием пищи. Для того чтобы мог состояться этот последний процесс, недостаточно, как известно, иметь хороший желудок. Кто говорит о способности к труду, тот не отвлекается от жизненных средств, необходимых для ее поддержания. Стоимость ее как раз и выражает собой стоимость этих жизненных средств. Если способность к труду не может быть продана, рабочему от нее нет никакой пользы. Более того, в этом случае он воспринимает как жестокую естественную необходимость тот факт, что его способность к труду потребовала определенного количества жизненных средств для своего производства и всё снова и снова требует их для своего воспроизводства. Он делает тогда вместе с Сисмонди следующее открытие: «Способность к труду… есть ничто, раз она не может быть продана»93.
Своеобразная природа этого специфического товара, рабочей силы, выражается между прочим в том, что по заключении контракта между покупателем и продавцом его потребительная стоимость не переходит еще фактически в руки покупателя. Его стоимость, подобно стоимости всякого другого товара, была определена раньше, чем он вступил в обращение, потому что определенное количество общественного труда уже было затрачено на производство рабочей силы, но ее потребительная стоимость состоит лишь в ее позднейших активных проявлениях. Таким образом, отчуждение силы и ее действительное проявление, т.е. наличное бытие в качестве потребительной стоимости, отделяются друг от друга во времени. Но при продаже таких товаров, формальное отчуждение потребительной стоимости которых отделяется во времени от ее фактической передачи покупателю, деньги покупателя функционируют обыкновенно как средство платежа94. Во всех странах с капиталистическим способом производства рабочая сила оплачивается лишь после того, как она уже функционировала в течение срока, установленного договором при ее купле, например в конце каждой недели.
Таким образом, везде рабочий авансирует капиталисту потребительную стоимость своей рабочей силы; он предоставляет покупателю потреблять свою рабочую силу раньше, чем последний уплатил ее цену, одним словом – везде рабочий кредитует капиталиста. Что этот кредит не пустая выдумка, показывает не только потеря кредитором заработной платы в случае банкротства капиталиста95, но и целый ряд фактов, оказывающих более продолжительное влияние96.
Однако характер самого товарообмена не изменяется от того, функционируют ли деньги в качестве покупательного средства или в качестве средства платежа. Цена рабочей силы установлена при заключении контракта, хотя реализуется, подобно квартирной плате, лишь впоследствии. Рабочая сила уже продана, хотя плата за нее будет получена лишь позднее. Но для того, чтобы исследовать данное отношение в его чистом виде, полезно предположить на время, что владелец рабочей силы одновременно с ее продажей получает всегда и обусловленную контрактом цену.
Мы познакомились теперь с тем, как определяется стоимость, уплачиваемая владельцем денег владельцу этого своеобразного товара, рабочей силы. Ее потребительная стоимость, которую владелец денег, в свою очередь, получает при обмене, обнаружится лишь в процессе действительного использования, в процессе потребления рабочей силы. Все необходимые для этого процесса вещи, как сырой материал и т.п., владелец денег покупает на товарном рынке и оплачивает полной ценой. Процесс потребления рабочей силы есть в то же время процесс производства товара и прибавочной стоимости. Потребление рабочей силы, как и всякого другого товара, совершается за пределами рынка, или сферы обращения. Оставим поэтому эту шумную сферу, где всё происходит на поверхности и на глазах у всех людей, и вместе с владельцем денег и владельцем рабочей силы спустимся в сокровенные недра производства, у входа в которые начертано: No admittance except on business [Посторонним вход воспрещается]. Здесь мы познакомимся не только с тем, как капитал производит, но и с тем, как его самого производят. Тайна добывания прибыли должна наконец раскрыться перед нами.
Сфера обращения, или обмена товаров, в рамках которой осуществляется купля и продажа рабочей силы, есть настоящий эдем прирожденных прав человека. Здесь господствуют только свобода, равенство, собственность и Бентам. Свобода! Ибо покупатель и продавец товара, например рабочей силы, подчиняются лишь велениям своей свободной воли. Они вступают в договор как свободные, юридически равноправные лица. Договор есть тот конечный результат, в котором их воля находит свое общее юридическое выражение. Равенство! Ибо они относятся друг к другу лишь как товаровладельцы и обменивают эквивалент на эквивалент. Собственность! Ибо каждый из них располагает лишь тем, что ему принадлежит. Бентам! Ибо каждый заботится лишь о себе самом. Единственная сила, связывающая их вместе, это – стремление каждого к своей собственной выгоде, своекорыстие, личный интерес. Но именно потому, что каждый заботится только о себе и никто не заботится о другом, все они в силу предустановленной гармонии вещей или благодаря всехитрейшему провидению осуществляют лишь дело взаимной выгоды, общей пользы, общего интереса.
Покидая эту сферу простого обращения, или обмена товаров, из которой фритредер vulgaris черпает все свои взгляды, понятия, масштаб всех своих суждений об обществе капитала и наемного труда, – покидая эту сферу, мы замечаем, что начинают несколько изменяться физиономии наших dramatis personae [действующих лиц]. Бывший владелец денег шествует впереди как капиталист, владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу; другой бредет понуро, упирается как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить»97.
«Но рабочий, который на первой стадии был продавцом, торговцем собственной рабочей силой, на второй стадии как покупатель, как владелец денег противостоит капиталисту как продавцу товаров; таким образом деньги, затраченные капиталистом на заработную плату, притекают к нему обратно. Поскольку продажа этих товаров не связана с надувательством и т.д., поскольку при этом в виде товаров и денег обмениваются эквиваленты, постольку такая продажа не представляет собой процесса, посредством которого обогащается капиталист. Он не оплачивает рабочего дважды: сначала деньгами, а потом товарами; деньги капиталиста возвращаются к нему, когда рабочий обменивает деньги на товар этого капиталиста»98.
[Кто покупает прибавочный продукт…]
___________________________
[Обобществление (англ. socialization, нем. Vergesellschaftung; обобществлять – нем. vergesellschaften) – процесс перехода от частных форм владения к общественным формам владения средствами производства. Дефиниции обобществления представлены в марксистской теории в рамках капиталистического развития и в последующих социологических теориях как вообще становление человеческого общества.
Обобществление в рамках капиталистического развития.
Формы обобществления: акционерный капитал, кредит.
Марксистская теория выдвигает положение, что капиталистический способ производства с определенного этапа характеризуется обобществлением труда и переходом от частнособственнического владения средствами производства к общественному владению средствами производства99. Переход обусловлен перманентным процессом разделения труда и, соответственно, новым, более высоким уровнем производительных сил.
Обобществление – главный вопрос социализма, т.к. процесс с точки зрения марксизма раскрывает реальные переходные и реальные социалистические формы общественного владения средствами производства. Реальное обобществление неразрывно связано с процессом исчезновения классов и, как следствие, института государства100. Чем выше реальное обобществление, тем больше разложение всех классов общества без исключения, тем бледнее свойственные им проявления, тем меньше их поляризация, тем более сглажены их антагонизмы в той части общества, которая переходит на новый способ производства101.
Марксизм противоречиво раскрывает процесс обобществления. С одной стороны, он точно указывает реальные формы обобществления частных капиталов, частного труда, с другой – упрощает понимание процесса, представляя государственную монополию, т.е. монополию наиболее могущественной группы доминирующего класса, как обобществление102. Это положение входит в противоречие с классической идеей об исчезновении классов и государства в социализме, а на практике – к упрощению и вульгаризации социалистической идеи103.
Диалектика обобществления. Сущность движения (развития)
В основании идеи обобществления средств производства лежит диалектическое понимание общественного развития, когда процесс возвращается в свою исходную точку, вобрав в себя всё богатство исторического развития, все его достижения и результаты разрешенных противоречий, – возвращается к своей изменившейся за время развития сущности104.
В экономических отношениях таким возвращением, по представлениям классиков марксизма, будет социализм – общество, где экономическая свобода и равенство каждого будут определяться совместным владением и использованием средств производства материальных благ подобно тому, как это происходило в первобытном коммунизме древних обществ, но в отношениях, вобравших в себя все человеческие ценности, выработанные на противоречивом пути от дикости к цивилизации.
Подтверждение этому положению марксизм находит в процессах капиталистического развития, что позволяет выдвинуть экономическое обоснование смены капитализма, представить капитализм последней формой частнособственнического этапа движения человеческого общества, представить капитализм переходом к социализму. Раскрытие законов капиталистического развития, их проявление в действительных отношениях служит в марксизме доказательством перехода к социализму как форме обобществленного этапа развития.
Методы и этапы обобществления. Концентрация и централизация производства и капитала. Кооперация, мануфактура, фабрика (машинное производство)
Впервые Маркс высказал идею обобществления как всеобщего процесса перехода в работе «Тезисы о Фейербахе»105. В дальнейшим обобществление в марксизме рассматривается исключительно как обобществление средств производства. Это связано прежде всего с тем, что отношение к владению и распоряжению средствами производства определяет социальную организацию производства, а вслед за ним социально-экономические отношения и всю социально-экономическую формацию.
Прослеживая развитие капитализма, классики марксизма показывают на формах организации капиталистического производства процесс обобществления. Они доказывают, что капитал по своей сути предполагает общественное производство как предпосылку обобществления106.
Простая кооперация, мануфактура, фабрика и машинное производство отражают этапы обобществления труда, обобществления средств производства.
Следующая за каждым этапом обобществления концентрация производства обуславливала дальнейший процесс еще более глубокого обобществления и еще более сильной концентрации капитала. Величины частного капитала было недостаточно для решения задач обобществленного производства. Капитал, вызвавший к жизни процесс обобществления производства и принимавший формы денежного капитала в своем проявлении, точно соответствовал уровню этого обобществления. Акционерный капитал различных форм и разнообразный банковский кредит как формы обобществленного капитала пришли на смену единичному частному капиталу107.
Государство как фетишизм обобществления: монополия
Государство как монополия упраздняется акционерным обществом из предприятий, которые раньше принадлежали феодальному государству, монарху как монополисту на все доходы от деятельности общества. На место монархических государственных предприятий приходят капиталистические предприятия как общественные предприятия через форму акционерного капитала.
На определенном этапе и капиталистическое предприятие становится монополией. Монополия старой аристократии в монархических предприятиях сменяется монополией новой капиталистической аристократии. Но если эта монополия затрагивает интересы правящей группы капиталистов, капиталистическое государство стремится ограничить ее. Как, впрочем, и общество, к тому моменту достигнув определенной зрелости, стремится использовать возможности капиталистического государства в своих интересах, заставляя буржуазный класс делиться привилегиями, а также исполнять общественные функции.
Корпорации, тресты, синдикаты, концерны, финансово-промышленные группы – всё разнообразие, порожденное возможностью акционерного капитала и кредита, стало действительностью капиталистического способа производства. Концентрация и централизация управления корпораций достигли таких размеров, что стали превосходить по своему финансовому могуществу целые национальные государства108.
Наиболее могущественные финансово-промышленные группы, пришедшие к власти в национальных государствах, стали использовать силу этих государств для монополизации целых отраслей, как, впрочем, и общего общественного ресурса (бюджета государства) для развития своего частного дела109. Государственный интерес, как частный интерес наиболее деятельной и сильной части буржуазии, преподносился обществу как общественный интерес. Строительство каналов, верфей, мостов, железных и автомобильных дорог, военное производство, добыча полезных ископаемых, выработка электроэнергии, судостроение, авиация и т. д. – всё, до чего мог дотянуться частный интерес, становилось государственным делом, т.е. делом той группы буржуазии, которая стоит у власти. Этот очередной этап развития капитализма – государство-монополию – Энгельс вслед за Марксом описывает как завершающий этап капиталистического развития110. Ему представляется, что вся экономическая деятельность должна быть монополизирована капиталистическим государством, при этом он забывает, что государство всего лишь инструмент власти наиболее могущественной капиталистической верхушки, а не власти всего общества и даже не всего класса капиталистов111.
Различные формы акционерного капитала и разнообразные формы кредита, развивающиеся на этой основе финансовые инструменты, описанные Марксом как реальные формы обобществления, заменяются Энгельсом монополией наиболее сильной группы правящего класса – монополией государства. Тем самым он вступает в противоречие с марксистским же определением государства и с социалистическим постулатом об отсутствии государства в социализме. Разрешить противоречие он пытается тем, что это будет пролетарское государство с обобществленными средствами производства, которое с того же момента, как только пролетариат придет к власти, станет ненужным112. Такая логическая конструкция на практике оказалась неосуществимой113. Соответственно, она неосуществима в более сложном общественном устройстве, каким является социализм, где социально-экономические связи по своей сложности и мобильности будут на несколько порядков превосходить капиталистическое устройство общества114.
Социализм – сложная система взаимодействия частной инициативы в рамках обобществленных средств производства на основе свободной ассоциации частных индивидуумов. Социализм идет за капитализмом, и уже поэтому он – более сложная мировая система.
В дальнейшем для оправдания частной монополии, прикрытой государством, несущей в себе как функцию выражения и защиты интересов доминирующего класса и его наиболее сильной группы, так и функцию общественного управления, в марксизме появляется само себя исключающее понятие «государственный социализм», противоречащее тому положению, что в социализме нет государства, положению «чем меньше государства в обществе, тем больше в нем социализма», и наоборот.
Противоречия советского общества. Обобществление и начало разложения классов. Начало исчезновения государства
Энгельс, выдвигая идею через государство обобществить средства производства, уже следующей строкой перечеркивает свои же выводы, указывая, что «свободное народное государство» всего лишь научно несостоятельный политический лозунг115.
«Государственный социализм», выдуманный для разрешения противоречий и несоответствий советского общества 2-й пол. ХХ в. с положениями классической теории, также есть всего лишь лозунг о «свободном народном государстве», не только не объясняющий противоречий, но направляющий исследователя по ложному пути.
В теоретических положениях марксизма, касающихся общих процессов развития общества и смены общественных формаций, и в действительности процесс отмирания государства начинается не в социализме и не с осуществлением социалистической революции. Этот процесс начинается в капитализме и идет параллельно с реальным обобществлением, слиянием умственного и физического труда, через еще большее разделение труда и параллельно процессам в изменении технологий функционирования средств производства таким образом, что они обеспечивают равенство всех по отношению к этим изменившимся средствам производства, а значит, параллельно исчезновению классов.
Поэтому монополия, в каком бы виде она ни была представлена, это не обобществление. Обобществление – это не монополия. Монополия на средства производства есть ограничение в интересах определенной группы, в то время как обобществление подразумевает доступность средств производства для всех членов общества. Если акционерные формы, как естественно развившиеся формы обобществления внутри капиталистического способа производства, в рамках социализма действительно позволяют всем членам общества принимать участие в управлении и развитии производства, то монополия, как узкий интерес в пользу ограниченного числа людей, препятствует этому.
Свободная ассоциация рабочих. Фурье. Экономическая целесообразность и величина ассоциации
Маркс предполагает на определенном этапе обобществления «свободную ассоциацию рабочих» как альтернативу государству, которое предназначено «управлять людьми», в противоположность ассоциации, предназначение которой – управлять производством116.
Свободной ассоциации рабочих как наивысшей форме обобществления средств производства в марксизме уделяется особое значение. Предполагается, что ассоциация будет объединять всех трудящихся на добровольной основе, основанной на осознании необходимости производственной кооперации. Если капиталистическая конкуренция за счет разорения слабых и неудачливых капиталистов, особенно во времена периодически наступающих кризисов, насильно объединяет, концентрирует, кооперирует, интегрирует производство и капиталы, то ассоциация есть добровольное, сознательное объединение, диктуемое производственной эффективностью и необходимостью. Таким образом, марксистская свободная ассоциация изначально подразумевает не только свободное объединение, но и свободное разъединение, если это продиктовано экономической целесообразностью и эффективностью. Выдвигая идею ассоциации рабочих, Маркс развивает идеи идеалиста Ш. Фурье, но уже с новых позиций и понимания процесса обобществления труда и средств производства как ассоциации, стремящейся объединить всю крупную промышленность117 и использующей машинное производство, также в сельском хозяйстве. Ассоциация рабочих должна охватывать всю нацию, а в дальнейшем всё человечество. Эти теоретические предположения дополняются многочисленными революционными лозунгами и воззваниями к вооруженной классовой борьбе, т. к. К. Маркс и Ф. Энгельс ошибочно принимали «муки рождения» капитализма за его закат118. Они не детализируют обобществления труда в ассоциации, считая, что обобществление охватит весь труд, поэтому в марксизме не стоит вопроса, насколько целесообразно и экономически необходимо ассоциировать неинтегрированный труд. Этот вопрос возникает на более позднем этапе развития мировых производительных сил, когда транснациональные корпорации, несмотря на все еще имеющееся присутствие национальных государств и национальных ограничений, охватили своей деятельностью большую часть человечества. Современные корпорации, а они в своем развитии далеко ушли даже от монополий и трестов нач. ХХ в., не говоря уже о предприятиях сер. и конца XIX в., в стремлении к эффективности избавляются от многих непрофильных активов, которые они приобретали при наличии свободных финансов. Здесь мы наблюдаем сложный, противоречивый процесс обобществления, отличный от прямолинейных взглядов марксистской теории. Он действительно охватывает и интегрирует всё человечество, где наряду с акционерными корпорациями возникают довольно эффективные общины различной величины, финансовые состояния которых достаточны для решения основных задач: воспитания и обучения подрастающего поколения и молодежи, содержания и обеспечения старшего поколения, обеспечения членов общины жильем и безопасным питанием, организации защиты от стихийных бедствий и технологических катастроф. Городские или религиозные общины119 всё еще в действуют рамках капиталистического способа производства, сами создают корпорации; как и корпорации, участвуют в деятельности общин непосредственно в договорных отношениях или опосредованно, через систему сбора налогов в пользу городских общин.

