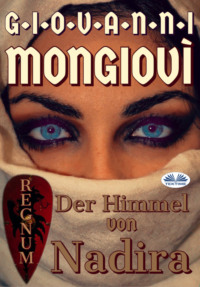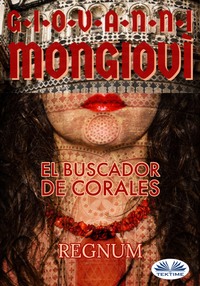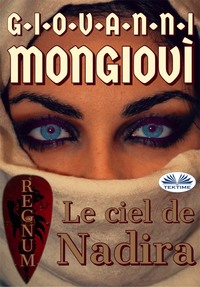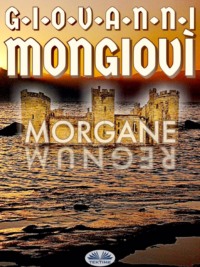Полная версия
Небосвод Надиры
Вопрос предварял то, чего все ожидали.
Четверо стратиотов, которые увели коня, теперь, будто брыкающуюся скотину, силой волокли из палатки командующего контингентом лангобардов Ардуина. Ухватили его за бороду, чтобы он подчинился волеизъявлению Маниака, и привязали к флагштоку, стоявшему на углу около главной палатки, на флагштоке развевалось знамя Константинополя с двуглавым орлом. Маниак выхватил из рук подбежавшего слуги плеть, сорвал в несчастного Ардуина одежды, обнажив спину и зад, и собственноручно принялся полосовать его. Ардуин гордо и упорно не издавал ни звука.
Командовать людьми – дело трудное во все времена, всегда есть опасность, что потрафишь одному, да останется недовольным другой, но Георгием Маниаком не был доволен никто, за исключением простонародья, считавшего его освободителем христианства, все же остальные его ненавидели.
То, что происходило на глазах у всей армии, было делом невероятным: унизили, как простого раба, командующего вспомогательных войск… командующего! Маниак полагался на основную часть войска, на регулярные полки, которыми он командовал непосредственно, поэтому предъявлять им требования и заставить уважать себя ему было легче. Ардуин же командовал контаратоями, воинами, вооруженными щитами и копьями, завербованными силой в Апулии; ясно что, за исключением какого-нибудь верного лангобарда-дворянина, никто за него не заступится.
К тому же, поссорились Маниак с Ардуином из-за пустяка.
Короче говоря, Ардуин отказался отдать того прекрасного чистокровного арабского скакуна своему генералу, своему стратигу, и из-за этого вышла ссора, в которой ни тот, ни другой не хотели уступать. На сотый отказ Ардуина, Маниак решил укротить его, преподнеся хорошенький урок за неповиновение.
Но грубая сила не всегда разрешает споры, более того, очень часто последствия рукоприкладства и злоупотребления властью оказываются гораздо более досадными, чем основания для их применения. Последствия, которые вызвало избиение Ардуина, не мог представить себе даже сам Маниак, который, по правде говоря, из-за своего отвратительного характера часто реагировал под влиянием сиюминутного порыва, не подумав, что из этого может выйти. Кроме того, тогда как солдаты считали победу в сражении огромным успехом и хотели погулять от души, Маниак считал обращение Абдуллы в бегство провалом. И все по вине флота, который допустил, что под прикрытием гор сарацинский эмир погрузился на корабли и уплыл в столицу Баларм. Командовал флотом и должен был поддержать войска Маниака Стефан Калафат, но его умение командовать не шло ни в какое сравнение с воинскими способностями генерала. Стефану доверили командовать флотом только потому, что он был зятем императора, а заслужил ли он звания, во внимание не принималось, именно из-за этого Гергий Маниак его терпеть не мог.
– Так будет со всяким, кто встанет поперек Георгия Маниака! – закончил генерал, выбросив вперед руку, в которой сжимал плеть, и еще раз оглядел толпу.
Люди начали расходиться, но было ясно, что от вида окровавленной спины Ардуина у всех пропало желание веселиться. Лангобарды отвязали своего военачальника и перенесли в палатку. Избиением дело не кончится, это знали все…
Рауль с друзьями хмуро вернулся в отведенную им часть лагеря; даже вино и женщины в тот вечер уже не так привлекали.
Ближе к закату, когда они остались одни, Рауль оперся на жердь, к которой он привязал своего коня, и произнес:
– Сегодняшнее избиение ни в какие ворота не лезет!
– А я говорю, что нам надо было вмешаться, – подключился Танкред.
– Мы подчиняемся Гвемару Салернскому, а не Ардуину, – ответил Рауль.
– Ардуин тоже подчиняется Гвемару. Нас один и тот же хозяин нанимал.
– Вот пусть его хозяин и вернет ему поруганную честь! Ведь Гвемар тоже вроде бы лангобард? – отозвался Жоффруа, согласившись с Раулем.
– Вопрос не в происхождении и не в родстве, а в том, что ни один дворянин, более того, если он из знатной семьи, не заслуживает такого обхождения. Мы что, не вмешались бы, если бы на месте Ардуина был Вильгельм де Готвиль?
– Вильгельм ему зубами сердце вырвал бы! – воскликнул Рауль.
– Но Вильгельм не торопится нарываться на ссору с этим македонцем, с этим проклятым бешеным псом! – послышался голос… но говорившего было не видно.
Трое солдат почтительно склонились, дав понять, что подошел человек важный.
– Вильгельм, мы говорили только потому, что болтовня входит в жалованье, – с некоторой иронией стал оправдываться Танкред, именно он не сомневался, что их контингент вмешался бы.
– Танкред Длинный Волос, как-нибудь при случае расскажете мне, отчего вас так прозвали, – ответил Вильгельм, он же Гильом де Готвиль.
– Длинным Волосом звали моего деда… а я всего лишь унаследовал прозвище.
Вильгельм взглянул на самого рослого воина, и взгляд его сразу же упал на стоявшего рядом Конрада.
– Рауль Железный Кулак, вам делает честь, что вы взяли на себя заботу о мальчике.
– Вильгельм, с моим братом Рабелем меня связывает нечто большее, чем кровные узы.
– Это говорит о том, что за вашим топором кроется доброе сердце…
Он помолчал и продолжил:
– Как бы то ни было, знайте, что я только что был в палатках варяжской гвардии… и наказание Гаральду тоже не понравилось.
– По-моему, оно никому не понравилось. Нельзя так унижать полководца! – отозвался Танкред.
– Я уверен, что будь я на месте Ардуина, вы не стали бы стоять в сторонке и смотреть.
– Так и есть, Вильгельм! – сказал Жоффруа.
– Но это стало бы самоубийством! Ардуин тоже это знал.
– По мнению Ардуина это будет самоубийством, даже если вмешаются завтра… или послезавтра… или через месяц, – согласился кто-то еще, он только что подошел.
А подошел младший брат Гильома Дрого, которого все звали Дро. Он стоял спиной к закатному солнцу, и в полутьме опускающейся ночи его тотчас узнали по нашитому на тунике гербу благородного нормандского семейства из нижнего течения Сены; с ним подошло еще человек пятьдесят, и разговор начал принимать вид надвигающегося мятежа.
– Ну да, ардуиновы контаратои не годятся даже поля удобрять, когда сдохнут, – ответил Гильом.
– Но так и знай, Гвемар смотреть не станет, когда новость дойдет до него в Салерно. Я уверен, что решение, которое он примет по поводу Ардуина, будет в силе и для нас. И тогда Маниак будет иметь дело не только с контаратоями Ардуина да с горсткой его верных людей, а подключится весь нормандский контингент… и один Бог знает, насколько мы страшны! – объяснил Дрого.
– А варяжская гвардия? Личная охрана императора Михаила на чью сторону встанет? – спросил Жоффруа.
– Гаральд Гардрад со своими людьми ненамного от нас отличается, они по тем же соображениям воевать пошли. Это я говорю не только потому, что мы из одних краев родом, из северных земель, говорю потому, что я слышал их разговоры. Бог меня накажет, если я ошибаюсь! Если Гаральд увидит, что ему недоплачивают, Маниаку придется иметь дело и с ними тоже, – ответил Гильом.
– Так что нам делать? – растерянно спросил Жоффруа.
– Пока ничего. Маниаку, наверное, уже донесли о нашем негаданном вече – у него во всей армии соглядатаи есть, – и он наверняка уже готовится к самому худшему, то есть к отказу воевать всех вспомогательных контингентов. Не будем торопиться, посмотрим, чем все обернется. Подождем, чем ответит Ардуин. А все-таки рисковать нам нельзя, нельзя, чтобы эта греческая лиса застала нас врасплох… так что, братва, доспехи не снимайте, мечи держите все время при себе и не ходите в одиночку. Не напивайтесь сегодня ночью, а к бурдюку пусть прикладывается тот, кого больше шатает трезвым, чем пьяным. Не ходите по бабам, да не снимайте штаны. Спите по очереди, и ждите моих указаний, – распорядился Гильом, но по тону голоса казалось, будто он дает дружеский совет.
Он помолчал и добавил:
– Долгой будет сегодня ночь, но пока к нам проявляют уважение с той стороны, условий найма мы не нарушим. В прошлом некоторые из нас уже воевали с ромеями… они знают, что я имею в виду, когда говорю, что ничего не надо считать само собой разумеющимся ни на войне, ни в мирное время. Так что, по палаткам, братва, но спите только одним глазом.
После его слов негаданное вече – как назвал его Гильом – начало расходиться. Ночь будет длинной, одной из ночей, которые несут совет, одной из бессонных ночей, когда воины начеку и готовы к чему угодно. Когда ни один солдат не расстается с боевым оружием, положил его около подушки, а в доспехах, как водится, спрятан кинжал.
Во всей этой смуте казалось, что Конрад тревожится больше всех, не потому, что у него оружия еще не было, и не потому, что не вышел летами, и в этом возрасте все видится огромным и страшным до жути, а скорее потому, что вдруг ему придется покидать лагерь впопыхах, и он не сможет сходить в последний раз на могилу отца и попрощаться.
Глава 13
Зима 1060 года (452 года хиджры), в стенах Каср-ЙанныС момента, когда Мухаммад ибн ат-Тумна напал на рабад и похитил Надиру прошел всего один день и одна ночь. Посыльные Али ибн аль-Хавваса спустились с горы посмотреть, отчего занялись пожары, которые они разглядели в ночной темноте, но никакого толку от их прихода не вышло; как вернулся ни с чем и десяток солдат каида, которых он затем отправил на поиски Надиры и похитивший ее людей.
Крестьяне похоронили двенадцать несчастных собратьев, которых зарубили головорезы каида Катании, в основном, мужчин, стоявших в тот день на дозоре, и в приступе всеобщей горячки во всем рабаде стали второпях собирать пожитки. К стенам Каср-Йанны потянулась длинная вереница мужчин, женщин и детей, они волокли за собой скот и телеги, у кого-то в телегу был впряжен мул, а кто-то впрягся сам, шли туда, где уповали на защиту, которой в рабаде не получили. Въехав в город, люди начинали искать местечко, где бы пристроиться: у кого-то в городе была родня, и они пошли к ним просить приютить; те, у кого родни не было, останавливались около жилищ и мастерили временный кров. В гуще беженцев пришел и Алфей, он тоже решил бросить мотыгу да укрыться в Каср-Йанне.
Коррадо еще не совсем оправиться, он был слаб, и его все еще мучили приступы лихорадки. Аполлония уговорила его отложить пока мысли отомстить, сейчас перво-наперво надо было сделать все необходимое, чтобы как-то обустроиться на новом месте. Алфей с сыновьями, как искусные бедуины, ставили палатки около полей, которые возделывались в Каср-Йанне, как раз напротив одного из знаменитых садов славного города. Сюда-то и нагрянул к Коррадо незваный гость.
Явился Умар, вид у него был спесивый и наглый, подошел к палатке христиан рабада, ввалился, не удосужившись спросить разрешения, да так, что угол палатки повалился.
– Коррадо, а ну выходи! – заорал он.
Коррадо разжигал огонь, семья стояла кругом и ждала, что вот наконец-то можно будет погреть заледеневшие руки.
Коррадо поднял голову, невозмутимо глянул на Умара и ответил:
– Погоди малость, огонь разожгу.
– Выходи… живо! – опять гаркнул Умар, приложив руку к голове, к тому месту, куда его ударили два дня назад.
– Обожди меня у сада.
Умар гневно вышел.
– И чего ему еще от нас надо? – забеспокоившись, спросила Катерина.
– Вот я о том и говорил, что из-за твоей выходки нам покоя больше не будет, – отозвался Алфей.
– Видно мало этому скоту, что Микеле ему жизнь спас! – рассудил Коррадо.
– Придержи-ка язык да слушайся хозяина! – прикрикнул Алфей.
Но Коррадо выхватил у матери нож, которым она чистила померанец, привезенный из низлежащих долин, сунул его за пояс и вышел из палатки, вырвавшись из рук Аполлонии, которая попыталась удержать его за рукав.
– Сидите тут! – прикрикнул он перед уходом на родных.
Умар стоял и ждал его под миндальным деревом, позади в десятке шагов у него за спиной стояли мать и жена.
– Не хватило тебе, что мой брат твою жизнь спас? Чего еще надо от меня?
– Микеле искупил твою прошлую вину, но поступок его не может искупить вину сегодняшнюю.
– А те два дня я провисел у столба и чуть не умер во искупление чего?
– Ты провисел лишь затем, чтобы такие неверные свиньи, как ты знали свое место!
Рука Коррадо сама потянулась к поясу, но как только он ощутил шершавость рукояти под пальцами, отвел руку.
– Ну так чего тебе.
– Прихвостни некоего Салима похитили мою сестру.
– Это давно все знают, Умар. Надо же… аккурат твою сестру, ведь ты ей так завидуешь, а тут взял да дал из-под самого носа умыкнуть… как раз у тебя, а ты-то хотел, чтобы народ у нее ничего, кроме глаз, не видел… Тебе что в голову взбрело, когда ты впустил в дом того лиходея? Думал вволю похвастаться Надирой перед чужаком и ничего не будет? Даже я спрятал бы свою сестру от сторонних глаз. А ты поводил заячьей тушкой перед волчьей пастью, а теперь сетуешь, что волчище ее схватил? Эх, Умар… Умар… вырос наш парень, а ума не набрался!
Умар выхватил висевший на поясе меч и замахнулся на Коррадо.
– Давай, давай Умар… руби! А потом иди спрашивай у лисиц, что рыскали той ночью по рабаду, что сказал мне твой Салим. Ведь я знаю, что ты за этим пришел сегодня ко мне.
Умар вложил меч в ножны и ответил:
– А раз знаешь, что же не пришел вчера ко мне да не сказал?
– Я подумал, что твой каид сказал тебе уже все, что хочешь знать. Или надо думать, что он тебя даже не принял?..
– Я говорил с каидом, он сделает все, чтобы вернуть Надиру домой. Заплатит выкуп, а потом переловит бандитов, которые осмелились нанести ему такое оскорбление!
– Так вот как он сказал? О выкупе говорил? – растерянно повторил Коррадо.
– Наши с каидом разговоры тебя не касаются. Выкладывай только, что тебе сказал этот проклятый Салим.
– Я тебе ничем не обязан… ты прекрасно знаешь.
– Ты мне жизнью обязан; раз ты все еще дышишь, так это только по моей милости.
– За мои слова тебе придется дать что-нибудь взамен.
Умар потерял терпение и опять схватился за меч, но в ту же секунду Коррадо сжал руку Умара на рукояти своей ладонью так, что вытащить меч Умар не мог. Тогда другой рукой Умар схватил Коррадо за горло и стал душить, но ослабил хватку, когда почувствовал, как в брюхо ему упирается лезвие ножа.
– Кишки бы тебе выпустить, Умар… но не хочу, чтобы на семью моего отца свалились все грехи.
При виде надвигающейся драки, Джаля бросилась к ним.
– Не надо, Умар, не то делаешь!
Коррадо снова засунул нож за пояс, а Умар отступил на пару шагов, понимая, что его едва не убили.
– Дай я сама поговорю с христианином, один на один, – попросила Джаля.
– Да ты спятила?
– Будь добр, Умар. Коррадо не откажется выслушать слова матери.
– У него нож!
Но Коррадо отозвался:
– И ты думаешь, что я твою мать могу зарезать? Меня, вроде, не Умаром зовут и не всякими идрисами, как твоих прихвостней, думаешь, я тоже женщин избиваю; вон у Аполлонии все еще синяки!
– Умар, отойди к жене, сделай милость.
Сборщик налогов каида нехотя отошел, оставив мать наедине с Коррадо.
– Коррадо, мне тоже жалко твою сестру… знаю, что тот подлец отхлестал ее. Но никакой вины Умара в этом нет… это не он приказал. А к тому же, ты сестрины синяки можешь еще увидеть… вот бы и мне одной горести, что избитую девчонку выхаживать!
– Мне жаль твою дочь.
– Люди стали судачить, что тех двенадцать в рабаде убили из-за надириных глаз, что такие странные, небывалые глаза той ночью принесли свои плоды; что шайтан58 связал с глазами Надиры вожделение, которое ведет в ад! Теперь на нас все смотрят косо.
– Ну и что тут страшного? На нас вон всю жизнь косо смотрят.
– Коррадо, не глумись! Я своими глазами видела той ночью, как чужак разговаривал с тобой, прежде чем скрыться.
Коррадо готов был выложить все начистоту убитой горем матери, но в то же время рассудил, что его семья всегда жила и живет в притеснении, и решил выпросить что-нибудь взамен.
– Вы где остановились?
– Каид разрешил нам устроиться в небольшом доме, он уже обставлен кроватями и прочим. А что?
– За то, что расскажу тебе, пусть мою семью устроят в таком же доме как ваш. Ночью похолодает, а у нас и ни дров не хватит, ни покрывал, чтобы не замерзнуть.
– Этого мы исполнить не можем. Нам в этих стенах ничего не принадлежит, как мы можем кого-то устроить в каком-то доме?
– Там, где поселил вас каид, наверняка, достаточно места.
– Закон пророка запрещает спать под одной крышей с зимми больше трех дней подряд.
– Тогда пусть будет на три дня… потом попросишь у своего будущего зятя каида найти вам другой дом.
– Может конюшня подойдет? – спросила Джаля, имея в виду, подойдет ли такое пристанище христианам.
– Если ваш закон ничего не говорит по поводу житья под одной крышей с мулами, тогда подойдет и конюшня.
У Джали от таких слов дух перехватило, она отметила, что наглости Коррадо нет границ.
– Хочешь унизить нас? А за что? Мало того, что ты мне сделал?
У Джали на глаза навернулись слезы.
При виде слез и при ее словах лицо Коррадо вдруг запылало от стыда. Он отвернулся, уставился на стоявшие неподалеку деревья, лишь бы не смотреть в глаза Джале.
– Я тебе ничего не сделал, – выдавил он, все также глядя вдаль, на детей, которые играли, силясь изловить убегавшую от них курицу.
– Я знаю, что ты был там… и ты тоже знаешь, что я тебя видела. Ты смотрел на меня, а я смотрела на тебя; тут ты не ври! Когда через год после этого я снова увидела тебя в рабаде, всей душой пожелала тебе смерти. Если бы я рассказала всем, что случилось, я уверена, что мое желание исполнилось бы; но что стало бы потом с Надирой, с ее спокойной жизнью? А тебе было столько же лет, сколько Умару, и мне было совестно перед Аллахом желать смерти десятилетнему мальчонке, еще постыднее, чем встречаться с тобой на улице. Я ненавидела тебя всей душой, Коррадо! И не могу перестать ненавидеть даже сегодня… ты – воплощение моего позора!
– Это глаза Надиры – воплощение позора, я уверен, что подозрение, откуда у нее такой странный цвет глаз, возникло у всех в рабаде.
– Но твои сородичи есть исток этого позора… а до подозрений мне никогда дела не было.
Коррадо набрался храбрости и взглянул ей в глаза, он увидел, что она дрожит и плачет.
– Джаля, госпожа моя, послушай! Твой позор… как будто это я носил его на себе все долгие годы. Наверное то, что я потерял своих сородичей, что заблудился здесь в горах, и есть расплата, которой меня покарали за то, что случилось с тобой.
– Расскажи, что говорил чужак, сынок, и не будем больше об этом вспоминать… Но не требуй от меня невыполнимых условий, иначе мне остается только броситься тебе в ноги, и думаю, что Умару это не понравится. Сделаю, что могу, чтобы помочь твоей семье, но не ставь это условием за слова, которые таишь.
– У меня перед глазами сейчас стоит то лучшее, что есть в Надире, чистой душой и ни в чем не виноватой. Ладно, расскажу тебе все, но ты должна верить мне, потому что то, что я сейчас скажу, может показаться нелепицей.
– Ты наверняка знаешь, кто украл мою дочь! – воскликнула она, невольно ухватив Коррадо за руку.
– Каид солгал вам: выкуп за Надиру никто просить не будет.
– Зачем тогда ее украли? Ведь знают, что она суженная Али ибн аль-Хавваса, вот и задумали подзаработать.
– Каид отлично знает кто и зачем ее украл… и знает, как ее освободить.
– Так зачем ему лгать нам?
– Потому что он никогда не выполнит требования похитителя; не может выполнить, потому что это значит предать свой собственный род.
Джаля всхлипнула и встряхнула Коррадо за руку:
– Ну же; что он тебе сказал?
– Тот, кто украл ее, кого вы упрямо зовете Салимом, есть не кто иной, как Мухаммад ибн ат-Тумна, каид Катании и Сиракуз, а отдаст он Надиру только, если Ибн аль-Хаввас вернет ему жену. Меня оставили в живых, чтобы я передал это каиду, но он и без меня все прекрасно знает, а знает потому, что тем вечером Ибн ат-Тумна спустился в рабад из Каср-Йанны, где шурин отказался уважить его требование отдать жену.
Джаля об этом противостоянии отлично знала, Маймуна сама рассказывала ей. При воспоминании, как решительно Маймуна отказывается вернуться к мужу, даже если никогда больше не увидит детей, у Джали вырвался крик отчаяния.
Разговор закончился, Коррадо рассказал все, что знал, он повернулся и зашагал к своей палатке. А на город опускался тот своеобразный туман, который часто обволакивает гору Каср-Йанна, скрывая слезы настоящего и гнетущие воспоминания прошлого.
Глава 14
Конец лета 1040 (431 год хиджры), земли центральной СицилииНевозможно удержать воедино стадо, если пастух нещадно колотит своих овец… будешь молотить по горшку, он развалится. И так, когда Гильом де Готвиль созывал своих людей, возглавлявших подразделения, чтобы решить, что делать, Георгий Маниак, перейдя все разумные границы, изливал приступы ярости на своих подчиненных. Военный талант Маниака был неоспорим, но характер оставлял желать лучшего. Истинно же то, что норова не утаишь, даже если добрая молва и слава скрывают действительность, завесив ее пеленой героизма и легенд. Маниака восхваляли сицилийские христиане, так как он виделся им освободителем, и солдатня, потому что боялась его, но на самом деле, как человеку, была ему грош цена. Так, сначала он настроил против себя лангобарда Ардуина, а потом и вовсе не по одежке протянул ножки, напав на Стефана Калафата и обвинив его аж в измене. Но против нерадивого адмирала, шурина императора, которому благоволила сама императрица Зоя – а империей по сути правила она – Маниак мало что мог сделать.
Ардуин принял мудрое решение, он мирно освободился от своих обязательств перед Маниаком, хотя и замыслил отплатить ему при случае; нормандцы и варяги, как и предполагалось, последовали за ним.
Стефан же, опираясь на влиятельные связи, уведомил двор и обвинил Маниака в намерении прибрать к рукам всю Сицилию. Стратига взяли под арест и увезли в Константинополь, но до этого Маниак выкрал мощи святой Агаты и отправил их в качестве добычи в великий град, которому служил, в надежде доказать, что обвинения Стефана ложны, и что никакие завоеванные богатства не могут заменить верности императору. Эту шутку жители Катании Константинополю никогда не простят.
Командование военными действиями на суше перешло в руки именно Стефана, это объясняет, почему поход против сицилийских мавров неуклонно покатился к провалу. Первым делом Стефан надумал разгромить в битве контингенты изменников, вспомогательные войска, так как самонадеянно решил, что победит в стычке, на которую не осмеливался даже Маниак… и в сражении его настигла смерть.
Разгромленная и сбитая с толку регулярная армия из ромейских провинций Южной Италии все еще находилась на Сицилии, и лангобарды с нормандцами решили нанести империи удар в Калабрии и в Апулии, застав нового противника врасплох.
Как раз в те дни, прежде чем окончательно уплыть за пролив, солдаты Гильома решили нахапать как можно больше добра каждый себе и поскакали грабить сицилийские деревни направо и налево. Разделились на банды человек по двадцать-тридцать, и отряды ринулись туда, где считали, что поживиться сокровищами будет относительно легко, не делая различий между приверженцами ислама и христианами, когда шкурка выделки стоила.
Танкред предложил напасть на незащищенные селения сарацин, стоявшие чуть к востоку от Каср-Йанны. Войско Абдуллы было разгромлено, и Рауль, Танкред, Жоффруа, маленький Конрад, а с ними еще человек тридцать, отправились в самую середку Сицилии, рассчитывали налететь внезапно, без труда нанести молниеносный удар и ускакать к востоку, они даже доспехов не надели.
Конрад никак не отставал от Рауля с просьбами научить его сражаться, и тот тренировал мальчика строго, как может упражнять только искусный нормандский воин. Но больше всего Рауль науськал сердце Конрада, воспламенив его лютой ненавистью к врагу. Теперь Конрад как никогда жаждал отомстить за отца и готов был убить любого, кто окажется перед ним. Все предыдущие недели каждый раз, когда им встречался сарацин, мальчик просил своего учителя отдать мавра ему, но Рауль все время повторял, что гнев надо проявлять только в битве, и что глупо не уметь поддерживать дисциплину во время перемирия.
Сейчас отряд залег на гребне землистого холма, бандиты выглядывали, рассматривая деревню. Наступил полдень, и солнце начинало бить в глаза. Деревня стояла у самого подножия горы Каср-Йанна. Сбоку от небольшой возвышенности, на которой стояла деревня, в долину стекала речушка, несколько норий поднимало воду, которая лилась в каналы на верхних полях. Деревню со всех сторон окружали десятки наделов, на которых крестьяне выращивали овощи. Еще дальше начинались поля, засаженные пшеницей, тысячи гектаров зерна уходили за горизонт. Теперь у банды нормандцев за спиной остались наделы, а перед ними простирались поля.