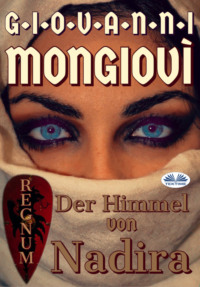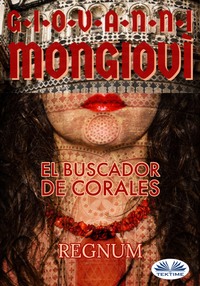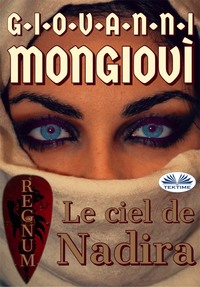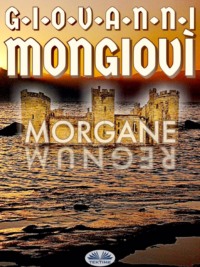Полная версия
Небосвод Надиры
Именно один из них – но еще не солдат – в пятом часу пополудни стоял и смотрел на море, взгляд его простирался за пределы лежащих на побережье развалин старого города. Ведь когда-то город был гораздо больше и занимал и приличную часть побережья напротив острова Ортигии, того, где находится центр знаменитых Сиракуз. Но вот уже двести лет после опустошительного набега сарацин город состоял только из островной части и небольшой полуостровной территории, которая уже пала под власть Маниака. К тому, что оставалось от Сиракуз, обращались защитники мыслями и оружием в попытке выдержать осаду, которая длилась уже несколько месяцев по ту сторону узкого и короткого канала, который разделял город.
Конраду шел десятый год, и войну он познал рано с тем, чтобы закалиться на пути, предуготованном ему на всю жизнь; ведь любой мужчина у нормандцев от природы не мог стать никем иным, кроме воина. Но Конрад был еще и мечтателем… Может оттого, что его отец считал, что не стоит торопиться с боевым крещением, Конрад умел мечтать без надобности считаться с жестокостью солдат во время сечи, которая затуманивает глаза и затмевает разум. А потому в зеленых глазах Конрада человек мог еще увидеть самого себя и разглядеть отблески надежды, то понятие дома и семьи, в коем наполовину Конраду было отказано из-за преждевременной смерти матери, женщины благородных кровей из франкского семейства.
Рабель де Ружвиль, когда пошел в Италию, взял сына с собой, тогда мальчику был всего год, взял и его няньку. В Салерно его заманила щедрая плата, которую выдавали младшим сыновьям из нормандских дворянских семей, и привлекли вести от соотечественников, попавших туда до него, Рабель решил присоединиться к своим товарищам по оружию и пойти на службу к тому, кто платил больше. А уж в войнах-то в тех краях недостатка не было… повсюду простирались поля, орошенные кровью из-за нескончаемых битв Константинополя с последними лангобардскими княжествами. Уже и не говоря о беспрестанных набегах арабских грабителей вдоль побережья Калабрии. И так, когда Георгий Маниак собирал войско для захвата Сицилии, Рабель со товарищи откликнулся на призыв. Мессина пала сразу, но последующие схватки оказались жестокими, опустошительными как для населения, так и для обоих воинств, нормандский контингент потерял очень много личного состава. За два года войны Маниаку удалось продвинуться только до стен Сиракуз, захватив всего лишь побережье Ионического моря. Большинство жителей иклима Демоны – северо-восточного кончика острова – исповедовало христианство и поддержало вторжение, но на остальной Сицилии во всем и вся царил ислам, и завоевать ее оказалось делом долгим и трудным.
Взгляд Конрада затерялся за пределами порта и города, мальчик раскинул руки, намереваясь объять необъятное, обхватить море до самого горизонта. Отец уже несколько минут стоял позади и смотрел на него, и когда подошел и взлохматил сыну медно-каштановые волосы, Конрад обернулся, вздрогнув, почти испугавшись, что отец пристыдит его за глупое объятие, коим он обнимал пустоту.
– Хочешь все море с собой забрать, сынок? – спросил Рабель; одет он был в простую белую тунику, но при оружии.
– Нет ничего на свете прекраснее моря!
– Боюсь, что для моря малы у тебя карманы…
– Но Богу море по карману!
– Может Земля она и есть … Божьи карманы… а мы внутри.
– Рауль говорит, что из всех народов Бог выбрал нас, потому что у нас кровь лучше всех других кровей.
Рабель улыбнулся и тоже вгляделся в море:
– Каждая нация и любой народ считает, что он лучше других. Возьми к примеру эти земли… магометане считают, что Бог благоволит им, константинопольский император считает себя Его наместником и также полагает папа… а пройди по иудейским кварталам местных городов да спроси на чьей стороне Бог… Конрад, сынок, постарайся сам стать человеком с красивой душой, неважно, какая течет в тебе кровь.
Я видел магометан, которые в битве вели себя порядочнее наших… я уверен, что Господь Бог уважает их во славе, независимо от того, кому они служат. С тех пор как мы высадились на этом острове, у меня на многое открылись глаза.
– А Рауль?
– Рауль – мой лучший друг, но сражаемся мы за разное понимание добра.
– Вы говорите, отец, что сражаетесь не за мзду?
– Я родился солдатом, и мой отец воспитал меня так, чтобы я стал солдатом. С тех пор как наш род покинул холодные йюлланнские31 равнины, мы ничего кроме меча в руках не держали. Это наше ремесло, а плата за битву – наш заработок. И все же, милый Конрад, вознаграждение может наполнить или карманы, или сердце, а вот куда его класть – решать тебе.
– Вы говорите, что и плату брать опасно?
– Все может быть опасно, если ведет к служению пороку и эгоизму. Власть, деньги и женщины… остерегайся всего этого!
– Но вы любили мою мать… – в растерянности и сомнении проговорил Конрад.
– Нет ничего плохого во власти, если твои подданые становятся тебе сыновьями; нет ничего плохого в деньгах, когда кормят рты твоей семьи и тех, кем командуешь; и ничего на этом свете нет плохого в теплоте женщины, которую любишь. Но я, сын мой, любил только одну женщину, и никакая другая не заступила на ее место. Ты очень похож на мать… свои глаза, свои волосы, свой оттенок кожи… и свое имя, Конрад, ты унаследовал от ее родичей… Уже через две недели после ее смерти мне представляли одну изящную девушку, но я не захотел, чтобы другая встала на ее место и чтобы тебе пришлось однажды называть «матерью» другую; я бы этого не перенес. Если уж нужна подставная мать, так есть нянька.
– Чего же мне тогда остерегаться?
– Вожделения, которое подталкивает к жестокости. Когда желание что-то заиметь превосходит достоинство и все пределы человеческой жалости.
– А женщины? – недоуменно спросил Конрад из присущего его возрасту любопытства, из интереса к таинственному существу, коим видится женщина и каковое до сих пор он познал только в облике няньки.
– Женщины… ничто не запрещает тебе любить их, но берегись глаз женщины, которая тебе не принадлежит!
– Рабель! – позвал чей-то голос среди развалин неподалеку от военного лагеря.
– Рауль, что, уже пора?
После этого вопроса объявился звавший. Рауль Железный Кулак был товарищем по оружию, с другом Рабель никогда не расставался. Они вместе отправились в Италию, и всегда оберегали один другого в битве. Рауль был великаном почти двух метров ростом с могучим голосом и не слишком утонченными манерами. На лице красовалась бородища гуще, чем у большинства нормандцев, волосы темнее, чем у большинства, справа по щеке свисала длинная косичка. Противоречили его темной коже, почти как у жителей Средиземноморья, голубые глаза, фигура северянина и невиданно высокий рост. С ним лучше было не связываться, это знали все, но в то же время он был отменным солдатом, одним из лучших, когда брал в руки боевой топор. И многие спрашивали, что общего у Рауля с благородным душой Рабелем, но, скорее всего, именно милосердный нрав Рабеля был клеем их дружбы. Рабель терпеливо относился к излишествам Рауля как потому, что они вместе выросли, так и потому, что Рауль умел прикрыть его в сражении.
– Нет еще; поговаривают, что завтра на рассвете. Но привезли вино, и все ждут брата Рабеля повеселиться.
«Брат Рабель» – так вся нормандская компания прозвала дворянина де Ружвиля с тех пор, как их дружина в триста человек переплыла пролив. Теперь привезли вино, и ждали, когда подойдут все.
Сколько бы более склонные к мирским радостям арабские странники ни восхваляли сицилийское вино, в домах водилось оно редко. И верно, поскольку приверженцы ислама запрещали выращивать виноград на землях, которыми они управляли, в этих краях можно было увидеть не много лоз. Но уже после прихода Маниака в 1038 году христиане снова стали садить виноград, чтобы возродить массовое виноделие, но гроздей пока наросло недостаточно, и, если появлялось желание выпить на счастье, вино в большом количестве приходилось привозить с материка.
– И возьми с собой Конрада; пора ему тоже погулять как настоящему мужчине!
Рабель взглянул на сына и помотал головой, давая понять, что не согласен с приглашением Рауля.
– А Вильгельм и Дрого?
– Братья Готвиль32 уже час, как на лавках в харчевне сидят.
Гильома де Готвиля, на языке нормандцев Вильгельма, прозвали Железная Рука, так как по слухам он всего одной рукой и копьем убил самого сильного сарацинского воина, который в первые дни осады Сиракуз порубил великое множество греков и северян. Но все понимали несмотря на то, что в войсках о нем уже заходила легенда, что побасенка эта маловероятна. И все же, среди солдат нормандского контингента под его командованием фамилия семейства приобретала от этого все больший лоск.
– Умнее было бы склониться в молитве и созерцании. Нам понадобится, прежде всего, помощь милосердного Бога. Абдулла все силы Сицилии собрал, да еще из Африки войска приплыли. Полагает, что сумеет снять осаду с города, и сделает все, чтобы отбросить нас туда, откуда мы пришли. Нам надо отбить контратаку прежде, чем подойдет эмир и раздавит нас об эти стены, но боюсь, что на этот раз, чтобы увлечь за собой всю армию, храбрости самых лихих бойцов не хватит.
– Вот пей бы ты побольше да молись поменьше, было бы у тебя больше оптимизма.
Рабель понял, что мало что может сделать, чтобы переубедить Рауля; он обернулся к сыну, лицо его посерьезнело так, что серьезнее некуда:
– Слышал? Завтра на заре выступаем. Знаешь, что надо делать.
И пошел вслед за Раулем к харчевне.
Конрад прекрасно знал, что от него требуется, именно этим он и занимался вот уже два года: надо сложить отцу вещи, привести в порядок доспехи, еще раз пройтись точилом по лезвию меча и подготовить хоругвь с семейным гербом – щит с датским топором и зеленым листком дуба над ним на красном фоне… хоругвь, которую будет нести именно Конрад всю дорогу до места сражения, восседая на коне рядом с отцом.
От всех этих разговоров про женщин и про вино у Конрада засвербело странное желание, которого раньше он не чувствовал – тайна запретного плода всегда провоцирует мальчишек, – поэтому, как только оба ратника ушли с развалин города, он тоже побежал к харчевне, которая на самом деле была навесом, который один крестьянин-христианин обустроил для солдат в надежде поживиться на надобностях служилого люда.
Как мы сказали, шел пятый час, и солнце еще сильно пекло голову Конрада. Он пробирался среди палаток, набитых солдатами изо всех краев, справа и слева бойцы сидели кучками и разговаривали, в каждой кучке на своем наречии… проходил мимо проповедников, которые стояли на земле или на скамеечках и во весь голос читали молитвы, после того как десятками лет молились втихомолку. Они благословляли каждого солдата, который проходил около их скамеечек, благословили и прошедшего мимо мальчика.
Конрад вошел в харчевню и лишь тогда столкнулся лицом к лицу со злым пороком, который властвует над взрослыми. С полными до краев чарками с вином, с игроками в кости за каждым столом и с горсткой проституток, из которых одни сами пошли торговать собой, а других заставили, потому как теперь девчонки-простолюдинки вынуждены были отдаваться завоевателям. Конрад убежал из боязни, что среди мужчин наткнется на отца.
Глава 6
Зима 1060 года (452 года хиджры), рабад Каср-ЙанныУмар раздраженно захлопнул дверь. Так он окончательно оборвал мольбы бедной девушки из христианской семьи, которая унизилась до того, что целовала ему ноги.
– Нет у меня времени на приставал. Если придет опять, гони ее! – приказал он служанке, которая до этого открыла девушке дверь.
Не обращать внимания на отчаянные рыдания Аполлонии по другую сторону двери было еще легче, чем на ее слова несколькими минутами раньше.
Надира стояла в темном углу в комнате у входа и смотрела на все, что происходило на пороге, но теперь, когда дверь закрыли, заглушив голос и отняв надежду у несчастной девушки за дверью, Надира подошла к брату и гневно произнесла:
– Тебе мало позора, которым ты уже себя покрыл?
Слова сестры задели Умара до глубины души, он и без того был зол из-за послеобеденных пререканий и из-за того, что мать встала на сторону дочери, Умар пригрозил:
– Смотри, Надира… смотри… смотри, как бы я не отправил тебя к твоему каиду на носилках!
– Уйду с радостью к «моему каиду», только бы тебя больше не видеть!
– Что ж ты не ушла с ним, когда он приходил просить твоей руки? Сдается мне, что он хотел забрать тебя во дворец на следующий же день, – ответил Умар, указывая пальцем в сторону Каср-Йанны, где стоял дворец Ибн аль-Хавваса.
– Потому что я попросила подождать, пока твоя жена разродится, чтобы увидеть твоего третьего сына.
– Как будто Гадде во время беременности нужна помощь взбалмошной девчонки…
– Ты от нашего отца и волоска не унаследовал… – отозвалась Надира, она придвинулась к нему еще ближе, ткнула ему пальцем в лицо и продолжила: – Неблагодарный… как ко мне, так и к тем бедным крестьянам, которые с рождения служат этому дому. Будь ты человеком благодарным, ты не хлопнул бы дверью перед бедняжкой, которая все еще плачет на улице.
В этот момент высоко вознесся зов муэдзина и эхом прокатился по всему рабаду; последний луч солнца исчез за хребтом Каср-Йанны.
– Она бедняжка, ты верно сказала, и бедняжкой останется… Объясни, зачем тебе надо принимать так близко к сердцу все это.
– Потому что, если бы у того столба стоял ты, я бросилась бы к ногам твоего мучителя и унизилась бы еще больше, чем эта христианка.
Надира сказала так и расплакалась, но не замолчала; от такого неожиданного признания в привязанности к нему, Умару, он растерялся.
– А еще спрашиваешь, почему я попросила каида подождать меня три месяца…
Умар нахмурился, и, чтобы предстать непоколебимым, собрался со всеми силами, какие у него были:
– Ты со своими слезами, Надира. Тебе меня не разжалобить!
– Я вот думаю, а жалко ли тебе, что впредь мы увидимся только, если Аллах приведет.
– Тогда надеюсь, что Аллах исполнит мою просьбу держать тебя от меня подальше.
Надира разрыдалась еще пуще, заколотила кулаками ему в грудь и закричала:
– Ты ничтожество, Умар… ничтожество… и, если когда-нибудь будешь чего-то стоить, так только благодаря мне!
Умар таких слов не стерпел, они как кинжал ранили его гордость, он не удержался и влепил сестре пощечину, после чего произнес:
– Пора идти на вечерний салят, слышишь? Иди совершать омовение, пока совсем ночь не наступила.
– А ты и душу себе омой!
И они спешно разошлись по своим комнатам в гневе и в обиде один на другую.
Когда Умар отмолился, он в раздумьях опустился на край кровати, его не отпускала мысль о пощечине, которую он дал сестре в приступе гнева.
– Что произошло недавно у двери? Я слышала, как ты ругался с кем-то во время азана33, – спросила Гадда, она подошла и села рядом с ним, придерживая огромный живот.
– Да на сестру меня зло берет! С тех пор как каид попросил ее руки, она то и дело меня критикует.
– А ты, Умар, то и дело провоцируешь ее… Я давно живу в этом доме и ни разу не видела, чтобы кого-то привязывали к столбу во дворе. А не оттого ли, что каид попросил руки Надиры, ты вовсю стараешься показать кто командует в доме и во всей деревне? Все говорят о твоей сестре гораздо больше, чем когда-либо говорили о тебе. Но в глубине души, любимый, вы с ней одинаковы… оба твердолобы, всегда готовы навязать свое мнение одна другому… да, ей кровь в голову ударила, а вот ты сбился с пути своего отца. Мне тоже недостает того Умара, которого я знала.
– Ты что же, хочешь сказать, что я завидую Надире? Боюсь, что меня не будут считать главным в этом доме?
– Не только в доме, а во всем рабаде.
– Я, да завидовать Надире; чушь какая! – воскликнул Умар, нервно рассмеявшись, чтобы скрыть, как ему неловко от такой правды, которую уловила Гадда, и в глубине души Умал знал, что жена права.
– Хозяин, дозорный на балконе хочет что-то сказать вам, – прервала разговор служанка из-за двери комнаты.
Умар поднялся и мысленно поблагодарил судьбу, что она освободила его от неприятной беседы.
Гадда ухватила его за руку и спросила:
– Я обидела тебя?
Он обернулся к ней, ласково взглянул и поцеловал в лоб.
Умар накинул на плечи и на голову широкий шарф из верблюжьей шерсти и вышел из дома. Он направился было к лестнице, которая вела на балкон, как увидел, что стражник приставленный к осужденному у столба, нещадно бьет девушку-христианку. Девушка сидела на корточках, пригнувшись к земле, платок съехал с головы, руками она старалась уберечь лицо и кричала, а стражник хлестал ее той же плетью, которой днем раньше избивал Коррадо. Коррадо же обмяк и обвис у столба без сознания.
Умар остановился, из головы у него все еще не выходили слова жены; он словно захотел показать, что никому не завидует, и приказал стражнику:
– Идрис, не бей ее, бедную девчонку!
– Но Умар, я ей три раза сказал, чтобы она не подходила к брату… А она воспользовалась тем, что я совершал вечерний салят, и опять подошла!
– Ну ладно… не бей ее! Отправь домой и все.
Тут Аполлония чуток приподняла голову, она все еще сидела, согнувшись на корточках:
– Позволь хоть во дворе остаться. Буду сидеть тихо там у стены, – взмолилась она в слезах.
– Делай как знаешь! – резко ответил Умар в раздражении, что она все еще тут, путается под ногами.
Едва Умар поднялся на балкон, дозорный тотчас указал ему на повороты дороги подходившей от Каср-Йанны в двух шагах от рабада.
– Трое всадников подъезжают.
– Так поздно? Должно быть странники сбились с пути. Да ведь они могли заночевать и в Каср-Йанне… Зачем бы им выезжать затемно да в такую стужу?
Умар на секунду вспомнил о пленнике, но потом снова вгляделся в приближавшихся незнакомцев.
– Умар, судя по драпировкам, если я хорошо разглядел, по крайней мере, один из них – какой-то важный тип.
– Правильно сделал, что предупредил меня, Мизиян. Если он знатный вельможа, то надо принять его как подобает.
Умар сошел во двор, взглянул на Коррадо и сказал стражнику:
– Идрис, после ночного азана повремени пару часов, а потом отвяжи его.
Стражник согласно кивнул головой.
После недавних замечаний о погоде Умар готов был освободить Коррадо сразу же, но счел, что, если покажет тем приезжим, насколько сильна здесь его власть, они зауважают его больше.
Так, сборщик налогов каида остался ждать всадников у двери и увидел, как они подъезжают, когда на западе затухали последние отсветы заката.
Как верно подметил дозорный на балконе, один из троих был одет в изысканное платье; бесспорно, дворянин. Умар сразу понял, что всадники не из берберов, а, скорее, арабы. Впрочем, кроме внешнего вида мало что или почти ничего не отличало выходца из берберов от коренного араба, если не считать, что наряду с арабским языком в семьях говорили на берберском наречии, и если не считать остатков древней культуры, чуждой исламу, который привнесли именно арабы.
На приезжем, который с виду казался дворянином, был кафтан с белым капюшоном из камки; такого кафтана Умар никогда не видел. Все трое спешились, и один из прибывших, но не тот, на которого до этого смотрел Умар, сказал:
– Мы ищем дом Умара ибн-Фуада.
– Я Умар. Чем могу помочь?
– Знаете ли вы, Умар, кто перед вами? – спросил опять тот же, указав на человека, которого они сопровождали.
– Скажете, когда усядемся в тепле у очага.
Потом приказал стражнику во дворе:
– Идрис, уведи лошадей в конюшню!
Умар пригласил путников в дом. Он совершенно не знал, кто к нему пожаловал, но не хотел, чтобы они подумали, что его гостеприимство зависит от личности гостя. Но все же понимал, что приехал человек из очень знатного рода, и принял его со всеми почестями еще до того, как тот представится.
В той же комнате с коврами и подушками и с разожженным теперь очагом посредине Умар принял гостей как можно радушнее. Он счел, что троице можно доверять, раз вместе с накидками и сумами они вручили слугам и мечи, не ожидая, что кто-то намекнет отдать и оружие.
Теперь при свете очага и свечей Умар мог разглядеть их получше. Приезжему, который с виду возглавлял троицу, было лет сорок, ухоженная внешность, заостренный подбородок и тонкий нос; кроме того, он вел себя как человек, который знает, что в этом мире он кое-что значит. Говорил он медленно, часто с ученым видом прикрывал глаза. Другие двое одеты были одинаково в длинные черные туники и белые шаровары, но у одного из них на грудь свисал тяжелый золотой медальон.
Все расселись кругом, прежде чем заговорить, они долго сидели молча, шли минуты. Затем Умар решил прервать молчание из желания понять, может ли из этой встречи выйти какое-нибудь доходное дело:
– Вижу ты богат! Чем занимаешься, торгуешь жемчугом?
Собеседник улыбнулся и ответил:
– В этом году мои скупщики значительно увеличили мне доходы именно от торговли жемчугом.
– Я подумал бы, что ты каид, да только каид ездит с охраной и свитой.
– Салим, брат… меня зовут Салим.
– Так что, Салим… по какому делу приехал ко мне?
На самом деле Умару хотелось спросить, почему они не заночевали в Каср-Йанне, а выехали на закате и остановились через горстку миль. Но он побоялся, что такой вопрос истолкуют неправильно, как будто он спрашивает, отчего им дома не сидится.
– Тот человек, которого ты привязал к столбу… его можно купить? Потому что мне показалось, что он очень сильный.
– Так значит ты торгуешь рабами?
– Я из тех, кто ищет драгоценные жемчужины средь человеческого рода, брат.
У Умара сразу же мелькнула мысль продать Коррадо работорговцу. Но потом он подумал, что христиане – не рабы, хоть и служат его дому, и он не может распоряжаться их жизнями. Поэтому ответил:
– Боюсь, что в рабаде нет ни одной из таких жемчужин. Здесь каждый гнет спину на своей земле и молится в стенах своего дома… за исключением четырех служанок, который прислуживают тут в доме.
– А все-таки я знаю, что ты прячешь под этой крышей жемчужину редкой красоты и что речь идет не об одной из твоих четырех служанок.
Умар посерьезнел, он понял, что собеседник имеет в виду Надиру, и ответил:
– Жемчужина, о которой ты говоришь, не продается и никогда не продавалась.
– А все же я знаю, брат, что каид Каср-Йанны поспешил купить ее.
– Тогда знаешь и что за человек ее оберегает…
– Я никого не боюсь… и меньше всего каида, это потому, что зла я никому не желаю… да и власти у меня на то нет. И все же прослышал я про два искрящихся сапфира, вставленных в изумительную оправу; про одну девушку райского обличья, про такую мечту, что сердце рвется из груди. Каид может заполучить все что угодно… и получает всегда самое лучшее. Но я всего лишь торговец жемчугом – я тебе говорил – и знаю, что за такие жемчужины другие каиды заплатили бы целое состояние. Слава про Надиру – если это ее настоящее имя – разнеслась по всей центральной Сицилии, но я у тебя ничего не прошу… прошу лишь взглянуть на нее. Теперь, когда Ибн-Хаввас сделал себе такой драгоценный подарок, бесспорно, и другие захотят последовать его примеру, и будет моей заслугой, если я отыщу такие же редкие жемчужины среди девушек на острове и за морем.
– Так чего же именно ты хочешь?
– Только взглянуть на синеву, о которой так много говорят.
Он прикрыл глаза и, с едкой усмешкой, процитировал:
– «Мне б вновь взглянуть, Надира, в твои безбрежно синие глаза».
Умар нервно сжал руки. Просьба выглядела подозрительно, хотя, в конечном счете, удовлетворить ее труда не составляло, никакого нарушения целомудрия или морали в ней не было. Хозяин дома сидел и думал, борясь между завистью к сестре и боязнью не уважить человека гораздо более важного, чем он сам. Проситель же со своей стороны отлично понял с самого начала – или ему сказали – какая у Умара слабость. Другому этот приезжий с несомненным умением искусно торговаться предложил бы деньги, но Умар к богатству относился не так, как относится скряга; настоящим ключиком, который делал его уязвимым, была гордыня.
– Умар, брат мой, теперь ты станешь шурином каида, и ты, конечно же, подумал, как показать свое родство и сделать так, чтобы тебя уважали, раз ты шурин…
Умар растерянно взглянул на него, в глубине души он думал об этом с тех пор, как Али ибн-Хаввас приезжал в рабад.
– Вот мой кафтан, ты когда-нибудь видел такой? – спросил Салим, он заметил, как Умар восхищенно смотрел на него.
– Думаю, что привезли его издалека.
Собеседник рассмеялся, расхохотались и его спутники.
– Это многое говорит о тебе, брат. Ты когда-нибудь выезжал из рабада?
– Часто езжу на базар в Каср-Йанну. Туда много народу приезжает: много верующих, но есть и христиане, которые работают на землях внутри городских стен, и даже иудейские кустари, которые приезжают из Калът-ан-Нисы34. Там все можно увидеть: от серы из рудников до соли из залежей, от сахара из сахарного тростника до риса с рисовых полей. А городские сады и фонтаны… туда стоит съездить.