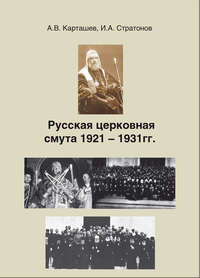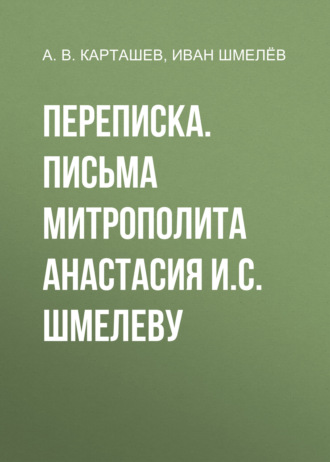
Полная версия
Переписка. Письма митрополита Анастасия И.С. Шмелеву
Когда сидишь на заре на «камне созерцания» – ангелы тихо летают в парке и трясут кедровые шишки.
6/19. IX. 1923.
Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes)8.Дорогой Иван Сергеевич!
Прошли красные деньки. Был дождь, я умудрился на три дня схватить большущий насморк. Пока прекратил купанье, произошел перелом: подули ветры и настала неотвратимая осень. Нельзя думать ни о купаньи, ни о жженьи. Я, как прогулявший школьник, с испугом сообразил, сколько надо написать и сделать, и со страху написал до 100 писем. Но конца им, а особенно ненаписанным статьям, не видно. Не собрались ни в одну экскурсию: не видели ни Ниццы, ни Монако, ни Ментоны9. Хочется в последние дни напречься и хоть раз выехать к востоку. А тут на дороге еще взваленное на меня благочинническое собрание в Ницце: мизерно на душе от него, от соприкосновения со сгнившими и испепелившимися людьми.
Тут перехожу к ноющей днем и ночью в сердце трагедии: воскреснет ли, и в ком, в каких людях Россия? Старые – импо-тентны, и безвольны, и шкурны, и без живого огня в душе, и безнадежно невежественны в законах социальных и политических процессов. Нельзя совать даже носа в восстановление России, будучи невежественнее, не говорю шута горохового – Чернова10, а даже плюгавенького жиденка из Агитпросвета11. Но так как никто из левых и кадетствующих (теоретически единственно кое-что смыслящих в современности) не умеет и не хочет бороться с большевиками, то правые идиоты и дикари, в молодой своей массе, остаются все-таки единственным резервом для стихийной, вооруженной чистки русской земли от бесовщины коммунизма. Тут их роль кончается, и надо искать каких-то других, способных к созиданию сил, и более умных, и более нравственных. Где? Левые и либеральные элементы в какой-то мере и в каком-то употреблении пригодятся в дело, но творцами падшей нации и конченого государства быть не могут. Они оскопили себя отречением от национальной физиологии, ослепли от рационализма в жизни и в политике. Государство – не есть юрисконсультом просмотренное и конституированное общество на паях. Не адвокатского ума оно дело, а союз семьи и крови. Не иссяк колодец кровной любви – есть племя, есть нация, есть государство. Адвокатские права и формы – дело наживное. Нет союза крови – нé к чему приставить ни конституции, ни федерации, ни прав меньшинств и проч. И голос крови уже вызывает к жизни к небу восходящую цепь духовных восторгов, проясняющихся народу в виде сладчайших и священнейших видений национального града, мелькнувшего в прошлом, сокрытого где-то и грядущего обязательно, неизбежно, насущно, наверно, ибо жить без этого народу бессмысленно. И этот идеал у народа единый, неотменяемый, непоправимый, если хотите, фатальный, как неотменяема его история, как единственна индивидуальная жизнь человека с неповторимой сердцевиной ее души и тоном ее любви. Провиденциальной православной купели св. Владимира, крестьянской = христианской, святой Руси, Третьего Рима, Китежа Града, «Русского (всеславянского) моря», русской всечеловечности во Христе не подменит никакой адвокат, никакой масон, никакой передовой объевропеившийся инородец никакими революциями, никаким «просветительством» народа. Ибо пустые, бескровные, чернильные души сильны только разрушить, напортить в детской душе масс, но вывести их из полученного таким путем состояния Каина и Хама они не в силах. Может быть, они еще сумеют довести их, по своему прообразу, до уровня Хама шлифованного, цивилизованного, но и только. Дальше живой человек и живая нация кончаются. И вот вопрос: окончательно ли развращен наш народ, окончательно ли он революционерами «американизирован» духовно и, значит, России больше не будет, а так, останется на время какая-то федеративная стерва на съедение ловким, зоологически сохранившимся нациям? Или весь этот революционный разврат есть в глубине ложь, наваждение, гниль на поверхности, а не в сердцевине, и лжи будет конец, и скорый конец: попрет на выздоровление, и попрет здорово, все ускоряясь до нового стихийного вихря? Разве в гнусной, как все, исходящее от Горького, брошюрке его о русском крестьянстве нет уже подземных толчков грозящего взрыва изнасилованной интеллигентами народной души12? Разве в вере Достоевского, потрясающего нас провидчеством, не предуказана неизбежность этого вихревого восстановления благой народной стихии? Разве в начавшемся сейчас в России народном движении около эпидемически «обновляющихся» икон и куполов не пробиваются первые струйки грядущего извержения русского вулкана? Да, близ есть, при дверех…
Как мелки, лукавы и смехотворно близоруки выкладки всех наших умничающих приспособленцев к революции! Как глупо и поздно, накануне воскресения из гроба нашей родной, русской России, т.е. души народной, торопиться сговариваться с ее убийцами и заключать с ними договор на изменническое сожительство с Россией подложной13! Нет прямой эволюционной линии от этой чекистской России к России завтрашнего дня. Нить преемства идет под спудом и выйдет наружу в буре землетрясения, и новая Россия явится с прежней душой, не со старой, но с «обновленной», как «обновляются» ее предтечи – культовые святыни. И не грешная эмиграция в своей анемической жизни родит эту Божию грозу очищения, и не тамошние в невольном блуде сотрудничества с Хамом пребывающие и ханжащие, наподобие Пешехонова, интеллигенты, а спасшийся от смерти второй, духовной, своей не-цивилизованностью и своим утробным житием, простой русский люд. «Где премудрый, где книжник, где совопросник века сего? Не избрал ли Бог немудрых, да премудрых посрамить, и немощных и уничиженных мира, да посрамить крепких?»… (1 Послание к коринфянам). Наша история уперлась в чудо. Рациональных выходов нет. Вы посмотрите, как Айхенвальд в недавнем фельетоне «Пережить Россию», начав так сильно, кончил таким бесславным писком14. А потому, что не предполагает выхода чрезвычайного. Без чуда Россия умерла навеки. И самая внезапная смерть ее, вся эта оглушающая контузия сатанинской похабщины – разве же это обыкновенно, разве это не явное, каждый день гнетущее нас чудо антихристово? Почему же это мы с чудом антихристовым миримся, ему верим (верим, что Бронштейн15 пирует в Кремле над выкопанными мощами святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа…), а Божию чуду, которое ведь гораздо же естественнее, разумнее, здравее, трезвее (чтобы кремлевские соборы сияли, чтобы к преподобному Сергию шли мирные паломники, чтобы Красная площадь была очищена от закопанной в нее красной нечисти…), простому, нормальному, естественному, как ясное утро после кошмарной ночи, Божию чуду не верим? Нет, пора опомниться, перекреститься и прогнать дурман наваждения. Да еще один подвиг: перестать соединять в воображении восстановление России с горделивой мыслью о «моем», каждом из нас, деятельном участии в этом. Экая, подумаешь, важность, через меня или без меня воскреснет Россия! Если бы не было этой гордыни, то не было бы и особенно беспокойных интеллигентских гаданий: что я должен идти туда жить с народом, или я должен творить для народа здесь? Надо не обманываться. Наши вопросы маленькие, лично биографические, мы муха на рогах быка. Воскресающий народ (его совесть) еще простит тем интеллигентам, кто там в порабощении блудодействует, но уже никак не пощадит псов, возвращающихся на свою блевотину. И, конечно, тосковавших и хиревших здесь примет на празднике своего воскресения с миром, как гостей подходящих, сохранивших в чистоте брачную одежду.
Мои выводы: 1) В воскресение России надо верить так же просто, как мы верим в смысл своей жизни. Разделять этого нельзя, бессмысленно. Разуверившись в России, пора кончать и с собой, если только не уходишь вообще из истории в подлинную Фиваиду16.
2) Чудо гибели России (как и чудо Голгофы) есть уже залог и неизбежного чуда ее Воскресения.
3) Оно близко, будет на наших глазах.
4) Скитание наше может быть уныло и бесславно для нашего честолюбия, но через его подвиг, пронесенный непреткновенно, мы вкусим радость светлого праздника.
Вот часть того национального катехизиса, о котором мы с Вами начали говорить.
Привет Вам и Ольге Александровне от нас обоих. Сердечно Ваш А. Карташев
PS: Прилагаю еще брошюру Антония17. Как всегда, у него есть что-нибудь умное.
18 сент./1 окт. 1923 г.
ГрассДорогой Антон Владимирович,
Ваше дорогое для меня письмо – голос души Вашей, такой мне близкой, – меня потрясло и обрадовало – не сказать как! Я читал и перечитывал его, и мне казалось, что слова Ваши, облечение плотью живой и страдающей души Вашей, – мое это, носимое, тяжкое и… светлое – вдалеке, что должно разгореться в Великий Огонь вновь и вновь рождающейся жизни России-Родины. О, какой же Вы чудесный Огнь! О, как Вы можете опалять и жечь! Антон Владимирович, дорогой! Вы – от народа. Я – от народа, тоже. Одного теста с ним, одной персти, одного солнца, одной мякины и одного и того же духа, навыков предков, связанные общей пуповиной с недрами всей жизни русской, с духовными и плотскими, мы – лик народа, мы – его выражение! Мы, лишь благодаря окультуриванию, обдумыванию, образованию, – лишь более яркое лицо его. Развитое, дополненное, построенное более сложно и тонко. Но основа, закваска, и самый матерьял – в нас общий с народом. Мы – та тростинка на могилке, которая вдруг запела. Сказочная тростинка. Выросла из могилки! Ведь это голос братца – и я всем сердцем верую, что Ваш голос – это голос зарезанного братца родной сказки! Так бы вот сказал-крикнул весь истинный народ русский! Если бы умел сказать, если бы все, все думы и чувства матери его, родины, были бы ему ведомы. Вот почему Ваше письмо, задушевное, что горит в душе Вашей, меня и потрясло, и обрадовало. Да, мы знали бы, как надо теперь делать, если бы была у нас Россия! И я нашел бы в себе подспудные силы! Я надел бы стихарь, я пошел бы на амвоны и площадя, и я нашел бы огненное слово! Ибо я знаю, чую народ и его глубокое! Я уж и пробовал! Да, в страшные дни своей поездки в Сибирь, когда в Глазове захватил пятитысячную толпу своею слезою-словом! Но то на миг было. За моими словами пришли потом, назавтра другие слова и дела… Надо найти, получить Россию! Я верю в ее Воскресение, но надо его дождаться, его ускорить.
Я надеюсь в ближайшие дни быть в Париже, совсем. Мы 4-го октября возвращаемся. Поэтому я и не отвечаю Вам полно на письмо. Во мне нет силы сейчас: только что я закончил «Солнце мертвых», и теперь разбит, изнурен. Весь – в бездумье и слабости. Во-семь листов я написал за эти месяцы Грасса, помимо прочего! И мучительнейших листов. Я как тряпка теперь, и не найду слов-мыслей. А Ваше письмо настолько важно, что я бы совершил святотатство, если бы теперь, наскоро, взялся отвечать на него. Но я все же пишу Вам, не в силах умолчать.
Позвольте обнять Вас братски! Сказать Вам: о, не покладайте рук! Лучше в борьбе истаять, чем в словоплюйстве общем, эмигрантском, исскучать, изжиться, вылинять! Одно бы хотел сказать сейчас. Молодежь не только орудие для чистки и завоевания: её необходимо привить! Она же несет в себе будущих делателей духа и лика России. Она может в одной руке держать меч, в другой Символ Веры!
Оля посылает Вам и Павле Полиевктовне свой задушевный привет. Мой низкий поклон Вашей жене. Да будет (оно и есть!) она всегда Вашей крепкой поддержкой! Это чудное сочетание. Огонь и вихрь! Да! Крепко Ваш. Обнимаю. Ваш Ив. Шмелев.
10 мая 1924 г.
Villa Chalet Bernard Hossegor-Soorts (Landes)Вы и представить себе не сможете, до чего здесь необычайно! Дорогой Антон Владимирович! Дорогая Павла Полуэктов-на! Ну, Океан – и в Калужской губернии18. Сосновые леса, смола горючая льет с лесов, а этих лесов на песках – сотни Klm. И тишина-а-а-а-а… А Оке-а-а-а-а-а-а-а-а-а-н – и Солнце тонет в нем. Дважды в день он посещает нас. Идет-струится по пескам, заполоняет озеро песку – и озеро – в лесах, под солнцем, наше, родное, калужское, а в озере – не головастики, а крабы, не улитки, а устрицы и мули, и чорт там знает что. Нам свалили – именно свалили – гору сосновых швырковых дров19. Свалили – нас не было – уехали. Кто? Океан? Звенят в лесах пилы. Опилки, блеск сосновых досок, кукушки, петухи в лесах поют, – Калуга! И вдруг – bonjour, Monsieur*! Трубит рожок, – это зеленщица, boucher, boulanger**… На авто, на ослике, на велосипеде. Почта… В 3 метрах вокзальчик – полустанок наш, где за всех одна madame. Здесь чудеса. Мы пропахли сосной, солью. Океан, когда его увидел, – до него через лес минут 20 (но он приходил к нашим ногам, в лагуну) – сказал мне: ты здесь останешься! Может быть, я послушаюсь. Он кудрями играет на песках седыми… Пески – на кулебяки бери, не сей. Крабы – я их сотню могу палкой вынуть. Когда прилив – они плывут, несет их – бери. Устрицы и мули возят ящиками на осликах. Бабы, в штанах, их собирают, по колено в море. У нас chalet* – 4 комнаты за 350 fr. за 2 месяца – май-июнь. За июль столько же, – 350. На август и сентябрь сдано. Но мы будем искать. Господи, здесь людей не видно! Никто не позвонится, не оторвет, не плюнет в душу. Я задергался в Paris. А сколько солнца! Здесь – очарование. Сами хозяйствуем, пилю дровишки, ходили вчера вдоль прилива, в лесах – 4 версты – и все леса, и нет конца им. Чудеса.
Пишите! Почта каждый день. Привозит facteur** на велосипеде – он же и Chef бюро. Вокзальчик в 3 метрах, в лесах. Спится. Встаю в 6 часов утра, ложусь в 10. Океан приходит и уходит. Ваши Ольга и Ив. Шмелевы.
28 мая 1924 г.
Soorts-Hossegor (Landes)Дорогой Антон Владимирович, Большое спасибо за присылки, – читаю. Получаю исправно: «Руль», «Дни», «Русскую газету», «Последние новости», «Сегодня»20. Вот «Звено»21 шлют уже с год на Grasse, иногда пересылают. Читал и «стих». Послал в «Русскую газету» статью «Глаза открываются»22. Иногда зудит – черкнуть. Но весь отдался своей работе, и написал 3 рассказа – в ударе. «Два Ивана» – послал «Рулю», пойдет, должно быть, с воскресенья, в 2-3 №№ – большой23. «Два Ивана», как увидите – учитель и… дрогаль – интеллигенция и народ. Ну, а там пусть лают. Я вижу, как иные меня теперь принимают. Но глаза и душу ломать, и тем более в творчестве – не могу. 2-й рассказ еще не переписал, но написал – «Старуха»24. Он заменит 1000 статей о голоде, народе и проч.25 Он меня смутил. Но я его взял смаху. И 3-й «Сила»26. Должно быть, придется смягчить, а то… лезет он, понимаете. Силач-борец Куды-Прё «сдал» перед им, махоньким и вострым, каким-то пом-зам-комдарма! Рассказ веселый. Дело происходит перед смертью, в товарном вагоне. Итак, как видите, я работаю. Работаю над «Солдатом» – моей данью былому офицерству-рыцарству27. Здесь «выжимка». Отрывок из него дал «Инвалиду»28 – газете-однодневке. Когда же она выходит?
За Национальный комитет радуюсь. Позиция «Русской газеты» ставит меня в тупик. Собственно, куда идут, чего хотят? Что-то неопределенно-неопределимое. Я даю, ибо иногда нужно высморкаться, душу отчистить. А мне прямой убыток: судите сами: «Руль» мне за рассказы платит 1 fr. за строчку. А «Русской газете» даю за 150 fr. статью. А время то же. Рассказы я смогу бойчей. «Старуху» – 950 строк написал в 2 дня – и лётом. И думаю – ничего себе. Крепко обнимаю Вас, дорогой, душевный человек. А хорошо работать – с кукушками. Мы бродим, езжу на вело – дали знакомые новые. Меня немного знают французы здесь – по Mercure за Le Soleil des Morts29. В Англии скоро пойдет30. Привет и низкий поклон Павле Полиевктовне. И от Оли – Вам и Павле Полиевктовне. Не забывайте. Если бы Вас сюда! Ваш сердцем Ив. Шмелев.
[На полях:] Тут – Ка-луга! Таруса!
7 июля 1924 г.
Soorts-Hossegor (Landes)Дорогой Антон Владимирович,
Не посетуйте, что побеспокою Вас маленькой просьбишкой: черкните два слова открыткой – адрес и имя-отчество (или – как обращаться?) протоиерея Мальцова или… – я забыл – у кого имеется книга (сколько томов?) – «Наука о человеке» – Виктора Ивановича Несмелова31. Попробую обратиться к нему с просьбой о разрешении прочесть. Все расходы оплачу. Благодарю за №№ «Руля». Слышал от племянницы, как Вы измотаны. На воздух! Себя пощадите. Ах, если бы повидаться, поговорить на досуге. Куда Вы? Здесь все на сезон занято. Буду рад получить от Вас строчку. Хотя, если бы надумали в Capbreton, я поискал бы. Для Михаила Владимировича Бернацкого ничего не могу найти. Наш дружеский привет Павле Полиевктовне и Вам. Душевно Ваш Ив. Шмелев.
[Июль–август 1924] [Открытка с видом Оссегора]
Все сосны, кругом – сосны. Мы живем рядом, вправо. Прилив. Вдали – Черный мост, по нем ходим к океану через лес – 15 минут. Привезен Ивун, и я его вожу на велосипеде. Здесь бы Вам отдохнуть! Привет, Ив. Шмелев.
5 сент. 1924 г.
Villa «A lʹalouette». Capbreton s/mer (Landes)Дорогой Антон Владимирович, Газету получил, спасибо. Отчасти замечание правильное – размаху в литературе нет. Ваше слово сбылось: Mr. Savinkov – прохвост и, кто знает, не давно ли уже32? Не удивляюсь: духовная sarcoma ширится. Будьте добры, дайте мне адрес «Русской мысли», П. Б. Струве33. Негде печатать. На меня ополчились les juifs* и проч. Есть что порассказать. Жить трудно. Спасибо еще – чуть переводы поддерживают. Но я крепок духом и пойду своей дорогой. Написано много, но… где печатать?! В посмертное! И еще адрес – священника, у кого книга «Природа человека», казанского профессора34. Привет Павле Полиевктовне. Хотел бы здесь остаться на зиму. Трудно. Ваш Ив. Шмелев.
[На полях:] Наш привет Вам и Павле Полиевктовне!!
12 сент. 24 г.
Villa «A lʹalouette». Capbreton s/mer (Landes)Дорогой Антон Владимирович,
Премного благодарен за письмецо, за адрес о. Сергия, – сегодня ему пишу, – и за предложение вступить в члены Русского Национального комитета35. Это предложение Ваше почитаю для себя честью и прошу принять от меня сердечную признательность за доверие ко мне. Что и как смогу делать – буду, и делаю, как велит совесть, как умею.
Океан гнусности творит жизнь! О, Россия в самой прорве, но и всюду, всюду, как вдумаешься. А теперь вон «Китай подымается»! Помните, как народ-то про Китай думает? Уж как Китаю придет время «итить»-подыматься, ну… конец света подходит. Вот оно, провидчество-то! А я бы доволен был, если бы «китайнуло» на весь хамско-помойный свет: пришлось бы «друзьям человечества» либо испить, либо разрешить «проблему». От чортовой головни огнь-то как перекинуло! Все же сие – начало. Многое впереди. Но с чего-то во мне живет и крепнет надежда, что скоро освобождение?! Но как вдумаешься в «баланс» русской жизни, что натворено и что изъято, и как опоганено и растлено, – мы же в неисходности, в такой нищете, перед такими последствиями, что голова никнет. Об этом буду писать на днях, начав с «мышей» проф. Павлова.
Как бы хотелось перетащить Вас сюда, с Павлой Полиевктовной! Знаю, что Вы бы были здесь – как в лесах-песках русского старого Поволжья, – можно притвориться, можно! – Если бы Вы решили хоть на десяток дней приехать! Можно найти в отеле комнаты, – теперь сезон проходит! Мы бы сходили с Вами на Океан – десять минут, покатили бы в Биарриц – 6 фр. алле-ретур, съездили бы в Ангай36, на границе с Испанией! Скажите, и я тотчас побегу в отели, – лучше в Оссегор, где я жил до августа. Не хочется в Париж. Постараюсь пожить и октябрь (пописать), пока можно. Сегодня погода окрепла: солнце как заслон, раздулось и брызжет такою силой…!
Понимаю, как Вы кипите! Бедная, милая Павла Полиевктовна, сердобольная русского дела! Спасение ей за сие будет! Ах, как я рад, что могу писать Вам, что чувствую Вас, душу Вашу! И дай Вам Бог сил и здоровья! Нет, жизнь правды и жизнь Христова Света не может умереть. Люди будут приходить на смену и держать светильник. А не будут – жизнь кончится и пойдет «на собачье положение», все – подняв ножку, на… всё! Такой жизни и не жаль будет.
Катнул я на днях статью (будет напечатана на днях) – «Болезнь ли?»37 по поводу исповеди Туринцева («Дни»)38 пощекотал «диагностов» (социалистов и Милюкова39). Сколько раз зарок давал от искусства не отрываться, – не могу! Знаю, что когти на меня точат, и замалчивать стараются, – плевать! На корку сойду – не страшно, всё видали! Хуже быть не может, и ничего не страшно!
Наш дружеский горячий привет Павле Полиевктовне и Вам, дорогой! С нами живет Ивун, и он – как светлячок для нас. Крепко Ваш Ив. Шмелев.
8 окт. 1924.
Capbreton s/mer LandesПривет, дорогие друзья, скоро, к 25 октября, вернемся, загрызла работа, не могу не кончить. Птицы тысячами летят – здесь – passage dʹautomne* – и злодеи-сантимники миллионами ловят в сети и жрут жаворонков. Все бескрылые птицы улетели, одни – мы. Хозяин соблазняет остаться – пристраивает salle à manger**, камин, за 1800 сдал бы на год. Но… до весны, огород заведу и буду питаться от трудов рук своих. Не тянет в Париж. Горе – книг нет. А то бы остался. Привет. Ваши О. и И. Шмелевы.
16/29 окт. 1924.
Capbreton s/mer (Landes)[Приписка:] А.В. 1) Для Галлиполийцев40 дам, привезу сам – 2–3 ноября – рассказ «Птицы»41 на 200 строк. (Но ничего, что он на днях появится в «Руле»).
2) 100 fr. считайте за лист, передам немедленно для Сергиева подворья42. Ив. Шмелев.
Дорогие друзья и милые русские люди,
Павла Полиевктовна и Антон Владимирович,
С тоской отрываемся от тихой и простецкой жизни-жития в здешних пустынях лесных и 1-го числа едем в Paris. Погода – золотая, голубая. Т° – 20° в тени. Гри-бо-ов!.. Рыжики, самые-подлинные! Журавли летят вечерами, играют на балалайках будто, высоко-высоко, – углом летят. Здесь извечная «птичья дорога», кругом Пиренеев…
Бог даст – Вы увидите (должны увидеть) эти места. Здесь многое от России…
Все идет, в политике, – прекрасно. Европа окончательно опоганилась. Прекрасно. Истина-Правда все глубже вскрывается. Один «друг человечества» утерся. Скоро очередь и за вторым «петрушкой». Но до чего же измельчились «деятели»! Гнусно. Считаю, что «наша болезнь» уже не требует докторов. Она «на пути к выздоровлению». И вне шумных очагов, здесь, в лесах, где видишь законы естества, ярче чувствуется, что Россия идет… Верю. Этому процессу ни помочь – ни изменить его – не может эмиграция. Она лишь собирать себя должна и готовиться. «Се жених грядет»43… может быть, нам придется жить здесь еще 3–5 лет, но мы будем в России.
Сердечно обнимаем Вас, дорогие друзья. Кое-что писалось здесь, – мешали вечные мои болезни. Как бы хотелось насильно сложить Вас, запереть в чемодан, привести в Hossegor и выпустить на песок у Соснового леса, у Океана. Рассчитываем вернуться сюда к марту-апрелю. Надо писать «Кошкин дом»44! Ваши душой и сердцем Иван и Ольга Шмелевы.
25 дек./7 янв. 1925 г.
Обнимаем Вас, дорогие друзья,
Павла Полиевктовна и Антон Владимирович, в этот светлый день нашего русского Рождества! Да вернутся, в светлых воспоминаниях, Святки Ваши! А за ними да придут и подлинные – Святые Дни Рождества России! Крепко Ваши Шмелевы.
А день сегодня ясный-ясный, – и если глядишь в небо – на миг покажется, что это наш декабрь – Рождество.
3 февр./21 янв. 1925.
12, rue Chevert, Paris, VII-eДорогой и глубокочтимый Антон Владимирович,
Боже, Боже! Боюсь, что Вы с укоризной киваете на меня. До сих пор я не нашел сил даже взнос в Комитет сделать, ответить на письмо, по поводу лекций, Вам написать… Но такая душевная расхлябанность – может быть, следствие нервного переутомления. Охоты смотреть на жизнь нет. Я чистосердечно пишу Вам это. Болезнь ли? Не знаю. Я жду не дождусь теплых дней, чтобы бежать из Парижа, которого все равно не вижу, не хочу видеть. У меня всегда это после забот и – перед заботами. И не могу подняться над великой тоской, которая все закрыла. Лишь в работе обманываешь ее, но она и в работе, покрывает мысли. Бывают дни – и вот сейчас они – когда хочешь конца, бесчувствия, камня. Когда – не видишь цели и смысла, и схватываешься, Бога ищешь, сил – ищешь веры, но – нет во мне – в эти минуты – и веры светлой. Маловерье, пустыня в душе моей. Я говорю о личной, духовной вере, о моих целях, как твари Божией – к Богу. Что же до России – я верю – и знаю, что она будет. Но я даже и на нее вздернуть себя не в силах. Для меня и России возрождение – не мое возрождение. Я знаю, что это ересь, что это может быть пройдет, но такая теперь во мне муть и скорбь черная. И делать повседневное дело – тяжко – мне тяжко идти обедать, писать письма, в хлопотах дня вертеться. Оцепенение… Но не эгоизм. Но и физическое что-то. Вот мне нужно глотнуть воздуха, уйти от жизни в тишину, чтобы отыскать себя. И при этом еще жизнь требует, надо зарабатывать на жизнь, которая мне тяжка. Болезнь это во мне? Может быть. И проходит она, когда я обманусь, уйду в обманчивое, рисуемое воображением. И вот, проверяя себя, я вижу, что нет силы писать и говорить слова, слова, ободряющие, слова разбирающие жизнь. Есть еще силы – воображать и жить с воображаемым. Есть невыполненное, – мои литературные планы. Их я должен выполнить. Спешит скучное время во мне. Надо и мне спешить.