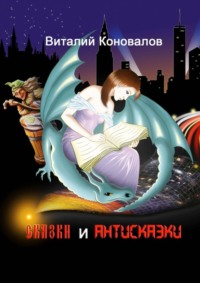Полная версия
Исследователи
Так я и оказался в августе 1991 года в Дубне. Разумеется, не удержался и во время «путча» метнулся в Москву. Поехал на Манежку, застал там деморализованных танкистов. Капитан, сидящий на броне, на прямой вопрос «А кто вами командует?» протянул мне шлемофон, в котором слышны были только атмосферные шумы, и зло ответил: «Да х… их там знает!» Они должны были бы не пущать демонстрацию, несущую трехсотметровый триколор, но расступились. Видел Гавриила Попова, выступавшего с балкона здания Моссовета на тогда еще улице Горького, и Бориса Ельцина, стоящего на танке.
Тогда, в конце прошлого века, в Дубне, в Объединенном Институте Ядерных Исследований работали Джелепов и Мещеряков, Балдин и Боголюбов… Ездил, несмотря на прогрессирующую болезнь Паркинсона, по дорожкам Института на своем знаменитом велосипеде, страшно редкой и дорогой «Каме» с переключением передач, Бруно Максимович Понтекорво. Ездил, не держась за руль и на ходу читая книгу. Это про него пел Высоцкий, в «Марше студентов-физиков», помните?
Бруно Максимович человеком был легендарным. Родился он в Италии, в Пизе, и до войны работал в группе Энрико Ферми, более известной как «Ребята с улицы Панисперна», открывшие в 1934 году замедление нейтронов, что и стало десять лет спустя ключом к постройке Энрико Ферми первого ядерного реактора. Работал Понтекорво и в лаборатории Ирен и Фредерика Жолио-Кюри, дочери и зятя Марии и Пьера Кюри. Про него ходило множество слухов, например, что из Италии ему пришлось срочно эмигрировать, потому что он завел роман с Кларой Петаччи, любовницей Бенито Муссолини, и что он передавал секреты ядерного оружия в СССР… А я ходил на семинары к нему и к Венедикту Петровичу Джелепову в Лабораторию Ядерных Проблем…
Это было время развала СССР, социальных потрясений и смелых экспериментов, в том числе и в области образования. Вот и ОИЯИ организовал «Учебно-научный центр»; лекции читали преподаватели из МГУ и МИФИ и ведущие ученые Института. Я в тот центр буквально напросился, взяли, спасибо тогдашнему завкафу нашему, Профессору Борису Владимировичу Шульгину. Тогда же, в процессе переговоров, я впервые познакомился с Юрием Цолаковичем Оганессяном, только-только ставшим директором Лаборатории Ядерных Реакций. Потом часто с ним встречались на конференциях по физике деления, в конце концов, деление и синтез сверхтяжелых – один процесс, просто обращенный во времени. Сейчас он академик, знаменит серией синтезов сверхтяжелых химических элементов, и элемент 118 назван в его честь Оганесоном. Номер 105, кстати – Дубний.
В ЛЯР к Оганессяну я, правда, не попал, а стал работать в Лаборатории Нейтронной физики имени своего первого директора, Ильи Михайловича Франка, Нобелевского лауреата. Лабораторию эту как-то почтил визитом сам Нильс Бор в компании со Львом Ландау, и тогда работали еще люди, которые помнили этот визит… После некоторого периода дрейфа в поисках интересной темы я оказался в группе доктора физ.-мат. наук Юрия Сергеевича Замятнина и членкора Владимира Иосифовича Мостового, появляющегося наездами из Москвы, он тогда работал в Курчатнике. Обоим тогда было прилично за семьдесят, оба начинали свою карьеру в ядерной физике работой над «Устройством РДС-1», первой советской атомной бомбой… Становление ядерной физики прошло через их руки, удивительно, какие красивые и точные эксперименты они умудрялись ставить, особенно, учитывая, насколько лимитированы они были в аппаратуре и времени…
Юрий Сергеевич поступил на физфак МГУ еще до войны и был однокурсником Андрея Дмитриевича Сахарова. По семейным обстоятельствам в эвакуацию с Университетом не уехал, а работал в Москве на заводе. Когда вышел приказ отозвать с фронта всех ядерщиков, его с завода не отпустили – завод ведь не фронт – и он поехал к Курчатову. Не прошло и недели, как к заводу подъехал черный ЗиС с распоряжением «немедленно откомандировать Замятнина Юрия Сергеевича в распоряжение НКВД»; именно это ведомство заведовало ядерным проектом. ЗиС отвез его на Октябрьское поле, в «Лабораторию номер два». Скоро его перевели в Город, как называли совершенно секретный советский ядерный центр, где он снова встретился с Сахаровым. Они даже дружили семьями, пока, по словам Юрия Сергеевича, Елена Георгиевна Боннэр не вытоптала круг общения мужа, заменив его интересными и полезными ей людьми. Теперь уже и не проверить.
Юрий Сергеевич первым в СССР определил минимальную массу плутония, необходимую для создания ядерного заряда. Сделал он это под руководством Георгия Николаевича Флерова, который потом стал директором ЛЯР, а когда он скончался, его сменил Юрий Цолакович. Флеров открыл спонтанное деление урана, его работа над первым ядерным зарядом не может быть переоценена и потом именно он инициировал поиск сверхтяжелых элементов – но все-таки известен «дедушка» своим письмом Сталину, в котором он обосновывал необходимость срочно начинать работу над ядерным оружием, чтобы не отстать от Германии и Америки, которые уже эту работу начали. К такому выводу Георгий Николаевич пришел в Казани, в госпитале, обнаружив, что из научных журналов исчезли статьи по урану… Письмо это сыграло в СССР примерно такую же роль, как знаменитое письмо Эйнштейна Рузвельту. К вопросу о тесноте мира: в том же госпитале лежал мой дед, которого я не видел ни разу в жизни, Сергей Афанасьевич Адамович, раненый на Карельскм фронте…
Позже Юрий Сергеевич предложил метод «невзрывных цепных реакций», который позволил отказаться от полномасштабных ядерных испытаний – и сделал это на несколько лет раньше, чем до аналогичного метода додумались американцы. Надо ли говорить, какое преимущество получил Советский Союз в условиях «холодной войны» и гонки ядерных вооружений? Когда взрывали РДС-6С, «Слойку Сахарова», первый термоядерный заряд, точнее, систему «деление-синтез-деление», Юрий Сергеевич предложил радиохимический метод доказательства термоядерной природы второго деления, по концентрации симметричных осколков. Инициатива, как известно, наказуема исполнением, поэтому ему выдали «козлика», солдата-водителя и пустую консервную банку и отправили по радиоактивному следу, собирать «харитонки», застывшие капельки оплавленной породы, поднятой взрывом (эти стеклянные шарики назвали так в честь Юлия Борисовича Харитона, руководителя Института в Городе; во всем остальном мире они известны под названием «тринитрит», так как впервые они образовались во время испытания «Тринити», самого первого рукотворного ядерного взрыва на планете) … доказательство было получено, правда, ценой радиационных ожогов роговицы, последствия которых мучали его всю жизнь. Часть тех «харитонок» он хранил у себя в сейфе. Я их в руках держал, благо, почти все продукты деления к девяностым годам уже распались, только цезий остался…
Не очень удивительно, что Юрий Сергеевич был полным кавалером Ордена Трудового Красного знамени…
Владимир Иосифович всю жизнь проработал в Москве, в «Лаборатории номер 2», сейчас – Федеральный научный центр «Курчатовский институт», решал проблемы транспорта нейтронов, изобрел вращающийся щелевой нейтронный монохроматор и, кроме того, был Героем Советского Союза за подвиги на фронте. Он был артиллерийским разведчиком. Рассказывают, что Игорь Васильевич Курчатов, придя на его защиту диссертации, очень удивился, что она кандидатская, а не докторская. Ученый секретарь начал что-то лепетать про формальное оформление работы, на что Курчатов просто вырвал из нее титульный лист и написал от руки другой.
Владимир Иосифович рассказывал мне такую баечку про «Бороду», как за глаза называли Курчатова: задержались они с ним вдвоем ночью на установке, что-то там срочное надо было измерить. Для проверки было бы надо грубо прикинуть спектр нейтронов, но кладовщик, который мог выдать полиэтиленовые блоки, чтобы набрать замедлитель разной толщины, уже ушел. Игорь Васильевич, выглянув в щелку из дверей лаборатории, увидел, что охрана играет в карты – и карты немедленно конфисковал. Они оказались достаточно засаленными, чтобы сработать, как замедлитель нейтронов, и нормировка была произведена…
В 1996 году в Дубне проходила международная конференция «История Советского Ядерного Проекта», более известная под своей английской аббревиатурой «HISAP-96». Юрия Сергеевича Замятнина пригласили сделать доклад, но, к глубокому его сожалению, нужно было представить электронную копию доклада и иллюстрации для демонстрации на экране. PowerPoint тогда не успела еще стать де-факто стандартом презентаций. Несмотря на свой весьма почтенный возраст, Юрий Сергеевич с компьютером был знаком, но все-таки на «Вы», поэтому он попросил меня помочь ему подготовить доклад, пообещав мне за это пропуск на все три дня конференции.
Для двадцатипятилетнего меня эти три дня стали шоком. Я сходил на доклад Константина Антоновича Петржака, где он рассказывал об истории открытия спонтанного деления (вместе с Флеровым, они тогда у Курчатова аспирантами были), познакомился с Альбертом Гиорсо, более, чем полвека проработавшим с Гленном Сиборгом, в честь которого назван 106й элемент. Кстати говоря, считается, что именно терки Флерова и Сиборга за приоритет привели к тому, что Нобелевский комитет решил больше не давать премий по химии за открытие новых элементов. Вслух Нобелевский комитет, естественно, ничего такого не говорил. Тем не менее, Альберт Гиорсо является обладателем сертификата Книги Рекордов Гиннеса как человек, открывший наибольшее количество химических элементов.
Самым запоминающимся знакомством на этой конференции стал полковник ГРУ Владимир Борисович Барковский. Буквально через пару месяцев после этой конференции вышел указ Президента Российской Федерации о присвоении ему звания Героя России. Его рассекретило руководство ГРУ, возмущенное воспоминаниями генерала Судоплатова, бывшими, по его, руководства, мнению, фальшивкой. Именно Барковской завербовал Клауса Фукса (который, кстати говоря, после возвращения в ГДР несколько раз посещал Дубну), главного источника данных для советской разведки по проекту «Энормоз». Встретив его на перерыве, я задал ему вопрос о супругах Розенбергах… его реакция оказалась неожиданной: «Я пойду вон туда за угол, ты иди туда же через две минуты»; когда я присоединился к нему, огляделся по сторонам: «Теперь говори…»
Не выдавали Розенберги ядерных секретов. Шпионами они, действительно, были, но вот брат Этели Розенберг, Дэвид Грингласс, который их и сдал, передавал информацию через другой канал, Гарри Голда.
На общей фотографии Владимир Борисович не виден – он спрятался за мою спину. Профессиональная деформация…
Занятия наукой, да еще и под руководством таких людей – дело, безусловно, романтичное. Шутка ли, отгадывать загадки самого Создателя об устройстве мира… вот только зарплаты ученых в девяностые годы были совсем уж нищенскими. Разнообразные гранты были серьезной поддержкой, но крайне нерегулярной, приходилось выкручиваться. В какой-то момент я попал учителем физики в школу «Гармония» при которой некоторое время существовал детский оперный театр под патронажем самой Любови Юрьевны Казарновской. Она приезжала, проводила для учеников школы мастер-классы, и даже согласилась дать в Дубне благотворительный концерт для поддержки талантливой молодежи. Самым большим залом в городе в те времена был ДК «Октябрь», на четыреста, кажется, мест. Я для этого концерта билеты печатал. Макет придумал, Любовь Юрьевна сказала, что таких красивых билетов в России у нее еще не было…
Концерт, знаменитая ее программа «Я почувствовала ритм» таки состоялся, хотя, кажется, никто в городе в такое чудо не верил…
В какой-то момент оказалось, что и на школу, и на науку меня не хватает. Решение принять у меня никак не получалось, и однажды, как раз когда я бежал на урок в школу, я встретил на площади Мира Андрея Александровича Говердовского. Сейчас он Генеральный директор Физико-Энергетического Института в Обнинске, а тогда у него была маленькая экспериментальная группа, занимавшаяся физикой деления и в сотрудничестве с нашей лабораторией он предложил тогда эксперимент в ЦЕРНе. Он спросил, куда бегу, выслушал мои сомнения и сказал: «Бросай эту ерунду, будем делать большую науку»… Я послушался и через некоторое время поехал в командировку в Женеву. Командировка была на три месяца, но растянулась на три года, да и после этого, вот уже семнадцать лет, в Россию я не вернулся.
Но это уже совершенно другая история.
Пусть не поймаешь нейтрино за бородуИ не посадишь в пробиркуНо было бы здорово,Чтоб ПонтекорвоВзял его крепче за шкирку!
4. Нобелевские лауреаты
К моменту разговора с Говердовским, которым закончилась предыдущая глава, я уже не был молодым и зеленым, как венгерской горошек. В моем активе был спроектированный и собственноручно построенный (на 90% – из материалов, найденных на свалке) нейтронный канал на реакторе ИБР-30, умение делать быстрые детекторы деления, которыми я успешно измерил маленькие (а значит, трудные в экспериментальном отношении) сечения деления высокоактивных младших актинидов, в том числе, впервые в мире измеренное сечение деления урана-234 тепловыми нейтронами.
Идейным вдохновителем и научным руководителем проекта, на который меня пригласили в ЦЕРН, был Профессор Карло Руббиа, Нобелевский лауреат и бывший Генеральный Директор ЦЕРН, «и протчая, и протчая, и протчая». По популярности в Италии его в те времена обгонял только Иоанн Павел Второй. Именно в бытность Карло руководителем ЦЕРН, была подписана декларация, которая гласит: «ЦЕРН согласен разрешить всем бесплатно использовать web-протокол и код… без авторских отчислений и прочих ограничений»… Изобретателя Всемирной Паутины, Тима Беренса-Ли, кстати, я тоже однажды видел на праздновании пятидесятилетия ЦЕРН.
Группа Карло Руббиа работала на нейтронном источнике, который был построен в старых туннелях ЦЕРНовских ускорителей и использовал «лишние» протоны, остающиеся от БАК, который, правда, тогда еще только строился. Задачей группы было получение данных для расчета «умножителя энергии», концепции, незадолго до того предложенной Карло Руббиа. Иногда это устройство называют «Руббиатрон», это подкритический реактор, который управляется протонным ускорителем. И с измерениями сечений у них что-то пошло не так.
В ЦЕРНе Карло официально считался пенсионером, зарплаты не получал, и, к тому же, у него было множество других должностей, в частности, президент ENEA, итальянского национального исследовательского агенства, поэтому в своем кабинете он появлялся нечасто, в основном, по субботам. Какой-то ушлый журналист подсчитал даже, что Карло перемещается по планете со средней скоростью около сорока километров в час. Через пару дней после приезда мне сказали, что он приедет завтра и надо бы ему представиться. Я постарался одеться поприличнее (что было не очень легко, приехал в Женеву я вообще без денег, в первый вечер мне даже пришлось стрельнуть двадцать франков на ужин у своего непосредственного начальника, который встретил меня в аэропорту) и сел ждать аудиенции. В тот день она не состоялась, перенеслась на через день, поэтому следующим утром я честно пришел в штанах, в которых удобно ворочать железки – это занимает львиную долю времени физика-экспериментатора. Белые халаты – это уже очень сильно потом. И вот иду я такой, пыльный слегка, потому что рабочее место в мастерской расчищал, по коридору, а навстречу мне идет Нобелевский лауреат, Гарвардский профессор, итальянский министр (хоть и без портфеля), и вообще, общепризнанный гений. Коридор узкий, Карло большой. Разойтись невозможно, сделать вид, что не заметил, тем более; тунеллировать сквозь пол не получилось. Как заговорить со светилом такого масштаба, тоже непонятно.
– What are you doing here? – вопрос в лоб от гения чуть не сшиб меня с ног. Нуу… Работаю. Вот сегодня мебель двигаю и старый металлолом выкидываю, именно сейчас прервался на минутку, в туалет ходил… 1
– I am from Dubna, preparing FIC detector… – пискнул я. 2
– Oh, you are that Russian who trying to save our asses! Good luck! – Нобелевский лауреат крепко пожал мне руку и скрылся за дверью, из которой я только что вышел… 3
И что теперь, руку не мыть?..
Очень итальянский темперамент Карло, в сочетании с его немаленьким ростом и весом, людей обычно пугали, хотя, вроде бы, телесных повреждений он никому не наносил. Взрывался он от малейшей искры, орал не стесняясь, но и отходил быстро. Так получилось, что большинство суббот я тоже проводил на работе, вернее, в Интернете, дома у меня его не было, поэтому с господином Руббиа пересекался регулярно. Случалось, что бывал его единственной жертвой.
– What is that bullshit? – от дверей в меня летит черновик статьи. Означенный bullshit заботливо, но эмоционально, даже бумага порвалась, обведен, чтобы я не задавал лишних вопросов. Мнда, действительно, третьему пику тут взяться неоткуда. 4
– This particular simulation was done by… 5
– I don’t care. There is your name on the paper. Tomorrow you will show me correct diagram!.. – покажу, конечно, куда я денусь. В воскресенье, ага… 6
– Oh, you are here! Good! Cоme, I need you! – Нобелевский лауреат, в носках, без пиджака и галстука, возбужденно жующий потухшую сигару невероятных размеров, стоит на пороге комнаты, – Quick! 7
Бегу за ним в его кабинет. На самом деле, в святая святых я первый раз в жизни. Шкафы с книгами, фотография хозяина кабинета, пожимающего руку Папе Римскому, еще одна – с церемонии вручения Нобелевской премии, с королем Швеции. Рядом на стене – диплом Нобелевского лауреата. Дипломы эти, между прочим, лучшие художники от руки выполняют.
– Come here! Look, what I invented – Карло разворачивает в мою сторону монитор и начинает объяснять. На экране – концепция ядерного межпланетного корабля. Если сделать очень высокотемпературный ядерный реактор, основная часть энергии перейдет в фотоны. Поставить получившуюся лампу в фокус параболического зеркала – и вот вам космический корабль для полёта на Марс. Двадцать тонн долетит за месяц. 8
– Did you got it? – Карло разве что не подпрыгивает от нетерпения, – Tell me now where I am wrong! 9
Это Вы меня спрашиваете, Сеньор Руббиа? Серьезно? Вы требуете критики в адрес Нобелевского лауреата и общепризнанного гения, от меня, мэнээса из Дубны, даже не кандидата? Прямо в глаза? Какого черта, Карло? Боги не ошибаются! Тем не менее, сажусь в кресло, еще теплое после Нобелевского лауреата, разбираюсь. Возражения против слишком высокой температуры реактора гневно отметаются: «Это инженерная задача, не сделают сейчас, сделают через сто лет. Ищи принципиальные ошибки!» Очень способствует независимости мышления…
Однажды Карло целый день ходил по коридорам, показывая всем книгу Дэна Брауна «Ангелы и демоны», и рекомендуя всем ее прочитать, аргументируя тем, что там в конце его убивают. Правда, внешность Максимилиана Колера, директора ЦЕРН в романе, больше напоминает Стивена Хокинга, но характер его явно списан у Карло. Кроме того, Карло тоже стал ученым против воли отца, который прочил ему медицинскую карьеру и отказался оплачивать обучение физике. Говорят, Карло зарабатывал на учебу, играя в покер. Интересно, как ему удавалось делать покерфейс?
Был в этой группе еще один Нобелевской лауреат, Жорж Шарпак, который, правда, большую часть времени работал в Париже, однако, пару раз мне посчастливилось и с ним встретиться. Он родился в Польше, в еврейской семье, которая переехала в Париж, когда ему было семь. Во время войны был в Сопротивлении, арестован вишистской полицией, депортирован в Дахау, но выжил. Он тоже упоминается в одном из эпизодов книги Дэна Брауна
В один из приездов в Россию с отчетом о проделанной работе увидел на стене лаборатории объявление: «такого-то числа в Большом конференц-зале ФИАН Виталий Лазаревич Гинзбург будет повторять свою Нобелевскую лекцию, запись у ученого секретаря». Записался, конечно. Пришел очень сильно заранее, сел поближе, ряду на пятом – ближе бумажки лежали, типа, зарезервировано… Передо мной сел не кто иной, как Профессор Сергей Петрович Капица, известный абсолютно всем, родившимся в СССР, «краснобай и баламут», ведущий передачи «Очевидное-Невероятное» и вообще неординарный человек. Начать с того, что его крестным был Иван Петрович Павлов, тоже Нобелевский лауреат. А уж о папе его, Петре Николаевиче Капице, Нобелевском лауреате, который у самого Резерфорда работал, написано столько, что повторяться как-то даже неприлично…
Виталий Лазаревич не просто повторил свою лекцию, он много рассказывал о себе, о Льве Давидовиче Ландау, который когда-то принимал у него «теоретический минимум», а тогда Виталий Лазаревич принимал его, измененный под изменившуюся физику, у молодых теоретиков; о проблемах современной физики, а в заключение сказал, что завидует молодым физикам, потому что им предстоит увидеть еще много интересного…
5. Виталюрич
Я вернулся в Дубну, город, в котором прожил почти пятнадцать самых насыщенных лет своей жизни, ровно через четверть века после первого приезда, день в день, минута в минуту – на той же самой утренней электричке. Прошел тем же маршрутом – от станции к гостинице, и уже подходя к ступенькам, загляделся на идущую мне навстречу женщину – молодую, около тридцати, рыжую, высокую, яркую… Поравнявшись со мной, она радостно улыбнулась, сказала «Здравствуйте, Виталюрич» и упорхнула, не дожидаясь моего ответа…
Виталюрич… одна из страниц моей биографии, которая до сих пор вызывает у меня чувство неловкости, беспомощности и стыда, ибо нельзя идти туда, не имея искры Божией. Школа.
Когда-то я был школьным «физиком». Целый год. Всего тридцатилетним, но, по мнению моих учениц, уже стареньким… Тем более, я тогда бороду отрастил. Для солидности и авторитету. Правда, не помогло. Мое, не самое легкое, имя-отчество было сокращено до одного слова, которое, заодно, стало и моим прозвищем.
Впрочем, с шестым классом вообще никаких проблем не было. Знай, пересказывай своими словами старый добрый учебник Перышкина. Главное, не увлечься и не начать интегралы на доске писать.
Восьмой класс тоже, в общем, терпимо. Они еще сами не просекли, что в жизни происходит, и в одном месте все еще продолжает играть детство, лишь иногда устраивая странные выверты. Например, подскажет бросить за шиворот девочке впереди муху и посмотреть, что получится. На уроке физики, а то. Это ж эксперимент же. Результат им не понравился: я отправил визжащую девочку в туалет вытряхивать муху, а потом выгнал двух пацанов с урока. Она им в коридоре и вломила – у нее было преимущество в весовой категории.
Еще с ними была история на конкурсе чтецов. Тут надо сказать, что я в те времена был более или менее популярным поэтом в масштабах этого небольшого наукограда. Поэзия приносила денег еще меньше, чем наука, поэтому, собственно, я и оказался в школе. Она была частной и в ней хоть что-то платили. Главное, регулярно.
Так вот, конкурс. Чтиц, в основном. С настоящим поэтом в жюри. Девочка одна выучила стихотворение любимого учителя и прочитала «с выражением», преданно глядя ему, ну то есть мне, в глаза.
Вот это:
Одиннадцать лет девочке, на минуточку… Ну или двенадцать. Смеяться этика учителя не позволяет. Сказать «Пупкина, ты что, дура?» – вообще непедагогично… Учительница литературы потом смотрела на мою фалломорфировавшую рожу, хохотала до слез и клялась, что про засаду не знала… Вряд ли.
Но адом восьмидесятого уровня был одиннадцатый класс. десять человек, разделенных на две группы: теx, кому надо будет сдавать физику при поступлении, и тех, кому не надо. Никого не удивляет, что разделение совпало с таковым по половому признаку? То есть имелось четверо мальчиков, которые рыли землю пять часов в неделю, и шесть девиц шестнадцати-семнадцати лет от роду, которых два часа в неделю мне приходилось грузить какой-то совершенной для них непонятностью… Я был молод, не так давно разведен, периодически одинок и совершенно не представлял, что такое девушка в пубертате (ну не считать же, в самом деле, опытом – общение с одноклассницами за тринадцать лет до того). Поэтому в класс зашел смело, совершенно не догадываясь, что иду в клетку с львицами… В голову шибанул запах адской смеси прогестерона с эстерогеном и не самым дорогим парфюмом, в глазах поплыл туман, а я нашел в себе силы сказать: «Здравствуйте, я ваш новый учитель физики. Меня зовут…»
Через два часа, когда львицы уже лениво догрызали окровавленные останки моего самообладания, прозвенел, наконец, звонок и положил конец моим мучениям. Они вышли, радостно щебеча, а я открыл окно и высунул голову на январский ветер…
Зато теперь я Знаю. Если вдруг вас начнут соблазнять гурии, т.е., прокурорского возраста девственницы в боевом макияже, коротких юбках и расстегнутых до третьей пуговицы блузках, стреляя глазами, поправляя колготки и лямочки на лифчиках, то, чтобы они сгинули, нужно сказать заклинание. Вот оно: «Девушки, откройте задачник Рымкевичей, страница 39, задача 164»…