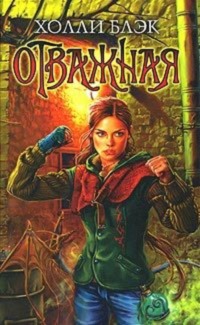Полная версия
Тропой Койота. Плутовские сказки
Реальней тебя самого
Кристофер Барзак
[30]
Все, что ты, казалось бы, знаешь о мире – неправда. Ничего реального в мире нет, все вокруг – подделка и надувательство, и потому ты вынужден жить среди иллюзий. Таков конец этой истории, главная мысль, самая суть того, что я собираюсь сказать. Предупреждаю заранее, чтобы ты не рассчитывал на ненапряжный финал. И никакого смысла в этой грустной картине не будет. И человечества эта сказка ни в малейшей мере не оправдывает. Вот так. Теперь ты знаешь, во что обойдется билет, и можешь решать, вправду ли хочешь увидеть, что за занавесом.
Все еще здесь? Что ж, ладно. Должно быть, ты – из той самой породы. Из тех, кто не боится внутренних терзаний, или хотя бы желает поглядеть на внутренние терзания других, столкнувшихся с множеством жизненных противоречий. Хотя в этом нет ничего дурного, кто бы что ни говорил. Это всего лишь значит, что ты не боишься глядеть в лицо трудностям.
Зовут меня Элия Фултон. Случилось все это в Японии, в начале двадцать первого века, когда мне было шестнадцать и родители вынудили меня покинуть Америку. Если еще точнее, то в Ами, в пригородном поселке в часе езды от Токио, на тропе сквозь бамбуковый лес.
В тот день я, как обычно, вышел пробежаться, поскольку бег или велик были единственными способами хоть куда-то попасть. Водить машину в Японии можно только с восемнадцати, так что переезд снова сбросил счетчик всех тех лет, что я дожидался свободы передвижения, на ноль. Без машины я был обречен торчать в нашем крохотном домике, в компании тринадцатилетней сестры и мамы, учившейся готовить японские блюда под руководством миссис Фудзиты, жены папиного босса. Пришлось мне бегать, чтоб хоть куда-то убраться от всего вокруг – от младшей сестры, от родителей, из Ами вообще. Если б мог, я бы и из Японии убежал. Вот только Япония, к сожалению, остров, так что застрял я там крепко.
Начиная бегать, я не знал, куда, или хоть в каком направлении какая дорога ведет, и потому, чтобы не заблудиться, попросту нарезал круги вокруг жилого комплекса по соседству с нашим домом. Но каждый день забегал чуточку дальше. К концу первой недели добрался до конца нашей улицы, а еще через несколько дней свернул на дорогу, что вела через гребень холма в заросли бамбука и сосен. Дорога долго, будто непрерывный сон, петляла сквозь лес, и вот однажды я добежал до места, где она расходилась надвое. Один путь вел к опушке леса, за которой лежало капустное поле. Другой, простая утоптанная тропинка, уходил дальше в чащу.
Конечно же, пытаясь убежать от всего мира, я выбрал второй путь. Там, в серо-зеленой тени бамбуков, выводили причудливые мелодии цикады. Больше вокруг не слышно было ничего – только мой собственный топот да мерное дыхание. Эти звуки внушали покой и уют, как будто, застряв в стране, где мне ничуть не хотелось жить, я мог отыскать убежище в собственном теле – в самом себе.
Вдруг над головой зажужжала стрекоза – не меньше моей ладони. Кружит и кружит, мечется взад-вперед, но не улетает. Такой большой стрекозы я в жизни не видал и тут же вспомнил о сказочных феях и эльфах. Если на свете бывают стрекозы подобной величины, неудивительно, что люди когда-то верили в них. Хотя на самом-то деле люди готовы поверить во все, что угодно. Порой их даже убеждать не требуется.
Наверное, я в тот день был не в духе (как и в любой другой день с той самой минуты, когда мы впервые ступили на японскую землю), потому что в какой-то момент опустил взгляд и увидел, что тропинка кончилась. А когда посмотрел вперед, обнаружил, что стою на поляне, а впереди, в дальнем ее углу, притулился в тени маленький домик.
Крохотные ступеньки вели к крохотной дверце, запертой на ржавый замок, а на ступеньках в беспорядке лежали монеты и шнуры, сплетенные из разноцветных ниток. Стоило малость оглядеться по сторонам, тут же подумалось: вот сейчас, в любой миг, замок сам собой отопрется, кто-то очень маленький распахнет дверь и выйдет на крыльцо… Не знаю, в чем тут причина. Может, в стрекозе и мыслях о феях с эльфами. Может, таким уж был общий настрой в тот день. Но нет, никто не вышел за порог и не спросил, что я здесь делаю. Вместо этого за домиком раздался шорох. Вздрогнув от изумления, я поднял взгляд и увидел рыжую собаку, вышедшую из-за деревьев.
Собака была не из крупных, с большими острыми ушами, острым носом и глазами, зелеными, как нефрит. По-моему, больше похожей на лису, чем на собаку. Причем не на настоящую лису, а будто сошедшую со страниц книги сказок. Густой, пушистый рыжий мех, белый «слюнявчик» на груди… Подняла она нос, принюхалась и склонила голову набок, осматривая меня точно так же, как я осматривал домик.
Насмотревшись вдоволь, она двинулась вперед, обходя меня по кругу. Я замер: вдруг бросится? Лиса это, или собака – я вторгся на ее территорию, и вряд ли она будет этому рада. Но, видимо, лиса решила, что со мной все окей. Потеряв ко мне всякий интерес, она опустила голову и двинулась прочь. Я с облегчением перевел дух, но тут же снова сжался от страха: да, собака уходила, но шла-то она по той же тропе, по которой мне надо было возвращаться!
Поразмыслил я и решил пойти следом за ней, сзади. Вокруг темнело, и мне не хотелось блуждать по бамбуковым зарослям ночью. В голову сами собой лезли мысли о том, какие еще создания могут явиться из леса, если проторчать на этой поляне до восхода луны.
Так я и пошел следом за собакой. Она трусила вперед, слегка поводя из стороны в сторону черным блестящим носом, только иногда останавливалась и оглядывалась. Всякий раз, как она это делала, в груди у меня слегка покалывало. Вдруг захотелось погладить ее, обнять за шею, прижать к себе, совсем как подружку там, в Штатах, пока не пришлось нам расстаться из-за моего отъезда. Казалось, эта лиса мне чуть ли не ближе, чем она.
И вот тут случилась удивительная штука. Оттого-то мне и пришло в голову, что наша встреча не случайна. Как только мы вышли из лесу, я подумал: «Она же ведет меня. Ведет обратно домой, не иначе!»
Правда, домой она меня не довела. То есть, не довела до самого порога. Когда мы добрались до перекрестка, который мне нужно было перейти, лиса остановилась, еще раз взглянула на меня зелеными глазами, сорвалась с места и помчалась в лес. Я немного постоял, глядя, как ловко она скользит среди стеблей бамбука, а после того, как ее рыжий хвост окончательно скрылся в зарослях, побежал к дому.
Название «Ами» не означает ровным счетом ничего, но я думаю, тайное, секретное значение у этого слова все же есть. Согласно «Толковому словарю тайных значений и скрытых смыслов», «Ами» означает «самая скучная дыра на всем белом свете». Все эти парни и девчонки в форме католических школ на тротуарах, все эти – будто прямиком из 1950-х – домохозяйки, прямо в передниках рассекающие на мопедах по улицам… словом, жить здесь было примерно так же весело, как в десятый раз смотреть по ящику что-нибудь типа «Предоставьте это Биверу».
Нет, дело было не только в домохозяйках на мопедах и японских ребятах в форме католических школ на улицах. Жизнь в Ами казалась ненастоящей не из-за них. Точнее, не только из-за них – они в это тоже кой-какой вклад вносили, но главное было в другом. Во всех этих странных символах вместо латинского алфавита на вывесках, и в радиодикторах, тараторящих из приемников какую-то непостижимую белиберду, и в телешоу, в которых не было ни малейшего смысла, и в том, что домашние принимали все это как должное. Все это вместе меня из равновесия и выбивало.
Папе помог поскорее акклиматизироваться на новом месте его босс, мистер Фудзита, поэтому он, наверное, никакой дезориентации и не почувствовал. А миссис Фудзита с мамой, похоже, твердо решили стать лучшими подругами. Таким образом, у папы с мамой имелись переводчики, и это здорово облегчало им жизнь. Мистер Фудзита помог отцу в покупке машины. Мама узнала от миссис Фудзиты, в каких магазинах лучшие продукты, а в каких ресторанах делают лучшие суши.
Папа работает в одной компании, что производит электронику, но упоминать ее название мне запрещает. Хотя о нем вы вполне можете догадаться сами. Этот бренд известен на всю Америку и рифмуется с английским словом «phony»[31]. Вот об этом-то слове мне и хотелось бы сейчас кое-что сказать. Обман! Липа! Именно так я и думал почти обо всех, с кем встречался в первые несколько недель. Все они были фальшивыми. Ненастоящими. Как – совершенно в духе Шекспира – сказал бы мой учитель английского там, дома: столкнулся я с культурой прохиндейства. С виду все гладко, все кланяются, извиняются, говорят, что это им следует благодарить тебя за предоставленную возможность преподнести тебе подарок, а я при этом неизменно чувствовал себя неловко. Вроде как виноватым.
Мне страшно не хватало американской прямоты. Чтобы кто-нибудь от души засигналил да заорал из окна машины: «Ну, какого хрена там застряли?!» Чтобы кто-нибудь сказал, что терпеть меня не может, и все такое прочее. Это же здорово помогает понять, как к тебе на деле относятся. Но японцы-то помешаны на деликатности! Ни слова не скажут в простоте. Если и злы, все равно продолжают улыбаться да твердить «спасибо-пожалуйста». Узнать, что у них на уме – дело безнадежное. Можно и не пытаться.
Когда я вернулся с той пробежки, моя сестра Лиз смотрела какое-то телешоу с ведущим, который просто обожал восклицать: «Хонто-о-о?!»[32] – и публика всякий раз смеялась. И Лиз тоже смеялась, будто понимала, в чем юмор. Хотя она-то юмор действительно понимала. В отличие от меня. Лиз было всего тринадцать, но последние три месяца до переезда она старательно осваивала японский и выучила два из трех их алфавитов. И, когда мистер Фудзита встретил нас в аэропорту, сумела поздороваться с ним по-японски. Конечно, сестру я очень люблю, однако умна она просто-таки не по годам. Порой казалось, что это не я, а она вот-вот окончит школу и поступит в колледж.
Услышав мои шаги, она оглянулась и, все еще хихикая, сказала:
– Коннити-ва, Элия. Гэнки десу ка?[33]
– Окей, наверное, – со вздохом ответил я.
Обычно я отказывался отвечать, если она заговаривала по-японски, но в этот день у меня уже не было сил на препирательства. Поэтому Лиз взглянула на меня с подозрением, и смех ее стих.
– Все окей? – переспросила она. – Нет, правда?
– Правда, – сказал я. – Все окей.
Ушел я в свою комнату, улегся на футон и крепко задумался. Воздух казался липким от влаги, а маленький вентилятор без всякого толку гонял его из угла в угол. Система кондиционирования у нас была, но через неделю после приезда мы перестали ей пользоваться. Папины друзья из «Phony International» наведались в гости, увидели работающий кондиционер и чуть в обморок от ужаса не попадали. Заахали, заохали:
– Этот воздух так дорог!
Мама и послушала, как слушала все, что бы кто из японцев ни посоветовал. Она часто вспоминала ту поговорку:
– Если ты в Риме…
Но я всякий раз говорил:
– Мы не в Риме. Мы в Ами.
Так вот, дышал я этой сыростью и думал. Со мной случилось что-то важное, только вот я не знал, как это объяснить. Уже хотелось обратно – туда, на поляну, к маленькому домику. Снова увидеть ту рыжую то ли лису, то ли собаку. Снова почувствовать внушаемый ею покой. Такого спокойствия я не чувствовал несколько месяцев, и стоило ощутить его на пару минут – уже захотелось еще, будто подсесть успел.
На следующий день, после школы, я решил рассказать обо всем Лиз. Родители определили нас в школу для детей из англоязычных семей. Учились там, в основном, ребята из Австралии, но все равно. Возможность говорить по-английски – это было круто, несмотря на кое-какие различия между моим английским и английским осси. Ну, например, какого хрена называть свитер джемпером? Зачем говорить «гузно» и «малой»? Впрочем, это ладно. Когда я рассказал Лиз о домике в лесу, она пояснила:
– Это ты храм нашел, Элия. Японцы строят их в самых разных местах. Наверное, тот, что тебе попался, был чьим-то личным. Построенным одной семьей, или даже одним человеком.
– Выглядел он очень старым, – сказал я. – Понимаешь, не чинили его давно.
– Возможно, он заброшен, – ответила Лиз. – Может быть, человек, построивший его, умер.
– Значит, храм… – протянул я, задумчиво морща лоб. И, помолчав минуту, спросил: – А для чего он?
Лиз наклонилась вперед вместе с кухонным табуретом, радуясь моему интересу.
– Чтобы в нем жили боги, – сказала она. – Отсюда и все эти вещицы на ступеньках. Это жертвоприношения.
– Правда? – удивился я. – Вот это круто!
– Ага, – согласилась Лиз, – и это ты еще больших храмов не видел. Надо узнать, где тут поблизости крупные храмы, и съездить посмотреть. Бывают такие – огромные, народу там целая куча.
– Может быть, – неохотно сказал я.
В большие храмы вовсе не хотелось. Мой мне нравился и без кучи народу вокруг. От этого казалось, будто он – только для меня и для того, кто его выстроил. И для маленькой рыжей лисицы. Да, для лисицы, определенно. Вряд ли то же самое ощущение возникнет в большом храме, среди множества людей. А кроме этого… да, я, в общем и целом, вел себя прилично, но не хотел создавать у кого-либо впечатления, будто обживаюсь здесь. Казалось, от этого я потеряю что-то очень важное.
Я возвращался к храму в лесу еще несколько раз, но рыжей лисицы больше не видел. С одной стороны, был рад, что ее нет – из-за этого наша встреча казалась еще более особой, необычной, но в то же время немного расстроился. Уж очень хотелось еще разок прикоснуться к нежданному чуду. Уж очень хотелось понять, что оно значит. Поэтому, когда я возвращался, а лисицы на поляне не было, мне раз от раза все сильнее становилось не по себе, как до того дня, когда я отыскал лесной храм. В душе росла какая-то тоска. Иногда я ее прямо-таки чувствовал, как будто что-то твердое набухает в груди, давит на ребра. В такие моменты, когда тоска становилась особенно тяжела, я представлял себе, что там, в сердце, растет, строится храм – такой же храм, как там, в лесу – и от этого становилось чуточку легче.
Чтобы избавиться от всех этих чувств, я решил затусить с кем-нибудь из английской школы. И спросил одного пацана, Колина из Сиднея, не хочет ли он потусоваться. Сходили мы с ним в игорный центр, поговорили о том, какие у японцев шизанутые игры. Особенно нас озадачили автоматы-патинко[34]. Залы с патинко были повсюду, сверкали неоновыми вывесками на каждом углу, но ни один из нас не мог дотумкать, как играть в эту помесь пинбола с «одноруким бандитом».
– Чтобы это понять, нужно родиться японцем, – заметил Колин.
– А по-моему все это – просто ради того, чтобы гайдзинов[35] разыгрывать, – сказал я. – Толпы японцев в залах для патинко на самом деле – актеры, которым платят за то, что они притворяются, будто понимают, что делают, а нас тем временем снимают на камеры, и публика в студии, а с ней – пятьдесят миллионов японских телезрителей, сидящих по домам, угорают над тем, как глупые белые варвары из Америки и Австралии строят догадки насчет этих патинко…
– Как в романе Филиппа Дика, – со смехом сказал Колин. – Знаешь такого писателя? У него есть роман про парня, чья жизнь – на самом деле телешоу.
– А, верно, – вспомнил я. – Я, кажется, фильм такой видел. Этот Филипп Дик, небось, и сам из японцев. Иначе откуда так хорошо знает, что мир всегда не таков, каким выглядит? А уж Япония этим пронизана насквозь, от и до.
– О чем это ты? – не понял Колин.
– Ну, понимаешь, здесь все говорят одно, а думают совсем другое. Никто никогда не скажет, что чувствует на самом деле. А как рассыпаются в комплиментах твоему японскому! Нет, серьезно. Я как-то раз случайно сказал официантке «мне курицу, кудасай»[36], так она чуть на месте не растаяла!
– Не знаю, – сказал Колин. – По-моему, так оно, наверное, везде.
– А ты в Америке когда-нибудь бывал?
Колин помотал головой.
– Ну, если попадешь когда-нибудь в Штаты, тебя ждет большой сюрприз, – заверил я. – Там все что думают, то и говорят.
– Правда?
– Ага, – кивнул я. – И это просто здорово.
– Звучит угрожающе, – с сомнением протянул Колин.
– Это еще почему?
– Вот я, например, думаю много такого, чего вслух лучше не говорить. Бывает в жизни, что лучше на ссоры не нарываться, а говорить только самое важное.
Я кивнул и сказал, что Колин, пожалуй, прав, но на самом деле подумал, что мозги у него промыты, и все мои попытки хоть до кого-то дотянуться, хоть до кого-то достучаться, пошли псу под хвост. Нет, вы не думайте, Колин был парень кульный, но мне-то хотелось, чтоб меня поняли! А спорить о собственных чувствах совсем не хотелось. Я-то решил, будто мы обязательно друг друга поймем просто потому, что оба говорим по-английски. Но, видимо, внутри каждого языка есть еще языки, и они тоже могут оказаться чужими, как бы тебе ни казалось, что ты понял все от и до.
После этого дня великого разобщения я решил: лучшее средство избавиться от непокоя – съездить куда-нибудь, где жизнь разнообразнее, чем в Ами. И остановил выбор на Токио. У папы ежедневная часовая поездка туда никаких затруднений не вызывала. Если уж Токио не отвлечет от тоски и тревог, наверное, это вообще ничему на свете не под силу.
Родителям я, чтоб не возникло лишних вопросов, сказал, будто пойду с Колином в игровой центр. Ближайшая станция железной дороги находилась в Усику, всего в двадцати минутах езды. Попросил маму высадить меня у ближайшего игрового центра, сказал ей, что заберет нас мама Колина, и, как только мама уехала, побежал через улицу к станции. А дальше целый час вместе с другими пассажирами клевал носом в такт покачиванию вагона. Поезд нес нас все дальше и дальше от пригородов. Под перестук колес я все гадал, сумею ли найти там, впереди, то, что заполнит пустоту внутри. Жуткое это, надо сказать, дело – когда ищешь чего-то, и сам не знаешь, чего.
Прежде, чем я успел понять, что ищу, поезд прибыл, и, выйдя на платформу станции, я будто с головой окунулся в море карих глаз и ламп дневного света. Поток пассажиров без остановки понесся вперед. Толпа подхватила, понесла к выходу и меня. Я то и дело натыкался на чьи-то плечи, спины, локти, и только бормотал:
– Простите… простите… простите…
Какой-то японец, пробегая мимо, толкнул меня так, что я закружился волчком, а, остановившись, увидел перед собой лестницу наверх, в город.
Стоило только подняться, метро тут же показалось мне образцом тишины и уюта. Время шло к вечеру, и народу на улицах было полным-полно. Ребята в кожаных штанах, девчонки в форменных юбках католических школ, шерстяных гетрах, как у танцовщиц, и викторианских корсетах… А на углу толпилась группа девчонок в костюмах зверей – тигров, бурундуков, скунсов; на щеках нарисованы белые полосы, будто кошачьи усы. Смеясь, они что-то кричали прохожим в мегафон, а на меня уставились, будто на самого чудного типа во всем городе. Местные парни были тощими, как девчонки, и прически носили девчачьи, и по-девчачьи тоненько хихикали. И курили все до одного.
К синему небу тянулись острые шпили небоскребов. На огромных экранах вдоль стен домов мелькали кадры телешоу. Перед глазами все закружилось, да так, что я чуть не упал. Хорошо, к стенке вовремя успел прислониться.
Токио – город-оригами. Складывается, сворачивается, глядишь – и что-то новое возникает практически из ничего. Улицы петляли, сливались одна с другой, исчезали без малейшего предупреждения, а после я, немного оглядевшись и направившись в торговые центры, обнаружил и здания, спрятанные в других зданиях.
В Саншайн-сити, том самом торговом центре с семьюдесятью этажами магазинов, вошел я вроде как в игровой зал под вывеской «Намьятаун», но чем дальше шел, тем дальше тянулся и этот Намьятаун. Из современного торгового центра он превратился в закоулки древнего Токио, только вокруг было полно аттракционов и игр, где в качестве призов разыгрывались живые угри, а навстречу то и дело попадались странные персонажи – вроде Хелло Китти, но куда более злобные.
А в Тойота-билдинг целая стена была сделана в виде водопада, льющегося с высокого обрыва. Камни по краям скалы заросли цветами и лианами – может, настоящими, может, искусственными. Из здания в здание вели эскалаторы, и вскоре я как-то незаметно оказался не в Тойота-билдинг, а где-то еще. Здесь снимали рекламу часов.
– Сумимасэн! Коно хэйя ни хайтэ-ва икемасэн![37] – заорал кто-то, и меня мигом выставили со съемочной площадки на улицу.
Наступил вечер, город засиял розовыми, зелеными, синими, желтыми неоновыми огнями. Толпы на улицах сделались еще гуще, чем днем. Мимо меня прошла компания из нескольких монахов в длинных балахонах. На каждом углу стояли лотки, каждый из продавцов во весь голос нахваливал свой товар. Группы мужчин в синих халатиках, едва прикрывавших задницу, плясали посреди улицы, удерживая на плечах носилки с какими-то божками или, может, святынями. Повсюду гремели, отбивая странные ритмы, барабаны, но, сколько я ни оглядывался, ни одного барабанщика не заметил.
К девяти вечера я начал подумывать о том, что пора отправляться домой, но с какой бы стороны на станцию ни спускался, никак не мог вспомнить названия нужной ветки. Пытался спрашивать встречных, но никто из них не понимал по-английски, а если и понимал, то не желал тратить на меня время. Наткнувшись на белую женщину со светлыми волосами, я едва не обнял ее, как родную. Но, стоило спросить: «Простите, не могли бы вы помочь мне найти поезд на Усику?» – она открыла рот и ответила на каком-то языке, на английский ничуть не похожем.
– Сумимасэн!!! – в отчаянии заорал я, не обращаясь ни к кому конкретно, но слов, что помогли бы отыскать дорогу, у меня не было.
Отыскать дорогу, отыскать дорогу… Проклятие всей моей жизни! Выбившись из сил, я опустился на ближайшую станционную скамейку и задумался. О том, что дома, в Штатах, всегда точно знал, куда идти. О том, как нечестно поступил папа, заставив нас всех ехать с ним… Впрочем, эту последнюю мысль пришлось пересмотреть. Вовсе он нас не заставлял. Поехать в Японию хотелось всем, кроме меня. А против большинства не попрешь, пусть даже большинство порой заблуждается. Хотя, если вдуматься, лично для меня единственным приятным впечатлением после переезда был этот самый лесной храм и встреча с рыжей лисой. И даже лиса эта куда-то пропала…
Около полуночи я поднялся и предпринял еще попытку найти свой поезд, и всего через пару минут увидел самую странную японскую девчонку из всех, какие только мне попадались.
Она стояла на платформе и ждала поезда. На ней был один из тех самых звериных костюмов, как на девчонках, которых я видел днем. Она нарядилась лисой – рыжей, с круглым белым пятном на животе. Капюшон откинула на спину, так что лицо ее я видел отчетливо. Именно лицо – а вовсе не костюм, или там сумочка в одной руке, а пышный рыжий хвост в другой – и оказалось в ней самым странным. И даже не столько лицо, сколько глаза. Лицо-то ее было японским, а вот глаза – зелеными!
Я заморгал, тут же вспомнив свою рыжую лисицу из Ами, и склонил голову набок – совсем как в тот день у лесного храма. И, наверное, глазел на нее довольно долго: когда я, наконец, стряхнул с себя оцепенение, то обнаружил, что она тоже смотрит на меня и улыбается. Заметив мое возвращение к реальности, она прикрыла ладонью губы и захихикала.
Я влюбился в нее в тот же миг. Ну, вроде бы. Это вправду было что-то наподобие любви, но какой-то непонятной, противоречивой. Как можно влюбиться в девчонку, одетую в лисий костюм, и не задуматься, в своем ли ты уме? Но, как бы там ни было, это чувство меня подстегнуло. Рука сама собой, помимо моей воли, поднялась, будто я собирался о чем-то спросить учителя, а к тому времени, когда я осознал, что делаю, девчонка уже двинулась ко мне.
– Похоже, ты заблудился, – сказала она. – Давай помогу?
– Ты говоришь по-английски? – удивился я.
Девчонка кивнула.
– Да, говорю кое-как. Здесь многие говорят.
– Из тех, кого я спрашивал, никто не говорил.
– Значит, просто не тех спрашивал. Ты куда едешь?
– В Ами, – ответил я.
Девчонка изумленно вскинула брови.
– Хонто ни? – протянула она, совсем как ведущий из того телешоу, над которым хихикала Лиз, и указала на собственный нос. – Ами мати ни сундэ имасу[38].
Заметив мое недоумение, она снова перешла на английский.
– Прости. Это от неожиданности. Я тоже живу в Ами. Идем со мной.
– Мне можно поехать с тобой? – переспросил я.
– Да, – подтвердила она. – Идем, провожу.
Что самое смешное, бродил я по той самой линии, которую и искал. Просто ни на одной из табличек Усику не значилась как конечная. Но на это мне было плевать. Я просто радовался, что наконец-то еду домой. Вагон оказался набит битком, но мы ухитрились сесть, иначе пришлось бы стоять, держась за ременные петли над головой. Когда мы уселись, я повернулся к ней и сказал:
– Меня зовут Элия.