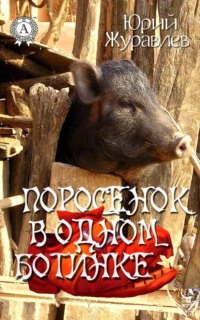Полная версия
Псы в городе волка

Юрий Журавлёв
Псы в городе волка
Предисловие
Старый чукча, с трудом передвигая ноги, на исходе второго дня пути подошёл к Золотой долине. Горький ветер тундры трепал его изношенные одежды и путался в космах седых волос. Ещё до того, как солнце уйдёт за сопку, он будет на месте. Скорее всего, это будет последний закат в его жизни и больше он никогда не увидит красок тундры и никогда не почувствует её запахов…
Фигура человека в военной форме появилась перед ним внезапно и перегородила дорогу:
– Сюда нельзя, – офицер предупреждающе поднял руку вверх, – назад!
Старик попытался обойти стороной внезапное препятствие, но человек грозно двинулся ему наперерез и махнул рукой:
– Уходи отсюда!
Чукча остановился и стал беспомощно озираться по сторонам. Он никак не мог понять, откуда взялся здесь этот человек с автоматом и почему он не хочет пропустить его в долину. Туда всегда уходили все старики. Теперь пришла и его пора. Был трудный путь, и вот, когда он, казалось, был окончен, его прогоняют прочь. Человек в форме был неумолим:
– Уходи! Иди умирать в другое место!
Старик, казалось, застыл, превратившись в камень, но потом, он всё же развернулся и побрёл обратно, подгоняемый в спину порывами ветра. Из глаз его катились слёзы…
Каждая история имеет своё начало. История этой воинской части берёт своё начало, наверное, даже не с высокой трибуны ООН, а с того момента, когда пещерный человек начал вооружаться и поднял с земли свой первый камень. Утихните, споры, но камни про запас он уже тогда начал складывать в угол своей пещеры!
С началом изготовления ядерного оружия появилась проблема его сохранности, особенно, когда его стало в достатке. Оружие огромной разрушительной силы, достаточной для того, чтобы уничтожить добрую половину мира, необходимо было где-то хранить. Очень надёжно хранить. Это вам не гранаты или патроны, которых никто особо-то и не считает. Здесь просто так не положишь на долгие года. Ядерное оружие требует к себе постоянного внимания. Его необходимо снаряжать, перезаряжать, тестировать и отслужившее сроки, слава Богу, – утилизировать. Поскольку, штука она мощная и опасная, то им, соответственно, занимаются специально обученные люди, в специальных местах. Одно из таких мест – Магадан-11, он же Анадырь-1, он же – показавший своё лицо всему миру посёлок Гудым.
Уходит старый чукча прочь, а за лиманом на пристани города Анадырь разгружаются пароходы, доставившие в этот далёкий край военных людей и оборудование с техникой. Кругом вавилонское столпотворение, – причал забит грузами, одних бочек с топливом – до неба! Ещё бы, дело-то государственной важности, да и вопрос нешуточный. Это у них там «Быть или не быть», здесь необходимо было только выжить.
Шёл восьмой год после того, как отгрохотала канонада второй мировой, а за спиной офицера, прогнавшего старика, уже разворачивалось большое строительство. Между двух высоких сопок, в ложбине, по дну которой протекала извилистая речушка, окружённый со всех сторон бескрайней тундрой, начал расти необычный городок. Вся его необычность была в том, что его как бы и не было вовсе. Нет, на самом деле-то он, конечно, был. И первые здания, построенные в нём, были самые необходимые: школа, госпиталь, детсад, дизельная электростанция.
Сами строители, или, правильнее сказать, первопроходцы, жили в бараках, сколоченных из досок от упаковки оборудования, которое доставляли в это место с причала. Для послевоенного времени, вроде бы, ничего необычного – жить в бараках. Половина страны лежала в руинах, и бараки на их фоне выглядели дворцами с удобствами. Первые переселенцы были обыкновенными людьми, не имеющими навыков выживания, какие веками вырабатывались у коренного населения Чукотки. Сказать, что там суровый климат, это просто отговориться.
Возьмите крепкий мороз, добавьте высокую влажность, для начала процентов в шестьдесят, приоткройте немного дверь, чтобы тянуло таким несильным, но постоянным сквознячком, и через полчаса вам захочется всё это убрать. Поверьте, ватную куртку и пару тёплого белья эта смесь пронизывает насквозь! Именно Чукотские морозы пожаловали осенью сорок первого в Подмосковье.
Пургу очень трудно сравнить с чем-нибудь. Это произведение искусства чукотской кухни погоды. Она, как и снежинка, никогда не повторяется, и всё время преподносит что-нибудь новенькое. То вдруг она морозная до минус двух, с короткими ледяными иголками, то с ярким солнцем и круглыми мелкими снежными шариками, дует неделю со стабильным плюсом до пяти. С почти ласковым ветром и внезапными, сбивающими с ног, порывами, и совсем дикая и обезумевшая, беспощадно сметающая всё на своём пути с обжигающей лицо острой ледяной крупой. Самое страшное, что её никак нельзя выключить. Горе и беда тому, кого она застала в пути.
Ни в пургу, мороз и короткий летний миг, никто не мог и догадываться, что происходит в этом месте. Пока московские метростроевцы грызли южную сопку, погружаясь всё глубже в её недра, край стали интенсивно осваивать военные. Построили аэродром, сначала грунтовый, покрытый специальными стальными листами, потом полосу в три с половиной километра забетонировали. Навезли массу военной техники. Всё это военные разместили вдалеке и неподалёку, и принялись, не задавая лишних вопросов, служить Родине.
Не год и не два продолжали грызть изнутри гору столичные специалисты, итог их работы – штольни длиной в 1750 метров, с массой помещений внутри и огромным операционным залом, похожим на станцию метро. Для поддержания температуры, в «сооружение» было протянуто отопление от огромной котельной, расположенной в центре городка. Эта военная пещера сказочного Али-Бабы была укомплектована по последнему слову техники. Мощная система вентиляции обеспечивала свежесть воздуха, как для людей, так и для «изделий». Диковинная штука, кондиционер, о которой мало кто тогда вообще слышал и имел представление, независимо от времени года, обеспечивала заданную влажность внутри всего хранилища. Система электропитания имелась автономная, и «сооружение», в случае чего, спокойно могло пережить любой катаклизм, стоило только прикрыть многотонные ворота на обоих входах.
Здесь вам не Интернет, и поэтому рассказа про «то, как падали контейнеры с ядерными боеприпасами», не будет. За ядерным щитом Родины стоят люди, которые, в силу специфики своей профессии, обязаны быть глухонемыми. И не стоит на них обижаться, ведь то, с чем они имеют дело…
Мне довелось в течении двух лет стоять перед этим щитом. Тогда за моей спиной были только оголовки этого места, которые назывались порталами. Никакими другими словами это место, локально огороженное на технической территории, никто никогда не называл. Говорили или «там, на порталах» или «в сопке». Имя полковника Гудыма, по негласной истории строительства части, упоминали в узком солдатском кругу и не слишком громко.
В самом городке проживало около полутора тысяч человек, включая пятьсот человек срочников и около сотни офицеров и прапорщиков, носивших красивую форму лётчиков. Остальные – рабочие и служащие, которые занимались ведением всего внутреннего хозяйства городка, также их семьи. Квартировали офицеры второго городка со своими семьями. Мы по простоте называли их пехотой. Солдат-срочников оттуда, до 1986 года, в городке можно было пересчитать на пальцах одной руки. Рота военных строителей, из посёлка Угольные Копи, в количестве бесшабашной сотни, строила каменные дома для проживания растущего населения.
Все годы городок был «полная чаша», и не только по сравнению со столицей края, но и с любыми другими крупными городами. Отгороженные от всего внешнего мира, люди жили большой семьёй, где подгулявший вчерашний солдат – срочник мог запросто зайти к любым своим новым соседям, на обед или ужин. Принимали всех одинаково – с теплотой и радушием.
Первая ремонтно-техническая бригада появилась в городке вместе с первыми жителями в 1958 году. В этом же году в сооружение доставили и первые специзделия. С этого момента и начинается история стратегического объекта «С». По своему непосредственному назначению объект прослужил двадцать восемь лет. Если бы не известные политические события, то никто и никогда бы не узнал бы такого городка на Чукотке, с заковыристым украинским названием.
Первая часть
Ты не веришь – клянусь Аллахом
Целый лес утонул в муке,
И дороги блестят, как сахар,
Он растает в твоей руке.
Там на ветках туман клубится,
Что верблюжьей белей слюны,
У людей голубые лица,
Как под звездами лик луны.
Я клянусь – не жевать мне хлеба,
Чтобы так не видал нигде,
Они ходят по тверди неба
Той, что плавает в их воде.
Ты не веришь – клянусь Аллахом
Там вода твердеет, как сок
И кружит, рассыпаясь прахом,
Как в пустыне летит песок.
Люди знали цена мизинца
Этим бредням и мчались прочь,
Но потом со слов абиссинца
Все же долго смотрели в ночь…
Анатолий ГордукаловКрай холодного солнца ещё не показался из-за сопки, но его первые лучи, растекаясь по стылому небу багряным заревом, уже разделили небо и землю, и в Золотую долину робко ступил новый день. Ночь, прячась в робкие тени, хитрой северной лисицей, нехотя отступала, она понимала всю безнадёжность своего положения, но не собиралась так просто сдаваться и поэтому ловко скользнула под огромную сопку, закрывавшую собой добрую половину начинающего светлеть неба. Заплакали и погасли последние звезды, рассыпаясь в мелкую пыль утренней росы, которая влажным сверкающим ковром легла на землю.
В долине показалось солнце, и ночь, забеспокоившись, прижала уши и закрутилась волчком на месте, попыталась высунуть морду на свет, но тут же обожглась, тихонько заскулила и забилась в каменный распадок русла сухого ручья под сопкой, где глубоко вздохнула и затихла до вечера.
Заиграл хрусталь небесный в солнечных лучах, всполошился от горячего малинового на востоке, до холодной синевы, что красят небо с той, западной стороны, воды глубокого лимана.
Зазвенела чистотой воздуха долина на самой своей высокой ноте, рванулась ввысь и вернулась обратно искрящимся на солнце инеем, который моментально покрыл собой всю невысокую растительность, прижатую к земле простором сурового климата.
Солнце оторвалось от земли и покатилось по небу, отражаясь в крохотных блюдцах озёр, разбросанных и здесь и там по кочковатой тундре, над которой высились вековые сопки, давно пустившие свои корни в вечную мерзлоту. Загорелись на солнце ледяные алмазы, вспыхнули ярким многоцветьем, недолго покрасовались, и тут же, подёрнувшись пеплом, просели и потекли каплями воды с крошечных листьев.
Как и тысячу лет назад, в это же самое время, очередной день пришёл в долину.
Лёгкий и скорый ветерок принёс откуда-то со стороны посторонний звук, потревоживший чуткий сон седого пса, дремавшего под перекрытием старого окопа давным-давно отслужившей своё линии обороны, непонятно от кого и зачем построенной в этом крае. Веки пса дрогнули и он, открыв глаза, не мигая, уставился в пустоту окопа перед ним. Звук, который нарушил скорее забытьё, чем неверный сон, не повторился и напрасно пес, напрягая свой слух, крутил ушами, – кроме тихого и ровного дыхания отдыхающих рядом товарищей, ничего не было слышно. Издалека до чуткого уха долетел тревожный крик чайки, но он был очень слабый и такой далёкий, что даже ветер, тихо шелестевший листьями травы, почти перекрывал его.
Седой пёс прикрыл глаза и снова попытался забыться, но невесомый сон растворился в воздухе и бесследно пропал вместе с остатками ночи неизвестно где. Пёс никак не мог вспомнить свой короткий сон, который так некстати был прерван на самом интересном месте. Сон был хорошим, как удачная охота, нежным и вкусным, как материнское молоко, только, вот, про что он, – никак не вспомнить. Может быть, он был про далёкое детство, ведь было же когда-то у него детство, беззаботное, щенячье…
Неподалёку, из жёстко сплетённой растительности, внезапно вынырнул молодой суслик и, прислушиваясь, застыл невысоким столбиком. Он уже почувствовал присутствие псов, их запах принёс свежий утренний ветер, и теперь, сильно перетрусивший от такого соседства, зверёк должен был предупредить своих сородичей об опасности. От одной мысли, что ему придётся поднять тревогу и тем самым, может быть, навлечь на себя смертельную опасность, бедный суслик, эта несчастная земляная белка, чуть не помер от страха, который сначала загнал его в самую дальнюю и безопасную часть его хитроумно вырытого подземного жилища и держал там некоторое время. Страх перед смертью холодными тисками сдавил затрепетавшее сердечко и уже подбирался к горлу, норовя перехватить дыхание, как что-то, доселе незнакомое и неведомое трусишке, внезапно подхватило его своей сильной рукой и вынесло прочь из спасительного убежища, и вот теперь, окончательно побеждая труса, зверёк громким кличем подаёт сигнал:
– Тревога! – быстрее пули, молнией летит весть, – Тревога! – как сильно бьётся отважное сердце в подбородок, – Тревога! – прочь страх и пусть громко стучит в висках, но зато теперь я – самая отважная земляная белка!
Не рык звериный и не птичий крик летит над рыжей тундрой, а пронзительный и стремительный громкий клич земляной белки разносится окрест, предупреждая всех об опасности.
Прокричал и рухнул вниз, потратив все свои силы на этот крик. Упал и прислушался, – уж не подкрадывается ли кто ненароком, а то так громко кричал, что сам ничего из-за собственного крика и не слышал, но снаружи пока не доносилось никаких тревожных звуков, лишь вдалеке кто-то из сородичей ответил на его, потревоживший утреннюю тишину, клич.
Псы в старом окопе разом вскинули головы и посмотрели на седого вожака, – тот длинно и неторопливо потянулся и, прогоняя остатки сна, широко зевнул, громко клацнув при этом зубами:
– Евражки, глупые, трусливые суслики. – Он пристально посмотрел каждому товарищу в глаза, но никто не отвёл и не спрятал своего взгляда, – Нам пора…
По осыпавшемуся мелкому гравию псы выбрались из своего убежища наружу. С высоты крутого склона, залитая ярким светом, долина лежала как на ладони, которую неведомый Создатель держал «лодочкой», согнув ровно на столько, сколько было необходимо для того, чтобы здесь обязательно когда-нибудь зародилась и пустила свои корни необыкновенная сила жизни.
Омытый утренней росой, приземистый кустарник, несмотря на свою кривизну, закрученную многими годами, в это утро выглядел помолодевшим. Его пожухлая листва уже почувствовала на себе ледяное дыхание приближающейся зимы, она поменяла цвет и, умирая, стала скручиваться, теряя жизненные силы. Уходящий в корни сок накрепко прикрепил эти корявые, и, теперь уже совсем не похожие на недавно распустившуюся весеннюю молодь листья, к коротким и жёстким прутьям, по которым к ним поступали из земли силы, всю такую их недолгую летнюю жизнь. Зимой ни суровые морозы не смогут разъединить эту связь мёртвых листьев со своими корнями, ни бесноватая пурга, под напором которой здесь прогибаются даже горы, будет бессильна оторвать их, и лишь когда стают снега и быстрыми потоками умчатся с этих сопок к океану, лишь тогда, подвластная невидимому дирижёру, земля отдаст свой сок, новая сила зародится и, выходя на свет, сбросит с ветки старый лист, чтобы развернуть и протянуть навстречу вечному солнцу новый. Старые же листья покорно лягут на землю и многие из них, подхваченные шальными ветрами, унесутся далеко от этого места, размолотые в пыль об острые скалы, пропадут где-то в огромном и безбрежном океане, и только в коротких снах, слезами неба, некоторым из них суждено вернуться обратно.
Неторопливо огибая редкие кусты, псы стали спускаться вниз к старой дороге, ловко перепрыгивая с покрытых седым мхом валунов на колотую скальную породу, с опасными, ещё не зашлифованными временем, острыми краями, в беспорядке рассыпанную по всему склону тесно прижавшихся друг к другу огромных сопок, высокой стеной отгородивших долину от остального мира.
Молодой суслик, опьянённый собственной храбростью, стоял на задних лапках и, вытягиваясь вперёд, завороженно смотрел псам вслед, – ведь только что своим пронзительным криком ему удалось прогнать опасного врага со своей территории и теперь его дому ничего не угрожает. Гордость распирала его в разные стороны, а его маленькому отважному сердцу вдруг стало тесно в груди и оно уже вовсю норовило выскочить наружу.
Стая вышла на старую дорогу и стала дальше спускаться по ней в долину, туда, где извилистая речка на неширокой равнине вязала свои замысловатые петли. Следом за ними, по склону, лавиной катился клич потревоженных сусликов:
– Смотрите! Псы вернулись в город!
Стая, не обращая на этот крик никакого внимания, уверенно двигалась за своим вожаком. Возле разбитого моста она перешла речку вброд и растворилась в утренней дымке, задержавшейся в низине в этот час.
– Они, всё-таки, вернулись! – катилось эхом по долине, – Они вернулись…
В неширокой комнате старого общежития, вытянутой от окна до двери на длину двух серых железных кроватей и одного, когда-то крашеного в кирпичный цвет табурета, показалось нестерпимо душно, несмотря на утреннюю свежесть, пробиравшуюся снаружи через все прорехи старой оконной рамы. Лёшка Ухватов с трудом разлепил веки и попытался поймать глазом уплывающую куда-то в сторону, светлеющую за окном, муть. Облизав сухим языком потрескавшиеся губы, сглотнул пустоту, и, широко открыв рот, словно рыба, принялся глотать тяжёлый воздух, который моментально иссушил язык и нёбо. Лёшка почувствовал себя маленьким пересохшим ручьём посередине такой огромной пустыни горячего жёлтого песка, что, будь он сейчас птицей и поднимись на всю силу своих крыльев, до самого конца неба, то и оттуда ему было бы не увидать, в какой стороне заканчиваются эти раскалённые россыпи.
От такой высокой мысли, непонятно каким образом посетившей его спозаранку, затуманенная Лёшкина голова пошла кругом, а перед глазами заплясали неясные серые тени, и в довершение всего откуда-то снизу, вырываясь из прокисшего желудка наружу, к горлу подкатила тошнота. Крепко схватив голову руками, Лёшка собрал все сохранившиеся в разбитом теле силы и попытался подняться с кровати. Внизу тоскливыми сверчками запели свою песню уставшие пружины, застучало в висках, и заухал филином по голове потолок с обвалившейся штукатуркой. На первом шагу комната сорвалась со своего места и стала надвигаться на Лёшку противоположной стеной, норовя раздавить его своей массой. Придерживая одной рукой коварно раскачивающуюся стену, двумя пальцами другой Лёшка долго выковыривал из распотрошённой пачки папиросу. Пачка, перекатывая внутри себя пару-тройку последних папирос, прятала их по своим углам, изворачиваясь по-всякому, норовила выскользнуть из-под непослушных пальцев. С большим трудом пришлось прижать её к стене, и только там она, наконец-то, рассталась со своей формой и содержимым.
Скользя по стене ладонью, стараясь сохранять равновесие и не опускать голову книзу, Лёшка осторожно присел. Свободными пальцами другой руки схватил за пробку пластиковую бутылку, слегка качнул её в сторону, – та ответила ему приятной налитой тяжестью. Медленно выпрямив колени, осторожно отпустил успокоившуюся стену. В голове колготилась единственная мысль: «Хочу в баню!» Лёшка потянул на себя облезлую дверь и ступил в длинный и унылый коридор общежития. Шлёпая босыми ногами по разъехавшимся в стороны, протёртым наполовину своей толщины доскам, он вышел на остатки крыльца, где, жадно глотнув воды из бутылки, засмолил папиросу. Стоя под навесом, неторопливо курил её, горькую, но с утра ещё такую, по-особому притягательно-желанную, выпуская тоненькой струйкой густой дым в сторону громады сопки, нависающей над всем окружающим пространством своей безжизненной округлой вершиной. Сизый дым папироски, отдаляясь, бесследно пропадал, растворяясь в чистом утреннем воздухе всего в паре метров от Лёшкиного носа, совершенно не причиняя сопке никакого ущерба.
– Проклятая гора, да чтобы ты провалилась сквозь землю, или на куски рассыпалась! – зашипел Лёшка сквозь зубы на сопку.
Гася в себе внутреннюю дрожь, Лёшка отшвырнул окурок в сторону, затем поднял бутылку и, скрутив пробку, стал медленно тянуть из горлышка живительную влагу. Наполненный желудок забулькал и в ответ быстро ударил в нос резкой отрыжкой:
– Фуу! – выдохнул и поморщился Лёшка, – Какая гадость! Тьфу! – он зло сплюнул, – Ну и поганое тут место, и угораздило же меня, дурака, сюда по доброй воле приехать! – он замахнулся на сопку кулаком, – Провались, ты, зараза!
Гора дрогнула и зашлась хохотом, беззвучно подпрыгнув на месте. У Лёшки тут же согнулись ноги в коленках, и он почувствовал, как его резко качнуло и потащило куда-то в сторону. Сопротивляясь и теряя равновесие, он попытался выпрямить коленки, но, сделав первый неловкий шаг и не почувствовав под ногой опоры, стал проваливаться вниз. В отчаянной попытке, пальцы судорожно вцепились в старые деревянные перила, и надежда, радостно промелькнувшая в голове, где-то возле затылка, сначала жутко заскрипела и потом, словно выстрел, сухо треснула и рухнула вместе со всей, подточенной временем, конструкцией перил, не выдержавших даже небольшого Лёшкиного веса.
Звук с вершины сопки вернулся быстрее, чем Лёшка успел сообразить, что же такое с ним произошло. Он приподнялся на локтях и, насколько это было возможно, вывернул свою, ничего не понимающую голову в сторону горы, прислушался, и вдруг, неожиданно для самого себя, спросил у неё:
– Ты это чего?
Гора в ответ хранила гордое молчание, и напрасно Лёшка напрягал слух, – вокруг было так же тихо, словно ничего не произошло, лишь где-то глубоко в его организме что-то судорожно сжималось, да в желудке слабо бурлила потревоженная падением жидкость. На всякий случай, Лёшка осторожно подрыгал ногой, – та была на месте, нехотя отозвалась и вторая. По телу густо пробежали мурашки и взъерошили на голове волосы, хотя тело совсем не чувствовало холода. По-очереди подогнув колени, Лёшка встал на четвереньки и попытался уже было подняться на ноги, как вдруг в голову бросился огненный шар и, разлетевшись внутри раскалёнными брызгами, согнул пополам его тощую фигуру, внутри которой всё заметалось в тревожной панике.
– Ыых! – выдохнул Лёшка и, крепко зажмурив глаза, замер, как ныряльщик, что летит с высоты в бездну, в ожидании того момента, когда вода, сильно растянутой плёнкой, со всего размаха, больно хлестанёт его по лицу.
Шар собрался воедино и, сильно толкнув в желудок, попытался выбить его наружу. В ответ Лёшка только сильнее сжал зубы и мысленно попытался откатить этот противный комок куда-нибудь подальше. Шар медленно откатился назад, и не успел Лёшка коротко вдохнуть, как ему снова пришлось сцепить свои зубы, – шар быстро вернулся и, что было силы, врезал Лёшке под дых! Тяжёлая корявая масса подпрыгнула в желудке и, с завидной быстротой и лёгкостью, обдирая своими острыми краями нежные внутренности, покатила наружу, набирая с каждой секундой всё больше и больше скорости.
– Ааыых! – вырвалось из Лёшки вместе с тугой струёй, ударившей в землю, – Тьфу, тьфу! – сплёвывал он тягучую слюну, которая прилипла к верхней губе и никак не хотела отрываться, – Тьфу-у!
Желудок, резко сжимаясь, норовил выскочить через ободранное горло, а Лёшка, согнувшись крючком, хватал открытым ртом короткие порции воздуха, пытаясь утихомирить свой организм, явно пошедший в разнос.
– Ничего, ничего, – отплёвываясь, шептал какими-то чужими губами Лёшка, – потом будет легче, обязательно будет, – выплёвывал скороговоркой слова и снова внезапно загибался в скрутившем всё его тело рвотном приступе.
Сорвав пальцами с губ тугую резиновую слюну, Лёшка поднял голову и тут же столкнулся взглядом с крупным псом, выросшим, словно из-под земли, и неподвижно застывшим метрах в пяти от него. Пёс, не мигая, с немым укором смотрел прямо в Лёшкины глаза. Тот зажмурился и замотал головой, пытаясь прогнать неожиданное видение, но пёс никуда не пропадал и всё так же, не сходя со своего места, смотрел на Лёшку.
– Тебе чего, собачка? – дрогнувшим голосом спросил Лёшка.
Подпалины на, словно отлитой из серебра, фигуре пса, размытые утренними сумерками, уже не могли полностью скрыть его от посторонних глаз и он, теперь уже не таясь, смотрел прямо на застывшего перед ним на четвереньках человека. Всё напряжение, поставленной на взвод боевой пружины, скрывала холодная неподвижность пса, он казался каким-то застывшим, неживым, и только тёмный, подрагивающий кончик влажного носа, говорил об обратном.
«Принюхивается, гад, изучает», – пряча свои глаза, подумал Лёшка и попятился назад. Подобрав на земле увесистый стальной прут, он медленно поднялся с колен и огляделся в поисках собаки.
Пса нигде не было видно и Лёшка, крепко схватив двумя руками железяку, поманил, поворачиваясь в разные стороны: