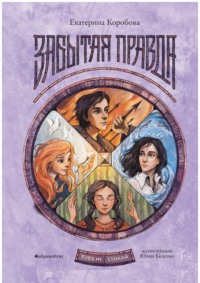Полная версия
На Онатару. Книга 1. Душа змея
Сегодня Никола шагнул влево, к стеллажам, уставленным иномирскими книгами. Компьютерами для хранения своих знаний иномирцы надменно пренебрегли – как предпочитали это делать всякий раз, когда можно было избежать столкновения с техникой. Дети Великого Змея не боялись изделий из металла. Просто почти до ненависти презирали – оттого и было для них нынешнее странствие порой настоящей пыткой. Свои сказания в этот путь они забрали на пожелтевших страницах старых томов.
Никола сперва заставлял себя читать эти книги, чтобы не огорчать Вяза и побыстрее выучить иномирский. Затем, смирившись с невозможностью стать своим, – чтобы начать хоть немного понимать происходившее. Отыскать что-то в книге почти всегда было проще, чем разобраться в путаных объяснениях Лавра. А потом пришла неожиданная радость узнавания. Никола читал историю морского народа – в знак траура Ива сделала обложки для этих томов из черного сукна – и понимал, откуда в книгах его мира взялись мавки, русалки, водяные, сирены, морские нимфы и еще бессчетное количество невероятных водных обитателей. Истории лесных иномирцев тесно переплетались с легендами об оборотнях всех мастей, существовавших почти в каждой культуре. Страшная нечисть, которой, судя по книгам, любили пугать земных детей, поразительно ложилась на знания Николы о том, какие видения умели насылать на людей разозленные иномирцы. Феи, эльфы, пикси – чем больше он читал, тем яснее понимал, сколько же всего на самом деле просочилось к людям через О́кна. Никола даже хотел показать земные сказки про леших и других хранителей леса Старому Ою, но так и не решился. Хотя для себя все же уяснил, что не так уж редко в былые времена иномирцы захаживали в людские земли.
Он полюбил иномирский отсек библиотеки. Бережно сопоставил даты закрытия большинства Окон с тем, что происходило в это время в его родном мире. Технологии, наука и прогресс ужасали иномирцев настолько, что они решились навсегда закрыть Окна. В нынешнем положении змеиного народа Николе виделось очень много злой иронии, но он ни разу не посмел заговорить об этом с кем-то.
Он быстро нашел нужную полку и оставленную на ней вчера книгу о жеребьевке. «Главная Игра», – значилось золотым на темно-алом. Главная Игра, Большая Беда. Страсть все возвышать неизбежно приобреталась за тысячелетия долгой жизни, хотя самому Николе казалось, что все должно было быть ровно наоборот. Что можно считать величественнее самого себя, когда тебе почти неведомы ни изъяны, ни ход времени?
Никола бережно погладил обложку, провел пальцем по ровному срезу. Бумага внутри была плотной и гладкой, каждая буква – безукоризненно выведенной. Великолепная работа. Иномирцы все делали на века – долго, кропотливо, с бесконечной преданностью ремеслу. Ручной труд ценился, кажется, превыше всех прочих, и все, что создавалось, было штучным и превосходным по качеству. Горсть любовно выращенных ягод насыщала, как полноценное застолье, сшитая одежда очень долго не рвалась и не изнашивалась, глиняные чаши и кубки при всей легкости были прочнее камня.
Под стать своим хозяевам.
Вчера Никола закончил читать прямо тут, на полу между стеллажами, прислонившись спиной к резному дереву одной из полок. Испугался, захлопнул книгу, обещал себе больше не возвращаться. И пришел сегодня.
Никола бездумно перелистывал страницы раздела о змеях. Змеи, чьи величественные тела, сердца и половины душ спали в горах, лесах, оврагах и пробуждались после Цветения. Змеи, искавшие вторую часть своей души среди иномирцев – чтобы соединиться и воспрянуть окончательно. О том, куда при этом девался сам иномирец, написано было очень коротко и уклончиво. Для остальных он как будто исчезал, сливаясь телом со змеем, – это все, что Никола понял. Возвращался туда, где ему и положено быть, – в самое сердце пробудившегося чудовища.
Дальше шли главы о том, что умели иномирские змеи, и там понять написанное было легче. Больше всего иномирцы ценили их за способность открывать Окна в иной – человеческий – мир, но вот в описаниях этих Окон Никола вновь безнадежно запутался.
Сложнее (и страшнее) всего было читать про выбор души. Игра начиналась вместе с вытягиванием карты, значение которой нужно было хранить в секрете вплоть до самого пробуждения змея на третий день. Иначе Игра обрывалась – и жди беды, а уж в бедах иномирцы знали толк. О том, почему душой становился именно тот, на кого выпал жребий, зачем нужно было молчание, при чем тут Белое Цветение и почему для жеребьевки всегда брали старую колоду карт, было написано очень много, местами даже в стихах, но Никола не знал и половины этих слов. Он путался, перечитывал, выписывал на клочок бумаги короткие фразы (Ива пришла бы в ужас, узнай, что он так расходует запасы писчих принадлежностей), но так до конца и не разобрался.
– И это все? – спросил накануне вечером Никола Лавра. – Вытащить жребий и ждать? Змей… – он осторожно подбирал слова, избегая произносить «магия» и «волшебство»: иномирцы ненавидели эти названия, насквозь пропитанные людскими мыслями и человеческим страхом, – сам как-то все поймет? И это вся Игра? Просто вытянуть карту и трое суток молчать о ней, пока где-то что-то происходит?
Лавр на миг задумался.
– А этого разве мало? С такими-то последствиями?
* * *– Я не заметил, как ты улизнул, – Лавр хлопнул Николу по плечу. От неожиданности тот вздрогнул и чуть не выронил книгу. Где-то вдали послышалось недовольное ворчание Ивы. – Опять про Игру? Я думал, ты сказал, что все уже прочитал.
Никола закрыл книгу.
– Так и есть. Просто хотел еще раз… Посмотреть.
– Чего ты так волнуешься? Не тебе же карты тянуть.
Никола осторожно поставил книгу на полку и взглянул на беспечно улыбающегося Лавра.
– Но вы-то будете тянуть. Ты. Вяз. Элоиза с Льдинией. Вдруг один из вас исчезнет?
– Ой да ладно. Нормально все будет. Во-первых, ну каковы шансы? И потом – ну это вроде как даже честь.
– Тебе бы хотелось стать змеем? – не отставал Никола.
– Не очень, честно говоря, – Лавр почесал в затылке. – То есть это вроде весьма почетно и излечивает душевную тоску по полету… Но я на нее особенно и не жалуюсь. Почет почетом, но мне и собой быть неплохо. Думаю, со мной многие бы согласились, несмотря на весь этот шум и напыщенные лица. С другой стороны, это все же лучше смерти.
– А разве душа… – Никола вспомнил эту карту: темный силуэт на золотом фоне, – разве она не… Не исчезнет для остальных? Не станет крылатым змеем?
– Ну, во-первых, она вроде как и не исчезает, а, наоборот, обретает свою истинную сущность. А во-вторых, ты видишь тут змея? – Лавр развел руками. – Вот и я нет. Ну зацвело дерево, предсветник, как изволила выразиться Элоиза, пробуждения. Так мы летим уже сколько! Бедное растеньице, наверное, совсем с ума сошло и решило, что всё вокруг и есть тот самый змей. Дома почти все они уже много веков как заснули, обратившись в горы и холмы, и не думали даже просыпаться. И душ себе никаких уже вон сколько не требовали. А что с ними после больших бед стало – одному только небу известно.
Никола вздохнул. Ему и правда никогда было не понять до конца. Иномирцы обожали игры. Чтобы не сойти с ума от скуки в этом бесконечном путешествии, они прихватили с собой и земные шахматы, нарды и го[2] (их, впрочем, не слишком полюбили), и свои собственные – тяжелые коробки со множеством незнакомых фигурок и карт. Они проводили за ними немыслимые часы, целиком погруженные в эти партии; сам Великий Змей завещал им коротать века за играми. Но ни одно из этих развлечений и жеребьевок не предполагало таких потерь, какие были в этой Игре.
– Ну и зачем тогда все это?
– Потому что, мой друг Горацио[3], – к Шекспиру у иномирцев было совершенно особенное отношение: из всей человеческой истории он стал одним из тех немногих, кого они считали почти за своего, – за тысячу лет неизбежно становится очень-очень, ну просто невыносимо… – Лавр сделал театральную паузу, склонился к Николе и доверительно громко шепнул: – Скучно. И любой повод делается хорош.
Интермедия
В обоих мирах большие беды пришли с моря. Самая первая – здесь, в родном мире Николы, – случилась еще до его рождения: явилась степенно, неотвратимо, не таясь, и не было ей никакого дела до горстки тех, кто пытался противиться.
Николин отец звал ее иначе – экологической катастрофой.
Морская вода сделалась зеленой и желтой от разросшихся водорослей, а после – мертвой; яд незаметно растекся по тонким венам планеты, отравил в первую очередь самых маленьких, незаметных рыбешек, затем тех, кто питался ими, а потом следующих и следующих в этой вечной цепочке. Дожди тоже сдались и стали нести гибель. Кожа – под чешуей ли, мехом или тканью защитной куртки – покрывалась незаживающими язвами. Океан долго безропотно брал все это – химикаты, отходы, всевозможную отраву, – но и вернул щедро. Сполна.
Слово «чистота» приобрело совсем иной смысл. Оно больше не означало вытертую поверхность кухонной плиты или белизну отглаженного воротничка рубашки. Чистота стала смыслом, спасением, надеждой. Они все грезили тогда ею, бредили, делали все, чтобы опять стало чисто – достаточно чисто для того, чтобы вновь можно было жить. Сооружения, станции, фильтры. Но куда деть грязь, накопленную за десятилетия, расползшуюся по планете, затаившуюся в самых укромных уголках? Ее закапывали – и земля гибла; жгли – и воздух делался ядовитым; топили – и вода становилась отравленной. Все казалось безвыходным.
Пока не пришли «Спасители».
Они явились в самый нужный момент. Настоящие герои из сказок, пусть и не с мечами и не в латах, а в дорогих костюмах и с последними моделями сотовых телефонов. Лощеные, корректные, вежливые. С простыми, понятными на первый взгляд решениями. Какая разница, что именно «Спасители» собирались делать – если они обещали избавить мир от Большой Беды, пришедшей с моря? И в чистоте они действительно знали толк. На перерабатывающий завод стали свозить отходы со всего света. Быстро, эффективно, надежно – ровно так, как и обещалось в глянцевых рекламных буклетах. Ничего лишнего, полная безопасность для окружающей среды. «Спасители» вкладывали немыслимые деньги в строительство очистных сооружений и создание безопасного транспорта. Щедро спонсировали медицинские исследования и программы восстановления редких видов животных, спасали пострадавших от экологических катастроф.
Все сомнения и опасения, будто первым снегом, припорошила радость происходящего.
«Кажется, среди прочего, им правда очень хотелось помочь, – раз за разом сокрушался Петр, отец Николы. – Они брали смешные суммы за свой труд. И все равно прославились и разбогатели – таких масштабов была беда».
Земля не сразу, но вздохнула с облегчением. Воды снова сделались прозрачными и пригодными для жизни, дожди опять были утешением и наградой в дни засухи. Оковы ограничений спали, удушливый стыд наконец-то перестал терзать людей: все производство, которое они годами пытались сократить, снова работало в полную мощность – можно! больше! еще!
О крылатых (и немного ползучих)
Никола хорошо помнил, что в его мире крылатых змеев звали драконами и почему-то очень любили и уже совсем, кажется, не боялись. Сочиняли истории, рисовали картины, снимали фильмы. Еще одна сказка, перебравшаяся к людям от иномирцев и многократно преобразившаяся.
– Поразительно дурацкое слово, – сказал Лавр, когда Никола поделился с ним этой своей догадкой. – А все остальное – еще бо́льшая чушь. Ну и зачем бы иномирскому змею понадобился этот ваш драгоценный человеческий металл? Что ему с ним делать-то? Женщины ваши им, поверь, тоже не сдались. И вообще, разве у вас этим же словом какого-то злодея-деспота не звали?
Никола только пожал плечами. Проще было перечислить те человеческие вещи, которые иномирцам не казались дурацкими. Их возмущало или веселило почти все, начиная с технического прогресса (которым они все же снизошли воспользоваться) и заканчивая возмутительной идеей варки в кипящей воде засохших кусков теста («Как-как? Ма-ка-ро-ны?»).
Объяснять, что Дракон-афинянин[4] – совсем иная история, он и вовсе не стал.
Никола все равно продолжал читать и вспоминать о тех, человеческих, крылатых змеях. У него вроде даже была в детстве футболка со смешным пузатым дракончиком: нелепые короткие крылья, доверчивый глупый взгляд. Иномирцев бы хватил удар от такой карикатуры на прекрасных, крылатых, всемогущих.
Но футболка – Никола зажмуривался и представлял гладкое прикосновение отутюженной ткани к коже и химозный запах цветочного кондиционера для белья – навсегда осталась на Земле, вместе с комодом в маленькой детской, вместе с домом, где жили мама и папа. Это все Никола помнил очень хорошо.
Но потом – провал. Черный, матовый, гудящий беззвучием. Никола десятки раз обещал себе, что спросит Вяза, вот наберется храбрости и непременно спросит: как все произошло? Чье это было решение? Что сказали ему родители, когда обнимали, скорее всего, последний раз в жизни? Как он очутился на Корабле – почему-то узнать это было особенно важно: зашел сам? Его внесли? Вяз был рядом? Должен был быть. Вопросы множились, становились округлыми, гладкими, тяжелыми, Никола таскал их повсюду с собой годами, будто камни, но так и не решался заговорить.
Словно боялся того, что услышит.
Следующее, что Никола помнил уже очень хорошо – здесь, на Корабле, – кулак Лавра, летящий прямо в скулу. Как будто сам Никола заснул в своей земной кровати, а через секунду проснулся в рубашке, сшитой иномирцами, окруженный сплошным металлом, в ожидании неминуемой боли. Существовала еще, кажется, между этими двумя точками крошечная прореха, до краев заполненная му́кой расставания, но и она теперь едва ощущалась. Проносились в памяти и другие дни – горькие, одинокие, потерянные, слившиеся в сплошное серое марево.
Вяз тогда сумел растащить их только через полчаса. К тому времени на рубашках почти не осталось пуговиц, а на Николе и Лавре – мест без ссадин и ушибов. Никола был хоть и старше, но худее Лавра и ниже ростом, и дрался впервые в жизни – отчаянно и зло.
Вяз поставил их перед собой и покачал головой.
– Кто это начал? Что вы не поделили? – он обращался к ним на родном языке Николы, освоенном иномирцами за годы подготовки к полету.
– Не помню, – Никола осторожно дотронулся до распухшей губы.
– И я, – ответил Лавр, ощупывая разбитый нос.
Вяз вздохнул и склонился ближе к ним. Никола еще множество раз увидит этот его взгляд: сосредоточенный, печальный, обращенный куда-то к прошлому.
– Так дело не пойдет. Лавр, – Вяз повернулся к сыну, – это ведь ты начал?
Лавр воинственно сжал кулаки. Опустил взгляд. И пробурчал:
– Говорю же: не помню.
– Поразительный приступ забывчивости для создания, способного моментально выучить, в каком именно из тысячи сундуков в кладовой спрятали сладости. – Вяз сокрушенно вздохнул и перевел взгляд на Николу: – А ты? Тоже пал от эпидемии короткой памяти?
Никола молчал под пристальным выжидающим взглядом. Стало вдруг очень тихо, как будто на всем Корабле из звуков остались только хлюпанья разбитого носа Лавра. В следующие годы всякий раз, когда Лавр заступался за Николу – словами или кулаками; когда пробирался тайком ночью в его комнату, чтобы побыть рядом в секунды Николиной невыносимой тоски по дому; когда – пусть насмешливо, но терпеливо – объяснял, как что-то устроено в жизни иномирцев; когда неуклюже пытался его развеселить и подбодрить, – всякий раз Никола на миг слышал эту самую тишину.

– Ну и что мне прикажете делать? – Вяз распрямил спину. – Придется, похоже, вам обоим привести себя в порядок и показать Льдинии свои боевые ранения. А потом – отправиться к Кедру, помогать с посадками. Я слышал, это отличное средство от излишней драчливости и внезапных провалов в памяти.
Слабая улыбка, появившаяся было на лице Лавра, мгновенно исчезла.
– Только не к Кедру! – заканючил он. – Он по сто раз заставляет все переделывать. И у меня все руки будут в земле, и там такая скука-а-а… – последнее слово Лавр простонал.
– И слышать ничего не хочу, – отрезал Вяз. – К маме, быстро!
* * *– Почему ты вообще меня тогда ударил? – спросил Никола уже по-иномирски пару лет спустя, незадолго до того, как Лючия уснула. Они сидели вчетвером на полу в Куполе. Лючия вышивала, Элоиза – тогда еще совсем маленькая, кругленькая, едва научившаяся стоять на пухлых ножках – слюнявила огромную, с ее кулак величиной, алую ягоду, выданную Кедром.
– Ну ты решил вспомнить, – Лавр почесал затылок. – К отцу все-таки пойдешь, да? Мне готовиться рыхлить грядки?
– Ну тебя. Правда, я так и не понял. И вспомнить не могу.
Лавр, что случалось с ним очень редко, замялся. Лючия подняла взгляд от работы:
– Он не собирался сперва. Его Липа подбила.
Никола вздохнул. Липа. Ну конечно.
– Все-то ты знаешь. Я и сам, может, тоже хотел. Ты такой был хлюпик. Мы тебя не замечали, не брали в игры, не садились за один стол. А тебе будто и не надо было все это, копошился себе в углу, носом шмыгал. Как будто не давал себя… – Лавр вновь замялся. Сквозь чешую проступил румянец – эту особенность иномирцы демонстрировали миру совсем не часто.
– Наказать? – тихо подсказал Никола. – Наказать за то, что я человек, да? За то, что из-за людей все это случилось и мы оказались тут?
– Это Липа всем так говорила, Никола, – сказала Лючия, возвращаясь к вышивке. Она продела нитку в игольное ушко.
– Охотно верю.
– Справедливости ради, хлюпиком ты и остался, – Лавр улыбнулся.
Никола вспомнил все мучительные часы под надзором Ветивера в гимнастическом зале. Ненавистные уроки фехтования. Мяч, в который Лавр просто перестал с ним играть. И решил промолчать.
– Не всем хочется одними только кулаками махать, Лавр, – сказала Лючия, не отрывая взгляда от вышивки. Она положила новый стежок, и на золотом листе клена появилась красная прожилка.
Лавр насупился. Лючия сделала вид, что не замечает.
Она уже тогда отличалась от остальных иномирцев, будто готовилась к своему долгому забытью. Лючия была спокойнее и миролюбивее всех, кого знал Никола. Она принадлежала к морским иномирцам и, если бы Вяз не взял ее в свои воспитанницы, погибла бы, как и остальные. Лючия словно везде носила с собой широкую полноводную реку, с ее спокойствием и размеренностью водной глади. Всегда говорила честно и прямо, совсем ничего не боялась, и беды будто сами обходили ее стороной, пасуя перед этим бесстрашием. Там, где Лавр вспыхивал и лез в драку, она только равнодушно пожимала плечами. Лючии будто не было дела до чужих разговоров о дружбе с презренным человеком.
Никола и сам не знал, чем заслужил это.
* * *Глядя на улыбающегося Лавра, Никола вновь вспомнил ту драку. Сегодня он позволил бы избить себя и в десять раз сильнее, знай наперед, чем обернется в его жизни эта потасовка.
– Скучно, значит, – Никола последний раз провел рукой по гладкому корешку. – И как я сам не догадался? А настоящие змеи у иномирцев есть? – Очень уж то, как иномирцы произносили «змей», напоминало земное обозначение этих рептилий.
– Говорю же: спят все давно, – Лавр ленивым взглядом обвел библиотеку. – Ты их ни за что не отличишь от горы или равнины. Ну, их тела. Души же, возможно, все еще бродят среди нас… Слушай, это тоска под слоем пыли, честное слово.
– Да нет же. Видимо, все-таки нет. Идем, покажу, – Никола жестом позвал Лавра за собой и прошел на половину, где стояли компьютеры.
Нужная энциклопедия нашлась быстро. Лавр со смесью сомнения и отвращения покосился на экран.
– То есть хочешь сказать, что вот это вот – тоже змеи?
– Ага, – Никола листал изображения. Чешуя, ядовитые клыки, погремушки на хвостах. И никаких тебе крыльев, игр и вековой мудрости.
– Элоизе не рассказывай. Мир, который населяет вот такое, – Лавр разглядывал капюшон кобры, приготовившейся к прыжку, – беречь, конечно, труднее.
– Прям уж весь мир!.. Они в основном по расщелинам всяким вроде прятались… Но все равно нам стоило постараться сберечь его получше, – Никола выключил экран. Лавр с облегчением вздохнул. – Даже если змеи наши были не крылатые, а весьма себе ползучие.
Интермедия
Когда первая Беда уже случилась в мире людей, иномирцы еще пребывали в счастливом неведении. Их реальность к тому моменту уже будто застыла на много веков: Окна закрыты, все змеи спят, леса полны ягод и плодов. Вода щедра к морским иномирцам, и всех дел у их народов – жить в мире, складывать легенды о былом и играть в игры, как завещал Величайший из Змеев.
Тем страшнее оказалось пришедшее горе – вторая Большая Беда.
Иномирцы не сразу поняли, что же не так. Слишком привыкли быть неуязвимыми: во́йны давно в прошлом, чешуя такая прочная и блестящая, ничего ей не страшно – ни солнце, ни холод, ни хвори. Но они начали болеть – один за другим: глаза стали беспрестанно чесаться, по всему телу появились язвы, в легких поселился страшный кашель.
Бесповоротным и совсем страшным все стало в тот миг, когда море вдруг погубило своих обитателей, до последнего отказывавшихся покинуть родной дом.

…День был солнечный, самый разгар лета, на берегу тогда собралась целая толпа. Говорят, все будто окаменели от ужаса, даже раскормленные чайки приросли к месту, когда иномирцы вынесли на руках мертвых морских княжон. Головы тех безвольно запрокинулись, длинные волосы цвета тины доставали до белого песка, и с них стекала морская вода.
Стало вдруг очень тихо.
– Кто, – один из иномирцев вышел вперед; в том месте, где он прижимал к себе плечо княжны, на белой рубашке расплывалось мокрое пятно, – понесет ответ за это?
Морские иномирцы чувствовали себя одинаково свободно и под водой, и на суше, но все же предпочитали держаться особняком от лесных. Они заключали порой союзы, но случалось это не очень часто.
Оттого и о беде, приключившейся с ними, стало известно слишком поздно. Яд, отравлявший человеческие океаны, сгубил и иномирских княжон, пробывших среди смертоносных вод непозволительно долго. Они годами не покидали своих подводных дворцов и отказались уйти, когда в их владения пришла Беда. Ни одна из шести не оставила морского дна. Лесных князей, явившихся на зов, встретили только умирание и запустение.
Самая стойкая из княжон – Сага, прабабка Лючии, – перед смертью успела указать, откуда в иномирские воды попала отрава. Надо было всего-то дойти до устья реки и подняться по течению, чтобы закрыть проклятое Окно.
Вяз сразу же отправился туда, ведомый не только этими словами, но и напутствием самих земель, которые клялся защищать. Расскажи хоть кто-то из морских иномирцев об этой страшной беде раньше…
Река, вытекавшая из Чащи, конечно же, была полна яда.
Это была его земля – и тело Вяза болело ее болью. Он не позволил себе оплакать умерших – эти слезы можно будет пролить и потом, а вот найти источник беды надо было срочно.
Он слушал себя – и слушал эту землю. И ее реки были его венами, и поля – обнаженной кожей, и в дремучих лесах дикими зверями блуждали его мысли. Вяз шел за ними, не помня пути, позабыв себя. Тут все было отравлено, его дома больше не существовало, и он не знал, где укрыть тех, за кого нес ответ.
…Он выбрел туда, в самое сердце Чащи, на серой слепой заре. Остановился у ледяного родника и замер, не веря. Окон не отворяли уже сотни лет, все змеи его мира – это он знал точно – спали столько же.
Но вот оно – висит, подернутое утренним маревом, потустороннее, открытое. А через него из мира людей текла вся та гниль, что отравила эти земли.
Гнев его был страшен, а весь мир его – послушен, как никогда прежде.
И реки повернулись вспять.
…Иномирцы давно дали обещание не приходить больше в человеческий мир, но клятву пришлось нарушить. Они держали совет, прежде чем отправиться в путь.
– Я хочу мести, – вперед вышел один из иномирцев, статный и чернобородый. Его руки были покрыты язвами.
– А я хочу знать причины, – возразила княжна с пронзительным ястребиным взглядом.
– Мы пойдем войной и уничтожим их, пока не поздно. Как надлежало сделать уже давно, – с неожиданной горячностью добавил седой старик. Даже сюда он принес с собой свой лес – далекий шелест листвы, звучащий в каждом движении, запахи сырости и мха, мелкий травяной сор, тянущийся за ним цепочкой следов.
Вяз с затаенной болью оглядел собравшихся. Он сам нашел то злосчастное Окно, сам обернул всю эту гниль вспять, убеждая себя, что теперь все должно наладиться. Что ошибку еще можно исправить, надо только отгородиться, забыть, запечатать навеки свой мир, чтобы спасти.