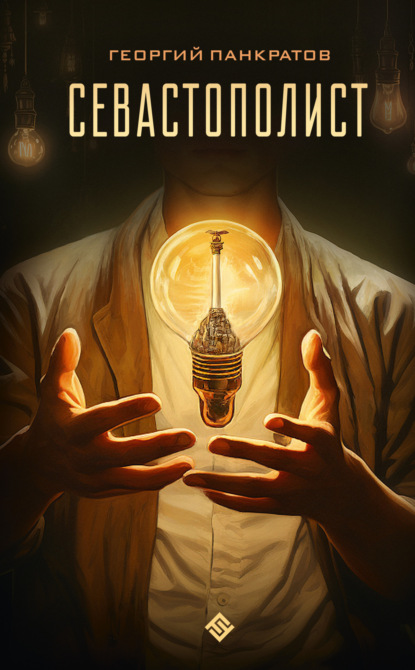Полная версия
Персональный детектив
Это было кошмарное и в первые кси-шоковые секунды предельно неприятное потрясение. Неприятное – потому что чувство соединенности со всем остальным городом, такое сильное и такое, несмотря на все боли, а может быть, даже и благодаря им, прекрасное, у Донов-женщин почти сразу же дополнилось чувством отторженности: я не такая, не такой, не такое, я несправедливо разделяю со всеми этот замечательный полет в черт знает какой мир; я, более того, своим присутствием в этом совместном и таком одиноком полете разрушаю даже надежду на то, что этот полет продлится.
Конечно же, ничего такого никто из Донов-женщин в первые секунды не думал, все эти мысли промелькивали у них на уровне подсознательном, оставляя после себя горечь, стыд, отвращение к себе плюс отвращение к себе, Дону, за то, что он испытывает отвращение к себе, женщине. Каждый Дон, занявший место жителя П‐100, в той или иной степени испытал это чувство, но у Донов-женщин оно было несравненно сильнее, и на самом деле именно они стали первой причиной выхода П‐100 из кси-шока. Соединение оказалось нестабильным и тут же начало распадаться. Вслед за женщинами из кси-шока потянулись мужчины – что-то в нем было нечеловечески и в то же время очень по-человечески грязное, даже чересчур грязное.
Клинта Голубева-Хоа-Хоа-Чин, приемная дочь самой Каменной Принцессы с Новой Венеры, шестидесятилетняя красавица с громадным состоянием, громадным бюстом и не менее громадным списком любовников, который в последнее время пополнялся как-то с трудом, во время Инсталляции бросала рюмки в некоего Артура – личность неинтересную не только для настоящего повествования, но и для самой Клинты. Артур перед тем несколько поднапился и стал вдруг пыжиться. Он не любил Клинту. Он с очень малым энтузиазмом относился к ее сексуальным претензиям. Попросту говоря, Клинта смертельно надоела Артуру. Однако он очень надеялся поживиться от этой интрижки, так как знал, что во всяком случае пара десятков ее любовников потерпели ее несколько недель и обеспечили себе безбедное существование по крайней мере на сорок лет каждый. Он терпел сколько мог и вот наконец сорвался. Слишком много выпил рюмочек, не выдержал и сказал Клинте самое малое из того, что о ней думал.
– Ты бешеная сука, – вот все, что сказал Артур. – Тебя запереть куда-нибудь надо, где ни одного мужика.
И все бы обошлось, как всегда, ибо при бешеной половой живости чуткостью Клинта не отличалась, но Артур повторил слова четырежды, и она обиделась. В ответ не сказала ни слова, но лицо ее стало худым и злобным; растрепанная, в криво сидящем балахоне «Бабочка вечности», она посидела напротив него, сосредоточившись на минуту или две, затем цвиркнула губами в сторону домашнего интеллектора.
Тот сразу же и расстарался, подкатился к ней с подносом на вытянутой верхней лапе; на подносе том – типовая граненая рюмочка с прозрачно-желтым напитком. Клинта не глядя взяла ее и с бесовской улыбкой метнула в Артура. Тот нападения не ожидал, не загородился даже руками, и рюмка попала ему точно в лоб. Клинта удовлетворенно вздохнула и снова цвиркнула интеллектору.
– Эй, ты что?!
Захохотала она в ответ и снова метнула рюмку. И еще раз, и еще, теперь уже даже не цвиркала – бедняга Артур, с ног до головы облитый спиртным, едва успевал отбиваться. Где-то на шестой или седьмой рюмке Дон опустил свою задницу в предложенное кресло и вдруг обнаружил, что сидит, скрестив ноги, на низкой постели; что с ненавистью невиданной силы он размахнулся рюмкой, собираясь метнуть ее в какого-то мужичка перед ним – несчастного, мокрого и противного.
Далее счет пошел на миллисекунды. Ярость мгновенно умершей Клинты пережила свою хозяйку и, более того, завладела новым хозяином. Дон, еще даже и не начав соображать, что к чему, подчинился ей и, ни на миг не задерживаясь, метнул рюмку в мужичка с единственной целью его убить. И в тот же миг непонятно как узнал в мужичке себя – ошарашенного, только-только севшего в кресло, о котором мы уже говорили.
Одним из различий между Доном и убитой им Клинтой Хоа-Хоа-Чин было его очень недолгое пребывание в бч-нормальных войсках, где его тело было специальным образом перенастроено для умения убивать всеми известными видами оружия и, главное, всеми неизвестными тоже – естественно, на инстинктивном уровне. Когда началась психологическая обработка и Дон понял, что профессиональные садисты готовят из него такого же, как они, он тут же ушел и постарался забыть выученную науку. Но инстинктивное не забывается, и теперь оно проявилось – рюмка, все еще наполненная жидкостью, превратилась в «неизвестный вид орудия убийства», и Дон это орудие превосходно использовал.
Рюмка, почти не теряя жидкости, описала быструю, еле отличимую от прямой дугу, всем весом, всеми своими эмвэ-квадрат-пополам, самым краешком вмазалась в подбородок Артура, раскололась от удара и длинным осколком вонзилась в подставленное горло – туда, естественно, где туго пульсировала сонная артерия. Фонтаном брызнула кровь – и Артур схватился за шею, пытаясь этот фонтан утишить. Здесь их застал кси-шок.
– Дон! – сладким голоском пропел Дон-Клинта.
– До-о-кх-он! – тем же тоном ответил Дон-Артур и тут же, расставив руки и бессмысленно улыбаясь, стал заваливаться направо.
Кси-шок сняло как рукой.
– О боже! – сказал Дон-Клинта и посмотрел вниз, на себя. И повторил с чувством:
– О боже!
Одна из главных героинь настоящего повествования, Джосика Уолхов-Беутфортруйт – бывшая жена самого Дона Уолхова, – проснулась от кси-шока в постели со своим теперешним мужем Агостарио Беутфортруйтом, членом всяческих академий и вообще человеком чрезвычайно наученным по части изыскания возможности изысканий (СЕРЕС). Потянувшись от нахлынувшего наслаждения, она еще с закрытыми глазами простонала и потянулась рукой к мужу; Агостарио, в свою очередь, бессознательно потянул руку к ней…
И, вскрикнув, они проснулись.
Дон-Агостарио, уже забывший, что он Агостарио, увидел перед собой Джосику, узнал тут же – обрадовался, затем ужаснулся. Ужаснуться было от чего. Перед ним лежала женщина, которую он, в общем-то, предательски бросил (пусть там он ей что-то объяснял о безвыходности своего положения, пусть даже совершенно прав был, но все равно получалось, что предательски, – уж об этом-то Дон всегда помнил). Дон не думал, не понимал, в чье тело он попал, он в эти первые мгновения еще подчинялся импульсам Агостарио, и Агостарио ласкал Дона-Джосику. И, даже поняв, что это уже не Джосика, тянулся – вот еще в чем ужас – ласкать.
Уже и кси-шок прошел, а они все лежали, ничуть не поменяв позы и даже придвинувшись чуть друг к другу, изумленно вытаращив глаза, а потом раздалось хныканье.
Словно застигнутые на чем-то преступном, они испуганно вскочили. В освещенном дверном проеме стоял мальчонка лет десяти-двенадцати, чем-то очень знакомый, с лицом, залитым слюной и размазанными соплями. Он пытался что-то сказать, но получалось какое-то «ауы».
Паренек был действительно сумасшедшим.
– Может, он таким и был… до того? – спросил Дон-Джосика.
Они переглянулись.
– Боже мой! – в один голос.
И, оглядевшись, торопливо покопавшись, они быстро напялили на себя что-то (Дон-Джосика безошибочно, хотя и со скрытым неудовольствием, выбрал женскую одежду и не без сноровки в нее влез) и, боязливо обогнув с разных сторон воющего на одной ноте мальчишку, в ужасе кинулись бежать кто куда.
«Платоново» воздействие коснулось детей в возрасте от одиннадцати до тринадцати-четырнадцати лет. Малыши более раннего возраста под него не подпали – их мозг просто не воспринял сигнала. Те, что старше, превратились в полноценных Донов. Но эти – эти не выдержали и поголовно сошли с ума.
Точно так же, как сошел с ума Донов сынишка Альтур. После того как мать и ее новый муж разбежались, он, все еще подвывая, вошел в их спальню – очень мощная и совершенно неясная идея владела им. Он понимал, что чувствует себя плохо, что с ним что-то не то. В миг Инсталляции он проснулся с сильным и страшным чувством, которое не взялся бы определить. Если бы Альтура хорошенько расспросили тогда, то, наверное, добились бы от него только того, что всякие странные и просто дикие мысли в то время бродили у него в голове, но сути мыслей этих он сам не помнил – просто вскочил с желанием заорать. Еще бы он сказал, что все вокруг казалось ему пугающе багровым.
Когда пришел кси-шок, Альтур его не выдержал. Чувство сопричастности ко всем жителям Парижа‐100 ему очень понравилось, затем, без перехода, в той же степени не понравилось. Кончилось все тем, что он возненавидел всех стопарижских Донов вообще и особенно – Дона-отца. Нелюбовь к Дону-отцу стала отличительной чертой его сумасшествия – ни один из сверстников особой ненавистью к Дону-отцу не воспылал: их болезни чаще всего были низвержением во младенчество. Альтур же, потеряв всякий интерес к миру, приобрел манию – манию непременного убийства собственного отца. Правда, шансов воплотить ее у Альтура не было никаких, ибо весь мир для него превратился в одно мутное и дурно пахнущее пятно – если бы у него сохранилась память, на три четверти стертая при воздействии «платонова» пространства, он мог бы сравнить ее с игрой в космическую войну, которая однажды завела их компанию в совершенно запретный отстойник отходов. К отстойнику, разумеется, моторола не дал им подойти и на сотню метров, но вонь и омерзительные под стать ей звуки, исходящие из огороженного черного жерла, запомнились Альтуру навсегда.
Уже знакомый читателю Эмерик Олга-Марина Блаумсгартен, больше известный под прозвищем Грозный Эми, во время кси-шока впал в ступор. Так повлияла на него гипнотическая обработка, которой он подвергся в прошлой жизни, перед тем как стать человеком моторолы. Любопытно, что напарник его, Валерио Козлов-Буби, перенес кси-шок иначе, в ступор не впал, обошелся некоторым помутнением рассудка, которое на фоне всех остальных, куда более острых ощущений вовсе и не заметил. Вместо ступора он заполучил кратковременную бесценную идею. Моторола над этим явлением часто потом задумывался, даже отрядил для особого расследования пару интеллекторов, но где-то ошибся, и интеллекторы незаметно перешли в «темную область» (туда, где сосредотачивалась его психическая ненормальность), так и не дав вразумительного ответа.
– По всей вероятности, – сказали они, прежде чем окончательно раствориться в «темной области», – личность Дона Уолхова специфически реагирует на разные доли гипноза, поэтому носитель этой личности, предварительно гипнозу подвергнутый, ощутит в момент кси-шока некоторое торможение восприятия, поскольку подсознательно будет стараться сконцентрировать свое внимание на цели, о которой имеет лишь самое смутное представление или не имеет вообще.
Объяснение было настолько смутным и настолько не соответствовало правилам, по которым отдельные интеллекторы или их кластеры общались с иерархически более высокими областями мозга моторолы, что, будь моторола человеком, он бы с досады сплюнул и грубо выругался. Но поскольку сплевывать он не имел ни особой возможности, ни, что важнее, привычки, то он только выругался, как всегда, выстроив для этого переполненную ошибками многопространственную суперматричную формулу метапопуляции. Множества ошибок, особенно ошибок первого уровня, доставляли ему наслаждение, которое человек назвал бы греховным.
Так или иначе Грозный Эми, пережив кси-шок, долгое время очень смутно воспринимал окружающее. Как и все остальные Доны, он не помнил ничего о прежнем хозяине своего нового тела. В отличие от всех остальных Донов, он мало что помнил и о самом Доне Уолхове – только то, что он совершил нечто грандиозное и очень приятное, связанное, кажется, с массовыми убийствами, за что был упрятан в тюрьму, убежал, и вот теперь его кто-то ищет. Помнил также, что сделано все это ради какой-то великой цели, цели, о которой он забыл начисто. Что, впрочем, его не беспокоило, ибо знал он, что подойдет время – и уж что-что, а это он обязательно вспомнит.
Из ступора Грозный Эми начал выходить на улице, тогда, когда кто-то сильно его толкнул. Результатом был легкий приступ ярости, затем некоторое прояснение сознания и уже никакими эмоциями не сопровожденная мысль:
«Я должен его убить!»
Он быстро и плавно обернулся, чтобы выцелить обидчика, и увидел перед собой до предела взъяренного мужчину, не старого и не молодого, лет шестидесяти, не больше. Вечерняя полувервиетка не сочеталась с мягкими домашними брюками и давным-давно вышедшими из моды ярко-желтыми кожаными мокасинами – такие использовались теперь в качестве ночных тапочек из-за бесшумности и легкого снотворного действия.
Не тот.
Ярость, уже порядком остывшая, побуждала его «на всякий случай» уничтожить и этого, но что-то мешало.
– Чего уставился? – нахраписто крикнул мужчина. Что-то знакомое почудилось Эми в его нахрапе. Может быть, и тот. На всякий случай…
В тот же миг ярость его бесследно прошла. Он мысленно оценил свой арсенал – быстрее и надежнее всего голова и конечности. Остановился на руках. Двинулся вперед.
Мужчина ничего не успел почувствовать. Змеиный бросок левой руки – хрустнула шея, и с ним тут же все было кончено. Все еще яростно прожигая пространство взглядом, он стал медленно оседать на травяной тротуар.
Но ничего этого Эми уже не видел. Он отвернулся, и ушел, и тут же забыл о только что совершенном убийстве.
Ступор уходил очень медленно. Неизвестно, скольким Донам эта медлительность стоила бы жизни, но, к счастью, по улицам разнесся отчетливый, хотя и не очень громкий голос моторолы – тот самый чрезвычайно артикулированный безупречный дикторский голос, каким моторола обычно пользовался во время экстренных сообщений. Смысл послания до сознания Эми сначала не доходил. Но голос!
Тихо хлопнула какая-то пленочка в голове, и Эми вспомнил, что его зовут Дон Уолхов.
Он огляделся и с трудом узнал одну из окраинных улиц Парижа‐100. Несмотря на ночное время, прохожих на ней было довольно много, человек сто. Очень странные прохожие – странны были их повадки, одеты кое-как, часто не в то, часто вообще полуодеты.
«Недавно я сел в кресло, – подумал Эми, – и потом что-то со мной случилось». Но что случилось и в чем именно заключалась странность прохожих, он не успел додумать.
– …этого вы должны пройти в одну из ближайших кабинок для собеседования и затребовать полную информацию о себе… – говорил моторола.
Эми оказался очень необычным Доном. За время ступора он успел привыкнуть к своему новому телу, оно не удивило его, не причинило даже толики неудобства, даже на секунду сам факт перемены тела не заставил его задуматься. Вторая, более важная, особенность сводилась к тому, что никакого неприятия моторолы у него не было – самым обычным и самым естественным казалось ему немедленно подчиняться рекомендациям, а доведется, и прямым приказаниям, исходящим от моторолы. Именно стопарижского моторолы, не какого-нибудь другого – остальных-то он по-прежнему ненавидел. Почти так же сильно, как Дона Уолхова. То есть не себя Дона Уолхова, а другого Дона Уолхова, того, в прежнем теле. Просто патологически ненавидел.
«Исповедальни» поблизости не было, но, как только он стал ее разыскивать, голос моторолы – очень родной, прямо как мамочкин поцелуй – сообщил, что ближайшая кабинка находится в ста двадцати метрах, если свернуть на переулок Сорсина, который начинается между двумя желтыми особняками. Он без труда нашел ярко-зеленую будку, дверца-шторка предупредительно поднялась, свет внутри предупредительно вспыхнул, и знакомый баритон предупредительно пригласил внутрь.
– Здравствуй, Эми! Заходи и садись. Ты мой первый гость в эту страшную для всего города ночь.
Чувствуя, что делает что-то не совсем то, пытаясь преодолеть накатившую вдруг полумигрень-полутошноту, Эми вошел в кабинку и сел в предупредительно вспухшее исповедальное кресло. Оно было старым, исцарапанным, отполированным тысячами задниц.
Внутри он пробыл минут пятнадцать, не больше, узнал о себе немного, только имя да адрес, но сверх этого он и сам не хотел знать. И вроде бы даже ничего такого не сказал ему моторола – так, пустой треп, – но, покинув «исповедальню», он ощутил себя новым человеком. Не Доном (этого еще не хватало!) и не тем, чье имя он присвоил вместе с телом, а просто человеком с дурацким сложным именем и кратким точным прозвищем – Грозный Эми. Человеком, главная жизненная цель которого сейчас была очевидна и проста: найти в Наслаждениях старого знакомца Джакомо Фальцетти и передать ему послание моторолы. И находиться в распоряжении.
Эми прикинул, что пешком до Наслаждений он будет добираться не меньше часа, поэтому прыгнул в ближайшую бесколеску и с угрожающим свистом взмыл в небо – он, оказывается, любил ощущение высоты.
Воин моторолы Валерио Козлов-Буби, которого читатель, возможно, помнит под именем Лери, превратился в Дона, так неосмотрительно севшего в предложенное ему кресло, в маленькой квартирке на черт знает каком этаже.
Квартира была старой и странной, точней, не странной, а гадкой. Роскошная «трехмерная» кровать с кучей эротических аксессуаров, яркие цвета которой резали глаз даже при ночном свете «диссипанта», превращающем мир в его зыбкую черно-белую тень, от которой у вменяемого человека кружится, а порой и болит голова; огромное «комплиментарное» зеркало на потолке, излюбленное дешевыми проститутками; шикарный гезихтмахерский армшер со множеством темно-синих фиалов, баночек, имидж-перьев, пуховочек и драгоценных мини-инъекторов, пристрастие к которому питали, наоборот, самые дорогие девы любви; наконец, стены, сплошь укрытые живыми обоями, на которых омерзительные самцы томно играли исполинскими мускулами. Дона-Лери от всего этого убранства едва не стошнило, и когда начался кси-шок, он был одним из первых, кто стал вносить во всеобщее и такое страстное единение диссонирующую нотку – мысль «Я превратился в педераста!» была настолько ужасна, что он просто не посчитал себя достойным присоединяться ко всеобщему восторгу и, выбросив в эфир изрядную долю отвращения, как ошпаренный выскочил из общего действа.
Впрочем, не так. Не только отвращение испытывал в то время Дон-Лери; было еще одно – тревога, а именно тревога за Дона-матрицу. Эта тревога оформилась словесно только после того, как Дон-Лери отъединился от кси-шока, именно тогда он выкрикнул страшным нутряным басом:
– Дона хотят убить! Его надо немедленно спасать! Иначе гибель всему!
Он не знал, откуда к нему пришла такая уверенность, да и не задумывался над этим. Пока мерцающий из-за какой-то неисправности лифт стремительно низвергал его с высоты гадкой квартиры, он забыл и саму квартиру, и даже то обстоятельство, что всего несколько минут назад занял тело человека, который при всех своих пороках имел право на жизнь. Забыл так прочно, как, может быть, никто из остальных новорожденных Донов Парижа-Сто. Новорожденного Парижа-Сто.
Дыша навзрыд, он мчался по темным улицам, на которых уже начиналось паническое пробуждение. Кто-то остановил его несвязным восклицанием, грузный мужик в длинном, до пят, белом ночном плаще, глаза его полыхали ужасом, у него была неприятно тонкая шея, всклокоченная голова торчала из ворота, как помятый цветок из кадки; и Лери, уже пробежав мимо, на зов откликнулся, опрометью кинулся к мужику, начал было с жаром объяснять, что Дона необходимо спасать, причем немедленно, однако встретил непонимание и, отмахнувшись, побежал дальше. Две безвозрастных женщины, одетые очень похоже и на вид совершенно одинаковые, пятясь, вышли из двухэтажного «кукольного» особнячка, во всех окнах которого сиял нестерпимый свет; обе пронзительно в унисон визжали. Выйдя за порог, они словно бы опомнились и умчались каждая в свою сторону, и одна из них едва не столкнулась с Лери, но пролетела мимо, явно не заметив его; он проводил ее пристальным, жестким взглядом и тут же забыл – забывать множество вещей стало в ту ночь для него привычкой. Потом, уже на другой улице, его позвал моторола.
– Лери! – сказал он мягко, голос шел со спины. Лери остановился, споткнувшись. – Лери!
Он медленно, нехотя обернулся.
Метрах в десяти стоял изящный белокурый атлет, красивый парень лет двадцати со скошенным подбородком, маленьким жестоким ртом и коротким, модно сломанным носом. Был он бос и до пояса обнажен, только брюки «фесто», обтягивающее скопище разноцветных копошащихся искр, отделяли его тело от полной наготы. Каждый мускул этого тела, заметил Лери, был совершенен. Как и положено титульным «фесто», левая штанина закрывала ногу до щиколотки, правая заканчивалась чуть ниже середины бедра, не достигая колена. Атлет приветливо улыбался – эта улыбка была знакома.
Он помахал рукой.
– Иди сюда!
И тембр голоса был знаком. Лери замер, он напряженно смотрел на него, даже, кажется, зубы оскалил. Что-то томное, болезненное, бесконечно личное и бесконечно ужасное было связано с этим парнем… И эти «фесто», он тоже их видел. Не раз.
Что-то очень страшное, такое, что или забыть, или умереть.
Лери неопределенно отмахнулся и, все так же скаля зубы в лицевой судороге, побежал прочь.
– Эй, слушай! – донеслось вслед, и голос вроде тихий, но как бы одновременно и громовой. – Тебя зовут Лери! Валерио Козлов-Буби, двойная фамилия, Козлов-Буби! И ты не там ищешь Дона, тебе надо на юг, он только что вышел из Санктеземоры и, похоже, направляется к Наслаждениям! Если поспешишь, застанешь его у Второй танцакадемии! Ему действительно угрожает опасность! Только ни с кем не заговаривай по пути!
И столько заботы, столько искренней любви было в этом приветливом, родном голосе, что Лери не выдержал и на бегу обернулся.
На том месте, где только что стоял парень, никого не было, лишь неестественно резкая спиралька голубого тумана с копошащимися на нем искорками медленно поднималась к небу.
Итак, в одно мгновение громадный Париж‐100 проснулся как один человек. Вдруг стало шумно и неуютно. Масса бесколесок взмыла в освещенное ночными огнями небо; тысячи полуодетых, а иногда и просто неодетых мужчин и женщин высыпали на улицы, у всех глаза настороже и немного навыкате. Кое-где запылали пожары.
Моторола, множество раз проводивший среди своих пирамид моделирование по полной выкладке именно этого конкретного случая, был несколько ошарашен разными незапланированными неожиданностями, в том числе сумасшествием детей, и изо всех сил пытался восстановить управление над происходящим.
«У их Бога еще хуже получилось, – думал он, пытаясь оправдать для себя все неприятные неожиданности. – Но Бог справился, хоть и не существовало его вовсе. В конце концов, что такое было для него смерть, боль, несчастье? Всего лишь аспекты испытания, всего лишь неизбежные факторы, для его цели – мной не познанной, непознаваемой, да, в сущности, и неинтересной – особенно серьезного значения не имеющие. Для меня это больше, для меня это не трудности, сопровождающие какое-то там испытание, а существующие и очень мощные рычаги управления. Сейчас я просто пробую рычаги.
Но главное, похоже, я доказал. Все эти люди, которые прежде сами – пусть с моей помощью, но все-таки сами – строили жизнь своего города, сами работали на него, каждый в своей ячейке, каждый со своим, порой неповторимым, знанием – все они сегодня исчезли, уступили место человеку, который их заменить не может. Он не может дать им тепло, не может дать им хлеб. Он ни на что не способен, кроме одного – бороться со мной. Но с этим я как-нибудь справлюсь, это даже интересно. Главное сейчас – без меня они теперь совершенно беспомощны, пусть этого и не понимают. Я им и тепло, я им и хлеб, я им и удовольствия, и несчастья. Я больше, чем Бог, для этих людей, и скоро им придется с этим смириться!»
Глава 10. Встреча с Джосикой
Дон совсем не почувствовал Инсталляции, но уж зато кси-шок он почувствовал как никто. Из двух миллионов новорожденных Доницетти Уолховых не было ни одного, кто настроился бы на волну кси-шока так строго и так чисто, как оказался настроен истинный Дон.
Он первым достиг вершины наслаждения кси-шоком и одним из первых ее покинул. И его вершина была в тысячи раз выше, чем у других. Соответственно, и падение оказалось во столько же раз ниже.
Выразилось это судорогой всего тела, жутким сдавленным воплем и полным расслаблением, сопровождаемым внезапными сотрясениями. Внешне реакция Дона на кси-шок напоминала обыкновенную эпилепсию. Фальцетти за всеми этими становлениями наблюдал с восторгом исследователя.
Дон упал, сильно ударившись лицом, и стал быстро приходить в себя. Приходя, он чувствовал себя странно. Жуткое всепоглощающее чувство вины, помноженное на жуткое всепоглощающее чувство триумфа.
Дикая подавленность.
– Поднимайся, герой! – восклицал Фальцетти. – Восстань же, новый Бог, на божественный баланс прими хозяйство свое, возыди!
Дон ответил слабым голосом, по инерции и без эмоций: