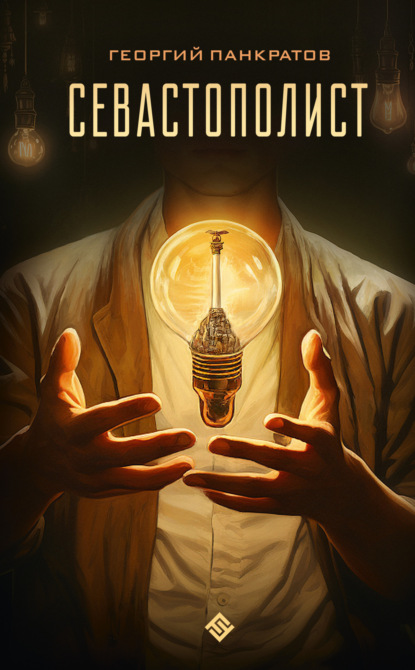Полная версия
Персональный детектив
«Но даже, – подумал Кублах, постепенно переходя от энтузиазма к неодобрению, – даже если бы „сейджел“ Дона болтался без движения в двух шагах от Пэна, откуда тот сбежал каким-то невообразимым образом (вот интересно, каким?), все эти „поисковики“ и пальцем бы не шевельнули, чтобы вернуть беглеца в отведенный ему законом апартамент». Они бы тут же стали тормошить Кублаха: ах, поймай его, Кублах, ах, его нам немедленно отыщи, ведь ты же его собственный персональный детектив, тебе положено!
Когда-то непроизнесенное «нет»… И в итоге постоянное ожидание, вечное себе непринадлежание!
В который уже раз тщетно возмечтал Кублах о нелегальных лицеделах, в который раз с отчаянием сморщился. Оно, конечно, правда, что вызовы на поиск Дона всегда оказывались исключительно не ко времени, и это понятно – Кублах очень занятой человек с массой обязанностей. Но на этот раз Уолхов сам себя превзошел – настолько точно выбрать миг даже специально не подгадаешь. Именно сейчас, когда Таина так неожиданно и непонятно убежала к своему диплодоку.
И надо ее искать. Ее, а не какого-то никому не интересного полугения-полупридурка. И надо как-то выдирать ее из древних лап мужа. И к чертям все эти мотороловы страсти!
Вызов застал Кублаха бесцельно, дико и несуразно мечущимся по роскошно расцвеченным скверам Хансигвы. Влюбленные парочки, которыми полнилась эта курортная планета, самая популярная два последних сезона, с удивлением оглядывались на солидного, но с несоразмерно и оскорбительно круглым брюшком дядечку средних лет, который только что быстро шагал, напоминая целеустремленного Шмитти Шмуга из Мультиплистурций, с высоко задранным подбородком, надменно-умно прищурившись, одновременно выпятив и зад, и брюшко; и вот теперь вдруг резко остановился, словно невидимую безумную пощечину получив; пошатался нерешительно, замер в грогги – и закрутился на месте, сжав кулаки, растопырив локти, оглядываясь с угрозой.
Нет! Совершенно невозможно было размениваться сейчас на какого-то там Дона Уолхова!
«Уже не я преследую Дона, – беззвучно выкрикнул Кублах, – а он гоняется за мной, жизнь мне калечит. Не факт, что побег Таины не его рук дело – ведь побег и там, и там! Я еще не успел отойти от прошлой погони, у меня совсем другие дела, я не обязан постоянно помнить о своем – и даже не своем! – прошлом».
Всего четыре месяца назад Кублах приволок в суд Анды обездвиженного, но едкого языком Дона. Он навсегда запомнил их разговор в дребезжащем кузове деревенского вегикла, древнего, как Гора Ворона. Хозяин телеги, молодой паренек, промышляющий наркобулыжниками, сидел тут же и мерзко хихикал, отдавая явное предпочтение Дону, трупом валявшемуся в углу. На этой телеге они пересекали последнюю – ну, и, конечно же, Джонову – Полость. Слова Дона бичом хлестали, языком змеиным пронизывали, но не двигался Дон, в углу брошенной тряпкой валялся, и царил во всем вегикле его величество Доннасантаоктаджулия Иоахим Кублах. И это было правильно, и это было обычно – охотник обречен торжествовать, дичь обречена ненавидеть охотника, только так достигается их удивительный и прочный контакт, схожий с любовью.
С того времени, как пришло ПД, как им вживили под черепа по оранжевому комочку квазиплоти, Дон стал для Кублаха самым близким, чуть ли не единственно близким человеком во всем Ареале – о таком Кублах даже и мечтать не мог раньше. И таким же для Дона – что намного важнее – стал Кублах, хотя насчет его мечтаний тут сложно, Кублаха он до того почти и не помнил. Отношения охотника и жертвы не только не мешали их неожиданной близости, но даже и наоборот, способствовали, придавая их связи неповторимое своеобразие.
Несколько месяцев назад – эти месяцы пролетели секундой – он сдал Дона властям планеты после странного и неприятного разговора, который то переходил на уровень философских эклог, то срывался вдруг в ожесточенную и обидную перепалку.
Кублах устал от Дона, был невероятно зол на него, поэтому не отказал себе в удовольствии продемонстрировать (Дону, окружающим, самому себе?) свою власть над преступниковым телом.
Когда кузов вегикла распахнулся, впустив внутрь ослепляющий свет очень маленького, но очень яркого и оттого очень злобного солнца Анды, когда перед вегиклом из ниоткуда возникли четыре черных силуэта Представителей Андозакона, которым Кублах должен был передать арестованного, у Дона не было, естественно, ни малейшего желания ни убегать куда-то (потому что бессмысленно), ни хотя бы в наименьшей мере сопротивляться. Он уже собрался встать с низенького пуховичка, на котором провел последний перелет, как вдруг с жестокой досадой почувствовал знакомое онемение во всем теле. Затем он просто наблюдал, как руки его сами собой опираются о пол, приподнимают туловище, ноги неестественным немножко рывком передвигаются к теплому металлобиопокрытию пола – и вот он уже стоит, вот уже идет, вот неспешно передвигаются ноги, и локти в стороны выставил. Чтоб смешнее, наверное, было.
С повелительной усмешкой Кублах наблюдал за тем, как Дон идет к Представителям. То был миг торжества. Но запомнил он не торжество, а прощальный взгляд Дона через плечо – странная, непередаваемая смесь недоумения, негодования, презрения даже… и чисто детской боли, мол, что ж ты так-то? Усталость тогда почувствовал Кублах, и тошноту, и опустошение.
Закончив с формальностями, он быстро убрался с планеты, не дожидаясь дознания и суда. Мчал почти куда глаза глядят, точней, куда звал его «долг заинтересованного гражданина», а уж если еще точней, то вот так – куда он этому самому долгу приказал себя позвать, то есть на ближайшее выездное подзаседание одного из многочисленных подкомитетов, членом которых он числился.
Дело в том, что последние два года Кублах пытался сделать политическую карьеру. Где-то глубоко-глубоко внутри Кублах считал себя великим, и это полностью согласовывалось с тем, что он о себе на самом деле думал снаружи, оставалась только неуверенность посредине. Он прекрасно знал, с самого детства знал, что он велик – оставалось только уточнить, в какой из профессиональных областей его великость сможет проявить себя скорее всего. Кублах уже перепробовал несколько вариантов, пока ничего не получилось, но в отчаяние он не впал – ибо хорошо знал, что уж где-нибудь он-то точно велик. Правда, таких мест теперь оставалось совсем немного. Точнее, одно – политика.
Именно политическую карьеру Кублах и пытался себе сотворить в последние два года. Он, ему казалось, очень хорошо понимал субструктуру структур подструктуризации власти. Поэтому единственным способом достичь желаемого он считал множественные попытки примелькаться в определенных кругах. По-своему Кублах был мудр и быстро научился, где надо надувать щеки, а где надо быть своим в доску парнем. «Мелькай и запоминайся!» – вот что стало его девизом.
С упоением он мелькал, причем очень усердно. В результате ко времени, о котором идет речь, он имел за спиной четыре выступления в информстеклах общей длительностью в девятнадцать секунд, членство в шести подкомитетах Ареального слушания в качестве общественного эксперта или в ряде случаев экзекута, опять же, увы, общественного. Но главным его достижением был созданный им лично Союз защиты прав пиковых держантов, растущий, правда, не очень быстро, но зато с самого начала очень деятельный в плане экспресс-информационного реагирования. Так что место, куда поехать забесплатно, Кублах уже мог выбирать сам.
Ближайшим действом Союза оказалось расширенное подзаседание одного из подкомитетов, где состоял Кублах, долженствующее состояться на Андреевской Кучке, курортной планете, входящей в стагнум «Перфект Айрд Хазем» и в Курдюмовском списке популярности курортных планет («Курдюмске») занимающей третье место.
Поскольку подзаседание было расширенным и число приглашенных участников превосходило тысячу, ему было присвоено собственное имя – «Фокс165Фест».
Как и на всех фестах, культурная программа подзаседания по времени раз в двадцать превышала целевую. Кублах в конце концов так и не удосужился понять главной причины созыва; возможно, впрочем, ее не было вообще.
Андреевская Кучка в тот год была чудо как хороша. Ромбоцветное небо, колоннада волнистых гор на изогнутом горизонте, деревья-колоссы, за два столетия освоения превращенные лучшими художниками Метрополии в истинные произведения искусства, трасса «вечных» гонок, множество летающих городков – все это на протяжении уже многих десятилетий привлекало к себе туристов, стекловиков, а также организаторов научных, политических и прочих цеховых фестов. В последние же годы люди стали приезжать сюда не столько из-за красот планеты, сколько потому, что здесь собирался «весь Ареал».
Так говорят, так считают, так думают. Я же, со своей стороны, полагаю, что главная прелесть Кучки отнюдь в другом. Здесь, понимаете ли, царит постоянное ощущение счастья – даже иногда и не поймешь, отчего вдруг такое настроение. Даже и не уверен, что дело в местных красотах.
Впрочем, красот Кучки Кублах не замечал. Контакты с особо важными представителями «всего Ареала» он устанавливал с обычной для него несколько суетливой оживленностью, однако без пыла; как всегда, много мелькал, но замечено было в тот месяц, что вроде как подустал наш вечно моторный Кублах и по странной забывчивости даже несколько официальных мемо-визитов продублировал. Чаще, чем всегда, он консультировался с моторолой, причем, как правило, по поводам наипустяковейшим, никаких консультаций не требующим. Словом, что-то творилось с Кублахом. Причем явно что-то не то.
Именно в таком состоянии – «что-то не то» – он и познакомился с Таиной.
Познакомился, как это делается на политических фестах, во время официального ужина. Начинаются такие ужины со скучнейших блужданий по залам с рюмкой какой-то гадости (вот обязательно почему-то дрянью всякой на этих ужинах поят), пустых заявлений перед деловитыми репортерами, скучнейших бесед и просмотра скучнейших стекол, а заканчиваются поголовным спариванием где-нибудь в закрытом (то есть дрянном) эротическом бассейне – действом из разряда ненужных, но обязательных, часто отвратительных, но хотя бы не всегда скучных.
Спаривание он начал тогда с незнакомкой – довольно милой блондинкой. Она ему понравилась, хотя и не так сильно, чтобы уж совсем в сердце запасть. Но после второго коитуса Кублах неожиданно для себя спросил ее имя.
– Таина, – сказала Таина.
– Почти как тайна, – прокомментировал Кублах, отчего блондинка поморщилась. Она терпеть не могла свое имя. К тому же не могла терпеть тех, кто реагирует на него так просто и ограниченно. Вдобавок Кублах сделал комментарий, как и вообще все в своей жизни, с видом важным, умным и чрезвычайно многозначительным. Таина, которую сначала к Кублаху потянуло, почувствовала вдруг к нему сильное отвращение.
Тем бы и закончился их роман, но два коитуса, ими совершенных, в общем-то, довольно обычных и особого впечатления ни на Кублаха, ни на Таину не произведших, каким-то – даже и не совсем понятно, каким именно, – образом их пару соединили, образовали между ними настолько сильную связь, что даже Таинино отвращение – мимолетное – не смогло эту связь разорвать. Поэтому, когда Кублах совершенно неожиданно для себя вдруг предложил Таине потихоньку из бассейна уйти и подыскать местечко более уединенное и менее гадкое, она не раздумывая согласилась. Таким вышло начало.
Страсть их была бурной, сумасшедшей, но с легким привкусом отторжения. Долго и упоенно они строили потом версии о том, отчего же это так быстро между ними возникло столь сильное чувство. Кублах, по натуре невлюбчивый, постарался упростить сложные ощущения и заявил однажды Таине, что это не они сами, а их тела друг друга нашли и против их воли друг к другу бешено потянулись. Мол, в первый же миг тела обнаружили, что безупречно подходят друг другу. С обычным важно-умным выражением лица Кублах по этому поводу выдал очередное откровение: «Мы подошли друг другу, как две половинки разрезанного только что яблока!» – на что Таина поморщилась и переполнилась желанием очередной устроить скандал (была она иногда излишне стервозна).
В который уже раз она ему заявила, чтоб больше при ней не говорил такими затасканными штампами, но он, разумеется, не услышал, заявив резонно, что настоящая глубокая мысль всегда известна, что она настолько затаскана людьми, не понимающими ее глубины, что кажется глупым штампом и не воспринимается; что следует попытаться отойти от привычно скучного к ней отношения, что воспринимать надо не фразу, обкатанную за тысячелетия до круглой гладкости того же яблока, а саму мысль следует через сознание пропустить, со всей ее скрытой многоэтажностью, со всеми ее порой причудливыми весьма ответвлениями. Истина, сказал Кублах, рождается банальностью и умирает только тогда, когда становится парадоксом. Кто-то ему такое сказал, и ему очень понравилось.
На том они тогда и поссорились, потому что Кублах не утерпел и тираду свою о мысли и фразе произнес, зануда такая, с более чем обычной многозначительностью.
Но не ссоры, ну, конечно, не ссоры, пусть яростные и частые, были главным минусом их союза. Их тела, или души, или то и другое вместе тянулись друг к другу даже еще сильней после перепалок – никто из них ни на секунду не мог представить себе ужаса расставания из-за какого-то там дурацкого несогласия. Разделяло их другое – Таинин муж.
Тридцатилетняя Таина за спиной имела четыре брака. Первые три были несерьезны и быстротечны, их почти моментальные распады заставили Таину подозревать, что ничего у нее в смысле семейной жизни никогда не получится. Однако четвертый, к ее удивлению и радости, оказался на удивление прочным и грозил затянуться до самой смерти, причем, скорее всего, смерти не ее, а супруга. Гальдгольм Хазен, стовосьмидесятишестилетний старик, был подцеплен Таиной по ошибке, но чем-то – видно, возрастной мудростью и умением необидно командовать – привязал ее к себе и заставил со всей пылкостью себя добиваться.
Хазен вообще не хотел жениться. Ему совсем не улыбалось окунаться в проблемы такого неравного по возрасту брака. Заметив, что связь с Таиной становится чем-то более серьезным, чем легкая, ни к чему не обязывающая интрижка, он тут же дал задний ход.
Однако было поздно: «Тайнусик» впилась в него насмерть, и разжать сведенные на его сердце челюсти Хазен уже не смог. Дело осложнялось тем, что старик (он считал себя почти однолюбом), несколько месяцев назад переживший кончину шестой, горячо любимой, супруги, неожиданно для себя влюбился в Таину с силой неимоверной – так, как могут любить только двухсотлетние. Однако любовь есть чувство, преходящее даже у стариков – если сильно постараться или просто-напросто подождать. Хазен знал это и полагал, что в состоянии справиться с этим совершенно ненужным чувством. Он, однако, переоценил настойчивость девушки.
То ли она и в самом деле полюбила его смертельно, то ли к этой любви примешалось порой встречающееся у женщин ее склада материнское чувство, усиленное к тому же подсознательным стремлением возместить вечное отсутствие отцовской опеки (ее воспитывала мать); то ли просто их вкусы и интересы, несмотря на разницу в эпохах, удивительным образом совпадали, но Таина, силой добившись Хазена, очень редко жалела о своем выборе. Она тетешкалась с ним, он ее боготворил, и все вокруг их любили. Это было здорово, правда.
Если бы, конечно, не одно очевидное но, о котором ее все время предупреждали.
Хазен был страшно древний старик. Ему повезло – он из-за каких-то не очень понятных особенностей своего организма, да еще из-за высокопродуктивной деятельности Врачей, сумел победить все старческие недуги. Учесть к тому же надо, что, несмотря на годы, он подвергался всего лишь одному омоложению. И он выглядел, по всей видимости, на свой возраст – то есть понятно было, что ему больше сотни, просто мало кто знал, как должен выглядеть двухсотлетний старик.
(Здесь отступление. В геронтологическом смысле медицина всегда бессильна. В определенной степени. Эту степень вычисляет Моторольный совет, это его функция, хотя, честно говоря, любой человек, умеющий считать в столбик и имеющий доступ к научной литературе начального уровня, где есть все необходимые формулы, может без труда моторолу здесь заменить. Другими словами, возраст, который позволено иметь людям, находится в не очень сложной и почти прямой зависимости от финансовых и демографических возможностей освоенного Ареала. Чем больше места для людей, чем больше денег, тем больше человеку позволено жить. Не впрямую, конечно – живи, человек, сколько сможешь, а медицина поможет тебе дотянуть до ста тридцати. И ни днем больше, приятель, дальше ты сам, дальше помощь тебе ограничивается лишь эмергентными медвмешательствами, а то могут возникнуть нежелательные демографические проблемы. Здесь расчет такой: одна новая освоенная планета – месяц или два дополнительной жизни для всех. За счет спуска точно отмеренных дополнительных ассигнований на андро-геронтологические исследования.)
Когда кто-нибудь не очень умный восхищенно говорил Хазену, что вот вы, мол, как молодой, он оскорблялся. Он не хотел быть молодым. Он не хотел быть человеком среднего возраста. Он даже не хотел выглядеть девяностолетним Мужчиной. Он ценил свой возраст и желал выглядеть соответственно. Единственное, чего он не желал, – быть развалиной. И это ему прекраснейшим образом удавалось.
Однако возраст есть возраст, как бы хорошо твой организм ни противодействовал физиологическому распаду. Вопреки всем усилиям интим-медицины, Хазен даже доли сексуальных запросов Таины не был в состоянии хоть как-то удовлетворить. Если требовался «третий раз», он чувствовал себя импотентом. Здесь, как говорили Врачи, проявлялись не столько физические, сколько психологические признаки неизбежного старения организма. Уже много десятков лет секс для Хазена был просто-напросто пусть приятным, но вполне скучным времяпрепровождением.
– Я тебя предупреждал, – со стыдом, досадой и раздражением сказал он как-то после очередной особо удручившей их неудачи. – Лучше было нам разбежаться сразу. Люди сходятся по возрасту – так им велит природа. А теперь мы в цугцванге: я и удовлетворить тебя не могу, и позволить тебе неверность не в состоянии.
Но – позволил, деваться некуда. Маялся сначала, обнаруживая знаки измен, бессонничал, злился и ненавидел, потом как-то утром – солнце злобно сияло – не выдержал, вызвал жену на ссору; оба друг другу, как сорвавшись с цепи, закатили умопомрачительные скандалы, чуть не подрались даже, но потом сели в кресло, обнявшись. Таина сквозь рыдания долго объясняла ему, что иначе просто не может, но он не должен относиться к этому как к изменам. Любит она его одного, одним им дышит. А все остальное (она так и сказала – «все остальное») – просто приятный и организму необходимый физиологический акт – вроде как покакать, – на который они с Хазеном просто не способны.
Говорила, что на самом-то деле она свято верность ему хранит (Хазен согласно кивал и улыбался – кисло и криво), что без него ей просто нет жизни; что, конечно, она не дура и понимает, что секс – это как нарко, то есть исключительно подлая штука, что вполне он может привести и к новой любви, однако она, Таина, в этом смысле очень себя блюдет и никакой, даже малейшей, влюбленности не допустит; она, в конце концов, не девочка и вполне себя контролирует.
Хазен, вообще-то, человек очень мудрый, но в конфликте с Таиной совсем потерявший ориентацию, согласно кивал, успокаивал, врал, что все понимает, и выторговывал себе страшную экзекуцию: «Но если это все-таки произойдет, ни секунды не медли, тут же скажи! Измену я вынесу, но предательство – никогда!»
Много еще глупостей в том же духе он ей тогда, в это страшное утро, наговорил, успокоил, что, дескать, пусть, не дурак, понимаю, раз уж ничего не поделаешь; что, разумеется, он прощает, да и кто он такой, чтоб не прощать, что будет к изменам ее относиться подобающим образом – ни упрека единого себе не позволит, ни намекнет, ни вздохнет, пусть даже от нее втайне.
Расцеловались, напоследок расплакались, попытались даже акт супружеский совершить на нарочно для тех целей приобретенной постели «нирвана»; и даже убедили друг друга потом, что все, в общем, хорошо вышло, и обнялись, и расцеловались, и вконец расчувствовались. И все осталось по-прежнему.
С одним разве что исключением – Хазен потерял право, сам отдал его, идиот, не то что демонстрировать свои страдания по поводу Таининых непредательств-измен, но даже и на сами страдания как бы потерял право.
Блюдя верность мужу, Таина развернулась теперь вовсю и свое деятельное участие во всякого рода оргиях почти не скрывала. Хазен же с прежней, если не большей, силой чувствовал боль, хотя упрямо убеждал себя при каждом удобном случае, что чувствует боль не с прежней силой, а с куда меньшей, но от этого муки его не только не становились слабее, а даже и наоборот – ядовители как бы и действовали на старика поистине разрушительно.
Он ссохся, ослаб несколько; дошло до того, что пришлось ему вернуться к занятиям омолодительным спортом, а ведь он к ним лет уж тридцать не имел повода обращаться. Помогало немного музыкальное нарко, но что такое нарко, даже «святое», по сравнению с муками влюбленного рогоносца?
Именно тогда Таина встретила Кублаха и совершила неизбежный переход «от измены к предательству». Добрая по натуре, она пожалела Хазена и, нарушив скрепленную «нирваной» клятву, ничего не сказала ему о Кублахе. Он, однако, очень быстро понял все сам – и промолчал. И чуть с ума не сошел от злости, ревности, боли, ненависти. И снова простил Таину – теперь уже молча, тайно.
Таина преобразилась. Каждое утро она, вся в предчувствии счастья, убегала к любовнику. Впрочем, даже и не к любовнику – любовники заполняют время постелью, а для Кублаха и Таины постель была необходимым, но сопутствующим обстоятельством. Даже трудно объяснить толком, чем они занимались. Мотались по планете, танцевали на парных бесколесках, мчались под водой в «каплях», просто сидели – обязательно держась за руки, как детишки.
Глаза Таины сияли… Да господи, сияла она вся!
На Кублаха же любовь подействовала не настолько фотогенично. Его хмуро-важный, пронзительно умный имидж отнюдь не выиграл, когда на него наложился флер этакого загадочного слабоумия. От подобного симбиоза вид его стал предельно идиотским, особенно вблизи от Таины, – и она была единственной, кто этого идиотизма не замечал.
Поначалу страсть к Таине была для Кублаха только избавлением от Дона. Дальше – больше: Кублах стал задумываться о женитьбе. Фамильный дом его на провинциальной планете Флорианова Дельта до сих пор, как правило, пустовал. Дом этот еще не знал ни одной женщины. В пятьдесят два года Кублах, поочередно увлекаемый множеством несостоявшихся карьер, упрямо избегал брачных уз. Теперь же о браке он подумал вполне серьезно и приземленно – он вдруг вспомнил, что для политика жена почти так же необходима, как галстук.
Таина говорила ему:
– Что угодно, но лишь бы не навредить Гальдгольму. Ни за что не разведусь с ним.
Он, конечно, кивал, но всерьез ее слова не воспринимал. Пой, пташечка, пой!
Он соглашался – ну, конечно, мы ему не навредим, пусть человек живет и радуется. И одновременно рассчитывал избавление от диплодока, рассчитывал, как и все, по-макиавеллиевски бездушно и вроде бы целиком логично – расставляя психологические ловушки, разблюдовывая все по отдельным шагам. По-своему Кублах к своим пятидесяти двум остался романтичным ребенком – он верил, глупышка, в торжество разума и бездушия.
И, как всегда, по мелочам кое-что у него всегда прекраснейшим образом получалось, потому что в большинстве случаев разум, каким бы это странным ни показалось, все-таки торжествует. Ко всеобщему сожалению.
У него, например, стала на первых порах срабатывать система хитроумных, по его мнению (а на самом деле вполне нелепых и примитивнейших), ловушек. Во всяком случае, Таина все меньше заговаривала о своем желании остаться с Хазеном и все благосклонней относилась к идее (о, конечно, неисполнимой, фантастической, но безусловно желанной) стать хозяйкой фамильного дома на Флориановой Дельте и еще одного дома, где Кублах родился и провел юность, – в городе Париж‐100 на планете Париж‐100. Правда, тот дом надо было еще купить. Это было, в общем, несложно: дом, как выяснилось, сейчас пустовал.
Ей также нравилось мечтать о политической карьере Кублаха. Планы у него были грандиознейшие, и в лице Таины он встретил благодарную слушательницу. И правда, разве преступно всласть обсосать далекую, тоже фантастическую (ой, ну совсем-совсем невозможную, это же просто для удовольствия!) возможность стать Первой или, по крайней мере, Четвертой Дамой Ареала?
Хазен, уже исстонавшийся от переполнявшей его ревности, но все такой же предупредительный, обязательный и безмолвный, понемногу стал ее раздражать.
– Он сухой, рациональный, ужасно правильный, он даже не слишком-то и мучается, – жаловалась она Кублаху. – Вот сейчас, например! Он ведь точно знает, где я и чем занимаюсь, и что, ты думаешь, он делает? Мучается? Как бы не так! Он себе здоровье накачивает, омолодительный спорт называется, импотент несчастный!