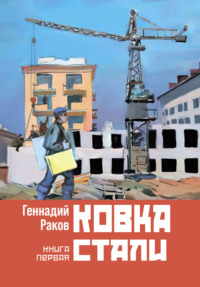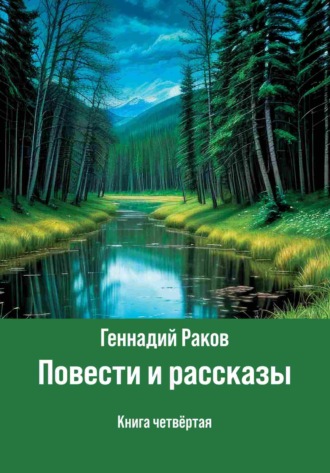
Полная версия
Повести и рассказы. Книга 4
– Можно к вам зайти на минутку?
– Как считаете нужным.
Ого, это уже была целая речь. Конечно, я не мог позволить себе отправиться тотчас. Неприлично.
– Через час буду.
В трубке послышался зуммер.
Этот час я не находил себе места. Ругал себя за нелепость поступка и ещё бог знает за что. Заявлюсь. Что сказать? Спросить: «Кто вы?». И всё? За кого посчитает? Пришел, «здравствуйте, я ваша тётя»… Стрелка немилосердно подходила к роковой цифре. Миллион причин и поводов мог бы найти в другом каком случае. Ту же соль попросить. Банально. Не мне учиться общению с людьми… Тут дело не совсем обычное. Может, на всей земле святых больше и нет. А тут вот какое дело. Ах, да. Я же был вчера в Загорске и набрал в полиэтиленовый пакет святой воды из источника. Конечно же: к святой со святым. Приличный повод.
Ноги с каждым шагом слушались всё хуже… Вот дверь. Сердце было не на месте. Постучал.
– Входите.
В номере было двое. Она здесь.
– Здравствуйте… Я звонил.
Недружелюбный голос второй издалека доносился до меня.
– Заходите, только мы спешим.
– Да-да, конечно, я на минутку. Не хотите попробовать святой воды из Загорского монастыря? Был там. Думал, может, вам пригодится.
Я никогда не терял управления не только над собой, но умел держать в руках толпы, сотни людей на собраниях, конференциях. Теперь чувствовал, как парю безвольно в приторной пустоте, в невесомости – ткни пальцем, и полечу, куда кривая выведет.
Если бы богиня была одна – как бы я поступил? Но она была не одна. Чувствуя, как силы покидают меня, я опустился на оказавшийся рядом стул. Скольких перевидел я за свою жизнь? С кем только не приходилось встречаться по работе. Были и министры, и повыше бывали. Были и красавицы в прямом смысле слова… Но не помню, когда бы испытывал такое чувство робости и скованности.
– Нет, нам не надо, – сказала вторая и зашла в ванную.
Мы остались вдвоём. Я по-прежнему сидел на стуле, вероятно, с глупым видом. Она – на прибранной кровати. Вот положение… Вот попал. Какой выход найти? В такой ситуации явно не до разговоров…
– А что, это действительно вода святая?
Аня, богиня Анна, поняла мою неловкость, решила помочь.
– Да-да, конечно. Налить?
– Попью. Налейте.
Святая. Она святая и есть. Я никак не мог развязать пакет. Волновался. Наконец справился.
– Пожалуйста.
– Так ты идёшь, Аня?
– Конечно, я давно готова.
Мне надо было уходить, но не мог. Смотрел на богиню – так вот она какая… Да-да, она богиня. Я ещё отчётливее понимал это. Но какая?
– Аня, – я с трудом выговорил её имя. Мне казалось, недостойно богиню называть земным именем. Даже если она себя так назвала. – Аня, можно вопрос?
– Конечно.
– Какая у вас профессия?
– Врач.
О, Господи, как я сам не догадался? Это же Гигиея – богиня здоровья.
Гигиея смотрела на меня всё так же спокойно. Умные глаза её лукаво улыбались. Словно поддаваясь гипнозу, я встал, дошёл до двери. Через силу улыбнулся (не на похоронах же, в конце концов) и, попрощавшись, вышел. Дверь закрылась.
Теперь мне всё было ясно. Едва дошёл до своего номера, схватил бумагу, карандаш, начал лихорадочно рисовать. Я узнал её тайну. Я был теперь спокоен. Прошёл не один час. Стемнело. Портрет готов. Посмотрел внимательно. Чего не хватает? Нет души, внутреннего её покоя, удивительной большой силы, идущей из глубины. Порвал.
Рисовал снова. И снова рвал. Я ещё не знал, как долго мне предстоит создавать этот портрет, образ богини Гигиеи. Сколько потрачу времени и сил, но так и не создам, не оставлю для людей олицетворение здравоохранения таким, каким его видел я сам. Лишь через много-много лет понял: нет такой силы у искусства, которому было бы подвластно повторить святой образ. Приблизиться можно, передать – нет.
Поздно я это понял. Тогда этого не знал. Тогда я творил, горел, строил. Всё, к чему я не прикасался, делал с ней и её именем.
Боги не уходят из жизни, как люди. Живут вечно. Она сошла со своего Олимпа. Не выделяясь, живёт среди нас, смертных. Несёт людям счастье, сибирское здоровье. Пусть об этом знают лишь она сама, богиня Гигиея с земным именем Аня, и я. Никому не выдам её тайны. К чему? Толпы зевак обязательно разыщут её. Захотят видеть, трогать, добиваться расположения. Пусть она делает своё святое благородное дело. Я – своё. Пусть руки её несут жизнь, здоровье, радость. Пусть никто не знает, что всё это от богини Гигиеи, живущей в далёком сибирском городе.
Боги, как герои, святые, живут среди нас, среди народа, сами выбирают орудия своих дел и место для подвига. Гигиея выбрала себе место. Там трудней. Там многое решается. Здесь «…прирастает российское могущество».
Пройдут годы, века, когда она поднимется к подобным себе, к богам. Знаю: обязательно вновь вернётся на землю. И тогда кто-то из других поколений вновь увидит её, как я. И создаст её ненаписанный настоящий живой портрет. Как жаль, что это буду не я.
«Нехороший человек»
Вечерело. Я сидел в своём рабочем кабинете после очередного разноса от начальства. В последнее время с планом не ладилось. А когда и ладилось – было то же. Привычны к тому. Для того и начальство, чтобы кого-то разносить. Такова наша, особенно строительная, действительность.
Сидел так, прикидывал, обдумывал ситуацию. Кроил, расставлял в уме рабочих… Делал то, чем и должен заниматься в рабочее и нерабочее время человек, занимающий соответствующий пост (начальник строительного управления как-никак). Ну да что там – коммунизм строить надо. Кто за что взялся, то и тяни.
Так вот сижу, погруженный в размышления стратегические, и слышу стук в дверь. Смотрю, в приоткрытой двери торчит голова. Глаза вопросительно смотрят: «Можно ли, нет?».
– Ну что же вы, заходите весь, если по делу.
Вошёл. Это был плотник. Вид его был слегка помятый. Весь он был проникнут печалью, страхом и ещё бог знает чем. Глаза его были как у явно набедокурившего человека.
– Так… Что там ещё стряслось?
Плотник сгрёб с головы шапку, стоял у двери и молчал.
– Проходите, садитесь. Слушаю вас.
Посетитель сел передо мной на краешек стула, опустил в пол голову, грязным пальцем, грубым и кривым от работы, начал ковырять полированный стол.
– Ну…
– Товарищ начальник, я, собственно, не пришел бы к вам. Э… э… это они, бабы, – голова его боднула воздух в сторону двери. – Он замолчал, обдумывая, что бы ещё сказать. За дверью хихикали отделочницы, приволокшие его сюда.
Мой собеседник был не только плотником, но одновременно и живым отрицательным примером в бригаде, с которым вечно происходили неприятности на работе: то выпьет лишку, то прогуляет, то «заболеет» и бюллетень «потеряет». Словом, если бы не моё устойчивое убеждение, что каждого плохого можно сделать хорошим, его давно бы выгнали из бригады, участка, управления. Временами мне самому казалось, что так и надо поступить. Пусть со статьёй в трудовой книжке ходит. Таким поделом. Я решил немного помочь посетителю.
– А мне показалось, что это вы. Даже пощупать могу вас, – я сделал движение, будто хочу его действительно ущипнуть. – Что же в этот раз у вас приключилось?
– Э… э… Ну…
– Только, пожалуйста, не врите. Честно и прямо. Прошу.
«Отрицательный пример» встал.
С храбростью загнанного в угол зайца вдохнул воздух, вытаращил глаза, прижал шапку к груди и гаркнул на всю контору:
– Виноват, товарищ начальник. Последний раз. Простите меня. Душу за вас отдам… – он с размаху ударил шапкой о пол, сник и скорее рухнул, чем сел на стул.
Возникла немая пауза.
– Допустим, душу закладывать не советую. Она вам ещё пригодится… И всё же, что у вас приключилось на этот раз? Вы же взрослый человек, женаты, детей воспитываете.
Вот так всегда. Он молчит. Я его терпеливо воспитываю. Он соглашается, кивает головой. Показывает всем видом, что действительно он плохой человек. Сейчас даже вроде как слезы крокодиловы появились на глазах.
Весь вид его – раскаявшегося человека.
– Так что же мне с вами делать? Говорить вы со мной не хотите. Вот ручка, бумага. Пишите.
– А чё писать-то? – насторожился.
– То и пишите: зачем ко мне пришли и чего сказать хотели.
Плотник был в нерешительности.
– Пишите, пишите.
– Собственно, а зачем оно, того, писать-то? Я этово, и писать-то разучился. Эдак, к топору больше привык.
На лбу моего посетителя, возможно, впервые появилась глубокая морщина. Он думал…
Я занялся своими служебными делами. Прошло достаточно времени.
– Вот, товарищ начальник.
Его лицо было в печали. На лбу выступил пот.
Каракули его читались тяжело. Я читал и краем глаза наблюдал за поведением плотника. Столь напряженного состояния у человека я, кажется, не встречал.
Понятно в писанине было не всё, но смысл я уловил. Он был в следующем: «Я, Ярём Колосов, никогда в своей жизни больше не буду воровать унитазы (вот оно, в чем дело) с нашей стройки, и если я не сдержу своего клятвенного слова, то назовите меня (здесь было написано довольно понятно, крупно) НЕХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ».
Внизу стояла закорючка, означавшая, должно быть, личную роспись.
Я дочитал. По моему лицу он, видимо, так и не понял, какое действие на меня оказало его откровение.
– Поставьте дату.
– Не могу. Руки дрожат, не слушаются меня. Лучше бы наорали на меня, товарищ начальник. Легче б на душе стало.
– Извините. Вот что, товарищ Ярём, я понял, о чём вы мне здесь написали. Хорошо, что не наврали, а показали правду. – В моём голосе отсутствовали грубые интонации. – Но имейте в виду: ещё раз набедокурите – вывешу вашу объяснительную на видном месте, под стекло. Пусть все читают, как вас потом называть. А сейчас, идите, пожалуйста, к бригадиру и скажите, что я вас наказал и прошу оставить в бригаде.
Он сидел.
– У вас ещё что-то ко мне?
Настроение его от, казалось бы, счастливого для него конца явно не улучшилось.
– Собственно, нет… Только вот, почему вы не как все? Душу вымотали… Раздавили, как таракана… И не наорали даже… Обидели…
Ах вот оно что. Его, оказывается, облаять надо для отпущения грехов.
То ли терпению моему действительно пришел конец, то ли для успокоения кающейся души, но я как врезал со всего маха по столу.
– Вон, – кричу ему. – Вон из кабинета!
Смотрю – изменился человек, ожил на глазах.
– Будь сделано, товарищ начальник. Будь сделано. Давно бы так. Всё. Конец. В сей секунд не будет.
Он благодарно улыбался и пятился к двери. Было явно видно: с человека свалилась большая тяжесть.
– Унитаз-то вернули на место? – Вопрос застал его в дверях.
– Точно так, вернул. На самое, что ни на есть, его законное место. А кто будет говорить, что не вернул, не верьте, свидетели есть. Злые языки всего наболтать могут…
– Вон…
Последний раз счастливая физиономия мелькнула в двери и исчезла.
От происшедшего я и сам теперь не знал, что делать: то ли плакать, то ли смеяться.
Да, работа руководителя заключается не только в том, чтобы расставить людей, дать им работу. Принять, уволить. Ярёмы – тоже работа руководителя. Обиднее всего за самого Ярёму. Почему у нас человек зачастую не может понять простого человеческого слова? Кто его так воспитал?
Я уверен: в конце концов и Ярёмы найдут себя. А как иначе? Коммунизм по-другому не построить. Одно условие – за производством надо видеть людей, пусть даже самых маленьких и плохих. Наше дело: не позволить стать Ярёмам «нехорошим человеком». Для них это конец. К сожалению, у нашего Ярёмы этот конец оказался близким.
Минута и жизнь
В это раннее весеннее утро я, начальник СМУ, по давно заведенному правилу задолго до начала рабочего дня спешил на один из строящихся объектов.
На строительстве нет однообразия. Каждый день несёт новое.
Каждое утро, садясь в машину, я спрашивал:
– Ну, что сегодня?
Сегодня на очереди был сдаточный объект за городом. Не всё ладно там. Надо самому посмотреть.
Как и полагается, подъехавшего начальника встретил сторож – древний, жутковатый на вид дед.
– Вот што, товарищ начальник, – не отвечая на приветствие, начал сторож доклад. – Я им, твоим помощникам, сколько говорил: с выжигами что сделать? Смотри – стекла опять побили. Сколько можно терпеть? Государство-то, оно не напасётся на всех.
– Да, это вы правду говорите, – я обратил внимание на несколько разбитых стёкол. – А что, собственно, произошло? И что это за выжиги такие? Мне никто не говорил об этом.
– Куда уж там? Какие сейчас хозяева? Им хоть всё побей. Скажут тебе они. Жди. Понапринимали молокососов, а кто их учить будет? Поназадирали носы – «начальство», и не видят ничего.
– Постойте, папаша, – я постарался его успокоить, – расскажите толком.
– Толком? Вишь, вон, – он ткнул кулаком в сторону трёхэтажного дома, напоминающего школу. – Интернат называется. Там они и есть, разбойники – выжиги. Носятся с рогатками да всё по окнам норовят. Пойди поймай их. Ноги болят, а то я бы им надрал задницы.
– Вон оно что? Так это школа-интернат?
Дед подтвердил кивком головы.
– Пацаны, а то и пигалицы с ними, – он помолчал секунду. – Слушай, начальник, не доводи меня до греха, сходи к их директору. Пусть шкуру с их сымет, рогатки поотымает.
– Пожалуй, вы правы. Поговорить с директором необходимо. Со стеклом у нас очень тяжело. Да и ребятам надо объяснить, что этого делать нельзя.
– Вот и я говорю. Слава богу, хоть один умный нашёлся.
Я обошёл дом. Сделал для себя пометки и направился к машине. Дед, зорко наблюдавший за действиями начальника, вынырнул из укрытия.
– Товарищ начальник, как тебя? Куды же ты сматываешься? А разбойники как же?
– Куда же сейчас идти, отец? Рано сейчас ещё, дети. Да и директора, видимо, нет. Даю честное слово, – улыбнулся я, – что сегодня же найду время и заеду к директору.
– Ну-ну, посмотрим, – сторож явно теперь не доверял и мне.
Как ни был заполнен делами день, я помнил данное обещание и к концу дня подъехал к воротам школы-интерната.
«Да, место неприглядное, – отметил я про себя, – ничего не скажешь. Порядка что-то не видно особого».
Я сам был воспитан на лучших советских традициях и считал, что в таких заведениях должно быть, как у Макаренко. Воочию как-то не приходилось сталкиваться.
Тропинка была длинной, и я стал прикидывать, что да как сказать. Директор, казалось мне, должен быть в таком заведении мужчиной в возрасте, с большим жизненным опытом… Не обидеть бы его и детей.
«Конечно, за такие шалости надо обязательно наказать. Неудобно, наверное. – Я вспомнил, как в детстве было очень обидно, если ставили в угол. – Поговорить просто, пожалуй, поймут. А вот рогатки отобрать, это правильно дед сказал».
Я вошёл в здание. Было тихо. Пробегала группа девочек третьего-четвёртого классов. Поздоровался с ними, справился, где кабинет директора. За те секунды, пока они мне полушёпотом объясняли, непонятно от чего мне вдруг стало жалко этих девочек. Я постарался отмахнуть от себя это чувство.
Что это я? Когда зашёл в приёмную, я увидел своих знакомых. Здесь было намного светлее, и я сразу понял, откуда взялось так поразившее меня чувство жалости. Они жались друг к дружке, были бледны, в глазах был ужас. Худенькие тельца под платьицами дрожали.
Девочки сняли тапочки и, чуть приоткрыв дверь, в щёлочку, одна за одной, на цыпочках, начали заходить. Я успел любопытства ради заглянуть одним глазом. Кабинет директора был большой, светлый. Пол устлан коврами. Директором, как оказалось, была женщина средних лет привлекательной наружности.
Дверь захлопнулась.
– Извините, вам кого?
Я не сразу заметил в приёмной секретаря.
– Собственно, – я искал подходящее слово, – собственно, мы соседи с вами. Я вот, со стройки. Дом рядом строится. Видели, наверное? Так я к директору, если позволите.
– Конечно, конечно, сейчас Клара Александровна освободится… Извините, – молоденькая секретарша подошла к двери и постаралась её поплотнее прикрыть. – Присаживайтесь, пожалуйста.
Куда там! Не успел я присесть, как услышал истеричный крик, грубый и злой.
– Все?
– Все, Клара Александровна (второй голос тоже был женским).
В ту же секунду я понял действия секретаря. Ей не хотелось, чтобы посторонний человек слушал всё происходящее в кабинете. Но, увы, она этого сделать была не в силах.
– Ну, сучки, долго вы так вести себя будете? Ты, Тря-хина, стерва, сколько тебе можно вдалбливать в твой ослиный кочан? Был бы у меня кнут, Пискайкина, спустила бы шкуру. Ты у меня ещё допрыгаешься… Ко мне, Яблокова, космы сейчас повыдёргиваю, проститутка. Мать твоя такая же…
Послышался детский вопль.
Это длилось несколько секунд. Я был ошеломлён.
Где я? Куда я попал? Что это? Сначала хотел ринуться спасать. Но кого? От кого? Кто я такой?
Выскочил в коридор.
– Господи! Господи! Хорошо, что не успел зайти, сказать о своём. Тоже хорош, пришёл на детей жаловаться.
Я вышел на свежий воздух.
– Как же так? Неужели так можно?
В моей голове всё перевернулось. Где здесь Макаренко, Сухомлинский? Обрывки бессвязной истерической брани больно били и звенели в ушах. И где это? В нашей советской доброй школе? Нет, нет, такого невозможно допускать. Что делать? Что делать? Неужели об этом не знают в РОНО? Туда, срочно туда.
Взъерошенный, необычайно возбуждённый, вскочил я в машину, повторяя: «Туда… туда…».
Машина рванула с места.
– Куда туда?
– Туда…
Шофёр, ничего не понимая, с предельной скоростью гнал машину, искоса поглядывая на своего начальника. Таким он его ни разу не видел. Всякое бывало, работа не сахар, но здесь что-то необычное. И гнал машину во весь дух.
– Стой, ты куда меня везёшь?
– Туда.
– Куда туда?
– Как вы сказали, – шофёр махнул рукой, – туда.
– М… М… Давай назад.
– Куда?
– А черт его знает? – Я откинулся на спинку сидения. – Сам не знаю.
– Так скажите, и я мигом.
Я молчал.
– Видишь, Юрий Павлович, какое дело? Бедные, бедные дети, хорошо, что не попал к директору.
– Извиняюсь, вы разве не у него были? Поехали, быстро домчу.
– Нет, нет. Ни в коем случае. Ни-ни. И не думай! – я резко запротестовал руками.
– Так что, стоять?
– Давай просто поедем и всё.
Мы долго кружили по городу. Я понемногу успокоился. Молчал, думал.
– Поехали, Юрий Петрович, на наш злополучный дом.
Когда подъехали к строящемуся дому, было уже поздно. Из темноты вынырнул сторож.
– Ну, поговорил?
– Поговорил… – голос мой был бесцветным и нисколько не убедительным.
– Не видать что-то. Говорю тебе: доведут до греха.
– Отец, как ваше имя, отчество? Прошу извинить.
– Евдоким Евграфович.
– Так вот, Евдоким Евграфович, пусть лупят.
– Как так?
– А вот так, рогатками. Вы их, конечно, шугайте. Но туда, – он кивнул головой, – ни-ни. Чтобы никто не знал.
– Чёй-то я не пойму.
– Так надо.
– Ну… если надоть, то надо. Токмо всё енто, я вижу, что-то не так. Да и ты какой-то не такой, как давеча.
Я хотел что-то сказать, огорчённо махнул рукой, крякнул, захлопнул дверцу.
Дед зашаркал к сторожке, беседуя сам с собой:
– Оно, конечно, понять можно… добрый. Мне и самому их жаль, сволочей. Насмотрелся, поди, на них. От такой житухи не токмо из рогатки, из обреза палить зачнёшь. Ох-хо-хо. И докуля мы эдак докотимся?
Две судьбы одного поколения
Абрамушка
Родился Абрамушка, как и все рождаются. А родившись, заорал так, что акушерки, принявшие его в свои руки, ахнули: «Генерал, да и только».
Всё в новорождённом, как полагается, но вот беда – на левой ручке был только один пальчик. Поплакала мать, погоревал отец. Да что делать? Так случилось. Горюй не горюй, не исправить. От этого ласкали его больше меры.
Абрамушка рос быстро. Сидеть, говорить и ходить начал раньше времени. Смышлёный был не по возрасту. Тянулся ко всему. Пальчиком стал в книгу тыкать тогда, как другие детки на горшочках ещё сидели.
Приметили это родители и решили: коли Бог обидел в одном, так в другом надбавил. Успокоили себя этим и с удвоенной энергией взялись за его развитие. Ясли и садик сочли не для него. Наняли гувернантку из студенток. Сами на работу, а она с Абрамушкой по специальной программе занимается. Мучилась с ним: характерный. Покрикивает да поучает сам, что да как.
К школе Абрамушка и читать, и писать умел не хуже заправского школьника. Сидел в классе на первой парте. Кругленький, выше детей на полголовы. Учительница не знала, как себя вести с ним. Все дети палочки пишут. Он требует: «Давайте мне задачки».
Посоветовались с директором школы, да и перевели во второй класс досрочно. Абрамушка попыхтел немного, догнал второклашек. Обошёл теперь не только своих одногодков, но дал фору однокашникам. Так случилось – от родителей перешло или сам удумал, – а только стал считать себя вроде как бы избранным.
Даже в простеньких играх с детьми ставил себя в лучшее положение:
– Это я, а это вы.
Из-за этого ребята с ним не дружили, за небольшим исключением, вроде Ваньки. Ванька и сам был хорошим безобразником, к тому же ещё и подхалим. Свой план имел в отношении Абрамушки: то пирожное достанется, то конфета… Абрамушка знал об этом, мог бы и прогнать Ваньку, но наоборот, делал довольный вид. Ему уже тогда льстило холуйское поведение таких, как «этот».
Шли годы. Из класса в класс Абрамушка переходил с круглыми пятёрками. Весь смысл жизни, казалось, он вкладывал в эти пятёрки. Он хотел быть лучше всех. Ему не нужны были просто пятёрки, он требовал пятёрок с плюсом. И ему ставили их. Он ждал похвал – его хвалили. Им гордились не только родители. Им гордилась школа. Наконец, самое главное – он сам гордился собой.
Учителя и родители прочили ему большое будущее: какой ум, какая память!
Его спрашивали: «Кем, Абрамушка, ты хочешь быть?». И слышали чёткий и определённый ответ: «Первым».
Он не говорил – физиком, учителем, врачом. Первым, и всё.
У Абрамушки не было определённой тяги ни к чему. Он даже в старших классах не задумывался над тем, кем ему быть. Он знал, был уверен: где бы ни был, кем бы ни стал, он будет первым. Его уверенность рождалась в нём не без основания. Чего бы не захотел – всегда добивался. Сказать правду, ему не всегда удавалось это легко. Но врождённые способности и воспитанная настойчивость ему всегда помогали.
Отзвенел последний звонок. Под марш духового оркестра Абрамушке директор школы вручил диплом с отличием.
На груди закрепил золотую медаль. Абрамушка был горд, с высоты сцены смотрел на своих бывших одноклассников. Сошел со сцены, но странное дело, никто не потянулся к его медали, как вроде они были у всех, а не у него одного. Почему это никого не интересует? Дети были заняты друг другом, смотрели свои аттестаты, радовались тройкам своим и своих друзей. Абрамушка ожидал чего угодно, только не этого, не такого «оскорбления».
«Над кем они смеются? Да как они смеют не замечать меня? – Кричало в его душе. – Делают вид, что я им не нужен?»
Даже Ванька куда-то запропастился. Хоть бы с ним поделиться радостью… Он не остался на прощальный бал. Понял: здесь обойдутся и без него. Там, где на него не обращали внимания, там, где он не кумир, он быть не мог.
– Погодите, вы ещё обо мне услышите!
Его мучило униженное самолюбие. Ум жаждал деятельности: хоть что, лишь бы быть первым. Родители собирались отправить Абрамушку в столичный престижный университет. Для них это было несложно.
– Станешь физиком, большим учёным.
– Нет, я останусь здесь.
Родители не знали, что делать. Но справиться с сыном было невозможно, и они отступились.
– Бог с тобой. Делай, как знаешь. Не маленький, не нам тебя учить.
Абрамушка не говорил о причинах, толкнувших его поступать в местный строительный институт. Причины были такими: во-первых, в институт поступала его одноклассница Света. Тихая миловидная девушка, к которой он ещё в школе проявлял знаки внимания, правда, пока безрезультатно. Верил, что своего добьётся. Во-вторых, большая часть из его класса сдали сюда свои заявления, и он хотел посмотреть, как те справятся с большим конкурсом. В-третьих, ему попросту не хотелось уезжать от родителей. Кто будет исполнять его желания, претензии? Кто накормит, кто постирает, погладит, начистит ботинки?
Институт ни на грамм не изменил Абрамушку, теперь уже Абрама. Он, как и прежде, был лучшим студентом. Сдавал курсовые, зачёты в срок и досрочно. Сидел в президиумах. Добился своего: защитился с золотой медалью, тихая девушка Света стала его женой.
Перед Абрамом открылась широкая дорога. Он потирал от нетерпения руки. Ему порядком надоело учиться, зубрить, быть зависимым от преподавателей, родителей… Он бросился в бой с азартом кулачного бойца.