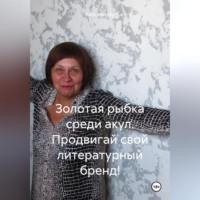Полная версия
Тайна мистера Никса
А снег идет и идет. Лица томичей кажутся знакомыми, люди улыбаются мне приветливо. Сердце жаждало чуда, и оно совершилось. Предстояла радостная встреча с моим героем, хотя я этого еще не знала.
Заведующая литературной частью томского драматического театра Мария Исааковна Смирнова встретила коллегу радушно, согрела чаем с вареньем и с купеческой щедростью предоставила рукопись бывшего директора Анатолия Иванова по истории театра.
Листаю страницы, и вдруг – глазам своим не верю: впиваюсь в текст - биография критика Вс. Сибирского. С волнением читаю:
«Всеволод Сибирский – наиболее распространенный псевдоним поэта, прозаика и журналиста Всеволода Алексеевича Долгорукова, сына князя А.В. Долгорукова (Долгорукого). Родился в 1845 году. Обучался в Морском кадетском корпусе (Петербург), где начал писать, но учебу не закончил, а был отправлен на флот юнкером. В 1864 году в чине мичмана вышел в отставку. Выступл в периодической печати, сочинял памфлеты и т.п. В 1867 г. занялся различными аферами, приведшими его к лишению княжеского титула и тюремному заключению на 1, 5 месяца. В 1870 году осужден по делу так называемых «червонных валетов» (обманное получение денег, совершенное группой аристократической молодежи), лишен дворянства и отправлен в бессрочную ссылку в Томск, где был приписан к мещанскому сословию. С начала 80-х годов возобновил сотрудничество в столичной периодике, в том числе в газете «Суфлер», «Театральный мирок» (С-Петербург). Умер в 1912 г. В газетах «Сибирский вестник», журнале «Сибирский наблюдатель» печатался под псевдонимами: В.Д., В. Д-ов, Вс. Д-ов, Вс. Сибирский, Гаврило Томский, Редактор, Гвидон, В. Долг-ов».
От такой удачи у меня захватило дух. Спасибо Марии Исааковне за щедрость, спасибо Анатолию Иванову за исследования. Наконец-то приподнялась завеса над тайной и стали понятны горестные строки стихотворения Вс. Сибирского «Итоги», обнаруженного мною в номере "Сибирского наблюдателя":
«Песня пропета в недолгие годы,
Счастье иль горе она?
Ждут нас под старость
одни лишь невзгоды -
чем тебя вспомнить, весна?
А омуте грязных страстей утопая,
Мы погубили себя,
Или на пользу родимого края
Мы послужили, любя?
Силы потрачены, нет упований
Но на священный алтарь
Пролита жгучих кровавых страданий
Капля хотя нами встарь?»
Унылые итоги подводил в конце жизни шестидесятилетний князь, осужденный по уголовному делу. Раскаивался.
«За те ужасные мгновенья
тоски, отчаяния, стыда,
раскаянья и угнетенья,
что знал я многие года,
за те жестокие печали -
томился ими я, порой,
о братьях, что во цвете пали
в борьбе с судьбою роковой, -
За то, что и во дни паденья
В своем я сердце сохранял
К свободе и к добру стремленья
И тех, с кем жил я, презирал.
И если же из тьмы могильной
Подняться я не мог на свет,
То не хватало воли сильной:
Я слаб был ею с юных лет, -
За все не жду я сожаленья
И ничьего участья я;
Но неужели я прощенья
Не заслужил от вас, друзья?»
Слаб был мой поэт, попал в сети порока, как многие из аристократической молодежи, игравшие в карты и жуировавшие в светском обществе. Раскаяние за совершенные преступления, муки дворянина, оторванного от привычного общества, оказавшегося в сибирской глуши среди диких купцов, ненавидящего это общество, тоскующего по прежней безоблачной жизни, - вот что рождало тоскливые стихи. Ошибки молодости, у кого их не было? Князь строго осудил себя, безмерно страдал в сибирской глуши. Пролита не одна капля жгучих кровавых страданий.
«Он шел неведомым путем –
Он шел ко благу или худу,
Но только жизнь била ключом,
Где б ни являлся он – он повсюду.
И средь накрывших небо туч,
Где не было просвета боле,
Вдруг пробивался яркий луч,
Как будто вестник лучшей доли.
Но с равнодушием к нему
мы относилися позорно,
не веря ни его уму,
ни стойкости его упорной.
Но, обессиленный, он пал,
Возрос на ниве скудной,
И мир, прозрев, тогда познал
Бойца, что вел нас к цели чудной».
Глава 4. Джо Дассен под кроватью
После трудного рабочего дня в архиве и библиотеке, уставшая, приплелась в гостиницу и рухнула в кровать. Однако не спалось. Положила мяту под подушку - не помогло. Уже двенадцать часов, пора бы заснуть. Вставать в восемь, с больной головой идти в архив, дышать пылью, рассматривать бисерные писарские почерки. В гостинице тихо. Кажется, я одна на этаже. Тишь, благодать. Словно в отместку радужным мечтам внизу грянула музыка. Поместили в самый уютный номер! Прекрасно! Чудненько! Странно, вчера музыки не было. Чорт, сегодня же пятница! Теперь зарядят на всю ночь!
Я встала, закурила - все равно не усну. Решила: завтра попрошу администратора поменять номер.
Красивый баритон завел мою любимую «Зи стефа». Джо Дассен! Сигарета выпала из рук. «Если б не было тебя, я выдумал тебя…», - пел кто-то внизу красиво, манерно. Какой самородок! И где – в затрапезном кабаке! Я затаилась дыхание и мгновенно влюбилась в бархатистый голос. Представила себе певца: лет сорока - пятидесяти… нет, пожалуй, меньше… тридцати пяти. Аккуратная бородка, кудрявые волосы до плеч, впереди небольшая залысинка, голубые выпуклые глаза, загнутые вверх томные ресницы, морщины от выдающегося носа к упрямому подбородку. Округлый животик, движения плавные. Красивые крупные руки с тонкими изящными пальцами. Кажется, мое воображение рисует Джо Дассена. В холодном номере гостиницы стало теплее
Ночь напролет я слушала французский шансон: Мирей Матье, Эдит Пиаф, Ив Сен Лоран. Потом настал черед итальянцев: Андриано Челентано, Ромино Пауэр.
Ах, мой милый кудесник! Я заснула под «Фели читу».
С нетерпением ждала следующей ночи. Мелькнула мысль: пойти в ресторан. Но, во-первых, нужны деньги, а во-вторых, не с кем. Буду наслаждаться искусством даром.
Концерт начался часов в десять. Публика разогрелась. Кутили какие-то старички: внизу мне встретились представительные мужчины пенсионного возраста. «Номенклатура празднует юбилей., - подумала я про себя. - Послушаем ретро! Ободзинский, Мансурова, Гелена Великанова, Майя Кристаллинская, «Маленький принц». Вначале зазвучали томные «Эти глаза напротив». Сердце растаяло. потом «Анжела» того же Ободзинского.
Бархатный тембр околдовал меня, привел в экстаз. Рок-эн-рол в стиле Магомаева: «Той единственной на свете королеве красоты». Я представила, как развеселившиеся старички, подхватив юных подружек, танцуют и заказывают «Битлз» и Элвиса Пресли. Но моему вокалисту никакие барьеры не страшны: он с блеском подделывался под голос Пола и короля рок-эн-рола. Волшебник!
Захотелось праздника. Слушательница добежала до ларька, купила баночку слабоалкогольного коктейля. Внизу, у ресторана, шумно, накурено, возле дверей старички прижимали к себе накрашенных девочнк-подростков.
В номере раскупорила баночку, разрезала яблоко и приступила к банкету. Мой «Джо Дассен» запел: «Быть может мне ты скажешь – да».
Надо бы сменить дислокацию, завтра рано вставать. Я погрузилась в сон. Оставался последний день командировки в Томске.
Воскресенье. Моя последняя встреча с музыкантом, похожим на французского шансонье. Так я его себе представляла: длинноногий, в белом костюме, на руке - крупный перстень. А может, я себе все придумала, и он толстый и маленький, с бородавкой на носу? Но зато как поет! Я приготовилась к вечернему концерту: приоделась, накрасилась, словно в филармонию собралась.
У входа в ресторан припарковались джипы и мерседесы. Контингент подобрался богатый, значит, до утра не засну. Ах, мой милый Августин, человек из музыкальной шкатулки! Согласна бодрствовать всю ночь, лишь бы услышать ваш божественный голос!
Ночной концерт начался с трагической мелодии: «Что ты вьешься, черный ворон, над моею головой?» Далее последовали: «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла, гоп-стоп, ты много на себя взяла, теперь расплачиваться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо, - видишь это все в последний раз!»
Публика желала репертуар «Лесоповала» и Михаила Круга. Джо Дассен хрипел и рычал весьма похоже на блатняков.
Бутылки красного вина для меня оказалось недостаточно. Сбегала в ларек за коньяком, и только выпив, успокоилась и заснула под монотонное завывание: «Я вернусь к тебе, мама, из зоны»…. Когда зарумянилось небо, вокалист исполнил последний хит Пугачевой: «Девочка- секонд-хэнд».
Вечером следующего дня путешественница уезжала из Томска. В привокзальном буфете продавали водку «Прохор Громов». В купе по радио разливалась осипшим соловьем Алла Борисовна: «За таблетку, за таблеточку, взяли нашу малолеточку, ожидает малолетку небо в клетку, небо в клеточку».
В поезде, качаясь в вагоне, под стук колес вдруг вспомнила полюбившегося слова автора театральных воспоминаний Никса.
Никс считал, что: «Все зло и неуспех театральных предприятий происходит именно от недомыслия и убежденности предпринимателей в том, что театральное дело – коммерческое. Жестокое заблуждение. Чем больше будет оправдывать дело себя в художественном отношении, тем более оно приобретет посетителей, заинтересованных исправностью постановки, а с ним, разумеется, приобретет и наибольшее количество рублей». Сибирский антрепренер и актер не уставал повторять, что искусство должно быть некоммерческим. От этой коммерциализации искусства всех порядочных творцов, считал автор мемуаров, охватывает тоска и безысходность.
Моего любимого князя Долгорукого, поэта Вс. Сибирского порой охватывало отчаяние, и криком боли звучат следующие стихи:
«Не гонись за правдой,
а гонись за златом;
много будет злата - всем ты будешь братом…
Назовут все другом – князи и вельможи;
Наслажденья жизни
Все узнаешь тоже…
Пусть проделкой темной
злато взять придется;
Но тебе в бечестье
Это не сочтется…
Только на законном
Действуй основаньи –
Осторожно, тонко,
Хоть без колебанья…
И пройдешь в почете
Путь свой до могилы –
Денежной, великой
представитель силы!»
Глава 5. Москва. Червонные валеты
Итак, в снежном маленьком Томске я узнала, что бурная молодость Всеволода Долгорукова закончилась судом в Москве и ссылкой в 1877 году в Сибирь. Чтобы подробнее узнать о деле «червонных валетов», по которому он был осужден, я отправилась в столицу.
Москва готовилась к встрече третьего тысячелетия. Уже в ноябре 2000 года на всех крупных площадях стояли наряженные елки. Куда ни взглянешь – сверкающие шары и красные Деды Морозы словно сторожат это богатство. Возле Государственной Думы находчивый москвич, надев на голову алый колпак, жонглировал елочными шарами. Народ на проходном месте хорошо подавал.
Вечерами зажигаются огни баров и кафе. Возле них курсируют истощенные мужички с рекламой на груди: цыпленок табака – 40 рублей, омары в соусе –100 рублей, кофе с коньяком – 45 рублей. Волей - неволей хочется зайти. Тут же прогуливаются разрисованные Санта Клаусы, зазывая поужинать. Попрошайки протягивают руки, назойливые девицы заглядывают в лицо. Вечерняя праздная Москва сверкает прыгающими огоньками веселых заведений, подмигивает зазывалами, вышибалами, дорогими девочками. С балконов и из подвалов несется музыка: гитара, саксофон, ударные. Вечный праздник! К казино подъезжают на иномарках бритоголовые. Вдоль Тверской прохаживаются милиционеры с ленивыми цепкими взглядами, останавливают лиц кавказской национальности, проверяют паспорта. В гостинице, если задерживаешься больше трех недель, требуют временной регистрации, – еще помнится прошлогодний взрыв в метро, по официальной версии – террористический акт чеченцев, по народной молве – борьба за передел торговой территории подземки.
По местному радио передали об убийстве крупного бизнесмена: расстреляли в упор среди бела дня у собственного дома.
Криминала в столице много, несмотря на то, что милиционеры оснащены машинами и современной техникой лучше, чем в провинции. Всюду на дорогах висят растяжки с голыми дамскими прелестями. На голых девиц шоферы уже не реагируют.
Москва развлекается. Алла Пугачева с Филей приглашает на запись «Рождественских встреч». В театрах идет нечто пошло-водевильное. Кроме комедий и фарсов малоизвестных авторов, повсеместно идет «Чайка» и «Мертвые души», а также - бессмертный «Ревизор». Самый популярный спектакль – американский мюзикл «Метро» в московском театре оперетты. Билетов не достать за месяц.
Посетила новый МХАТ. Давали «Без вины виноватые» Н.Островского. Располневшая Татьяна Доронина, кумир кино шестидесятых годов, а ныне художественный руководитель театра, играла заглавную роль, выла и стонала, картинно заламывая руки. Молодой герой-любовник, хорошенький кудрявый мальчик, истошно кричал, надрывая неокрепший голос. На вторых ролях помятая не первой свежести актриса и комик с синим носом шаржировали в лучших традициях провинциального театрика. Сто лет прошло, а те же приемы.
В московском светском обществе сын князя Алексея Владимировича Долгорукого, Всеволод, был желанным гостем. Он прекрасно вальсировал, пел романсы, музицировал на вечерах и балах, аккомпанируя себе на скрипке, строчил сентиментальные стихи в альбомы барышень, ходил в театр, знал всех актеров, писал о театре и музыке. Кроме того, молодой человек был недурен собою, весьма недурен. От его пышных волнистых волос дамы без ума. Молодой князь моден в литераторских кругах. Несколько сентиментальных повестей и рассказов, напечатанные в столичных газетах, привлекли внимание общества. Ходили слухи, что за какие-то мелкие махинации князь три месяца сидел в тюрьме, но… всего лишь три месяца! Карточный долг…мелкое мошенничество. Красивый корнет нуждался в деньгах, а наследство промотано предками. Обидно с такой внешностью, родовитостью быть бедным! Человека приятнейшего, с изысканными манерами везде охотно принимали: на балах, в театре, в элитном карточном клубе.
Но вскоре Всеволод Алексеевич опять оказался на скамью подсудимых вместе с сорока пятью такими же неудачниками из золотой молодежи. Обыватели с неотступным вниманием и даже некоторой завистью следили за хитросплетениями многочисленных уголовных дел, которые объединил процесс «червонных валетов». Даже здесь проклятый князь сумел прославиться и отличиться! Он был не просто участником, но крупным организатором дела.
Всеволод Алексеевич Долгорукий попался на мошенничестве: заставлял подписывать фальшивые векселя. Создал вместе с князем Огонь-Дмухановским липовую контору, принимал служащих, брал с них залог, а потом несколько месяцев не платил жалование и закрывал контору. Всё прямо как в славные 90-е годы двадцатого века. Обманутые вкладчики пожаловались, князя схватили, судили. Суд приговорил к лишению всех почестей, званий и ссылке в Сибирь на вечное поселение. Потомок Рюриковичей был лишен привилегий, сослан в Сибирь и приписан к мещанскому сословию.
Так, порывшись в газетах, восстановила я картину процесса о «червонных валетах».
А что происходило с моим, уже любимым, героем в Сибири, куда его сослали в 1877 году?
В Томске вместе с князем Долгоруковым находились еще несколько героев нашумевшего московского процесса, и они все недурно устроились: кто редактором газеты «Сибирский вестник», как Евгений Корш, кто содержал лавки, кто пристроился в городской власти. Всеволод Алексеевич служил секретарем у владельца золотых приисков, городского главы Зиновия Михайловича Цибульского, жил в прекрасном месте на даче под Минусинском, но бездеятельность ему быстро наскучила, и князь отпросился в Томск. Его пригласили репетитором в семью начальника канцелярии и секретарем в контору.
Однако неспокойная натура князя требовала широкого поля деятельности. В 1880-90-е годы он много писал театральных рецензий во все местные газеты: томский «Сибирский вестник», красноярский «Енисей», а также в московские журналы: «Артист», «Театр и искусство». Издавал совместно с предпринимателем М. Бейлиным журнал «Сибирский наблюдатель», поначалу называвшийся «Дорожник по Сибири и Азиатской части России», в начале двадцатого века выпускал газету «Сибирские отголоски» и сатирический журнал «Бубенцы».
Как знать, если бы не ссылка, может быть, не стал бы опальный князь видным, уважаемым человеком, известным писателем, поэтом, критиком и журналистом. Эти сведения о его журналистской деятельности я собирала годами и лишь в конце своего исследования имела перечень многих изданий, где печатал свои театральные опусы вездесущий критик Вс. Сибирский. Неутомимо строчил он стихи, выпустил несколько сборников в Томске. Видимо, мечтал прославиться на писательском поприще.
Первым его опубликованным романом была книга, изданная в Петербурге в 1864 году о своем старинном роде. Материал собрала тетка, известная писательница Наталья Долгорукая, несколько художественных историй в лучших традициях сентиментализма (например, драматический эпизод о непокорном прадеде, сосланного за провинности на военной службе в Омск), вписал племянник. За офицером последовала верная возлюбленная, однако не вынесла трудного путешествия и умерла, а прапорщик с горя едва не застрелился. Юноша остался жить в Сибири, не в силах уехать от могилы единственной подруги. Такой поэтический сюжет сочинил юный кадет.
Мог ли предполагать Сева, что скоро он окажется на каторге и навестит могилу предка? Нет, не мог Всеволод Алексеевич Долгоруков подумать о том, в какую сторону повернется жестокое колесо фортуны, что сменит он блестящее московское общество на диких сибирских купцов, а самого его уже никто не будет величать: ваша светлость, а будут обращаться с ним как с изгоем.
«Не много лет, но одряхленье
Я уже чувствую порой,
И жизнь зовет меня к забвенью,
И тело хочет на покой!
В мою цветущую годину-
Увы! - Я днем не дорожил,
И в буйных оргиях святыню
Души и сердца схоронил
Бездивлен ум и тело хило, -
Нет упований, веры нет,
И роковой конец – могила
Мне шлет ласкающий привет»,
- грустно подвел итог поэт Вс. Сибирский в конце жизни.
Глава 6. Милая Сашенька
Ржевский написал стихотворение и заложил его в какую-то книгу с тем, чтобы найти через несколько лет и прочитать:
«С милой долго шел в ладу я,
с милой долго песни пел,
но в отчизне этих песен
никто слушать не хотел.
Эти песни были – слезы,
Накипевшие от бед,
Эти песни были - тризны
По надеждам вешних лет.
В наковальне эти песни –
Эти бледные цветы
Не могли облечь мы в формы
Идеальной красоты.
И неслись бесследно звуки
Средь царящей пустоты,
Только двое им внимали,
только двое – я да ты».
Здесь, в Томске, он встретил свою возлюбленную, актрису, Александру Великанову, женился и был счастлив два недолгих года. Множество сёл и городов проехал он вместе со своей женой и дочерью-подростком. Давали представления небольшой труппой. Николай Иванович играл на скрипке. Александра пела, дочь танцевала. Весь Алтай исколесили, до Семипалатинска доехали. В горах то волки нападали, то шорцы разбойничали не хуже волков. Тяжелое было время, но счастливое.
Как трудно ему сейчас без ласковой, заботливой, умной Сашеньки. Ей он посвятил множество стихотворений:
«Запели вы, и голос серебристый,
Сулил, чаруя, негу и любовь,
И забывался жизни путь тернистый.
И грезы юности проснулись вновь.
Запели вы – и словно вестник рая
Сошел с небес к измученным сердцам
Надежда к нам явилась, оживляя,
И дверь раскрылась в заповедный храм…
О пойте больше, пойте не смолкая.
Пускай отрадных дум нахлынет рой,
И тени ночи меркнут, исчезая, -
И свет польется яркою волной,
Внимая вам и слыша эти звуки,
Полнее счастье и струится кровь».
А через несколько лет Сашеньки не стало. Осталось только ее дочь, молодая актриса, очень талантливая. Но она вскоре вышла замуж и уехала в Полтаву.
«Не с веселой лирой,
Не в блеске весны, ты явилась ко мне, дорогая.
Вкруг тебя обвивались печальные сны, гасло чувство,
в груди замирая.
В море темном подавленных бедствий и грез
Песни скорбной слышались звуки.
Увяли цветы,
В царство светлое роз
Словно волны, врывалися муки.
И прошла так вся юность, как будто в тюрьме,
Над последними солнца лучами
Не зажглися огни, и стою я во тьме
с догоревшими рано свечами».
Теперь он один. Болен чахоткой, как любимая жена Сашенька. Желчь разливается, и пиявки не помогают, которые врач Всеволод Крутовский рекомендовал. Безрезультатно. Видимо, недолго ему осталось. Всеволод Михайлович Крутовский деликатно молчит, но актер чувствует: осталось ему еще год–два. Опять болит голова.
Разъездная полуголодная жизнь в антрепризах сказалась: нищета,плозонькиетхолоднын номера в гостиницах, карты, бурные оргии до утра в клубе. Сколько раз приходилось убегать от назойливых кредиторов, скрываться, ехать ночами в телегах с крестьянами, в снег, дождь и холод по сибирскому бездорожью, по тайге и горам. Измучен, изнемог! Могила стала бы избавлением от житейских мук.
Николай Иванович потянулся к перу. Последнее время он стал очень сентиментален и написал около сотни стихов.
«Глухие годы впечатлений,
глухие дни – и без прикрас -
Переживаю средь волнений,
Переживаемых не раз.
Поблекли розы, лист свалился,
В душе поблекла красота,
Хочу – и не могу молится,
Хочу вперед – молчит мечта.
Порой вдали блеснет зарница,
И мрак опять – мрак без конца
Как бы в тисках – так хмуры лица
И так безрадостны сердца».
Глава 7. Санкт-Петербург
В столице я, сколько не искала, ничего не нашла, кроме сведений об уголовном процессе. Где же затерялись следы Всеволода Алексеевича Долгорукого? Может быть, в его родном городе? Еду в Питер.
Пасмурный, вечно холодный Ленинград. Подлетая на самолете к милому городу, я знала, что здесь непременно ждет нечто необычное.
Он не суетлив, как Москва, широкие проспекты теряются в туманной дымке, мелкий моросящий дождик омывает лицо и смывает грешные мысли. Сонный, умиротворенный город: Васильевский, Литейный, Дворцовая площадь, Кунсткамера и Марсово поле. Все такое родное, знакомое. Много километров исходила я по Ленинграду, знаю любой уголок. Возвратилась сюда через двадцать лет.
Петербург нисколько не изменился, люди такие же предельно вежливые, говорят «спасибо» и «пожалуйста». Всеволод Алексеевич Долгоруков, чувствую, был, истинным петербуржцем: деликатным, культурным, возвышенным, словно архитектура Растрелли. В Питере долго искала институт театра и кино - ЛГИТМИК, наконец обнаружила во дворе под аркой. Увидела и ужаснулась: я ошиблась - это не то! Полуразрушенное здание с облупившейся штукатуркой. Во дворе голодные кошки забираются с жадным воем в переполненные помойные баки. Внутри здание выглядело еще более жалко. Крыша провисает, куски штукатурки отваливаются, двери рассохлись, серые стены и потолки с разводами от дождевых бедствий, полы не знали краски лет двадцать. Это- российская альма-матер кино- и театральных муз?!
Приветливая профессор кафедры истории театра Наталья Борисовна Владимирова встретила коллегу радушно: напоила чаем с вареньем, подарила бесценный источник информации, предложила поступать в аспирантуру и пригласила в БДТ на аван-премьеру «Дома, где разбиваются сердца». Немного поскучала на премьере для «пап и мам», рядом зевали зрители. Со сдачи половина публики ушла. Я спрашивала себя: что такое творится с одним из лучших коллективов страны?!