
Полная версия
Наследники легенд

Трейси Деонн
Наследники легенд
Tracy Deonn
LEGENDBORN
Text copyright © 2020 by Tracy Deonn Walker
Перевод с английского М. Кармановой
Художественное оформление Я. Клыга
© М. Карманова, перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
* * *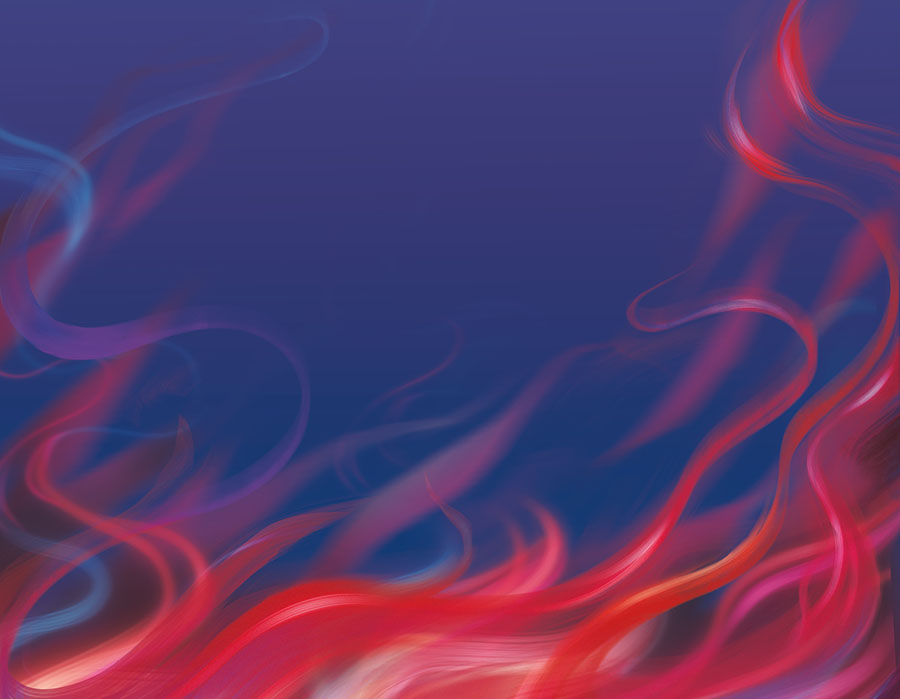
Моей матери
Пролог
Фигура полицейского расплывается, а затем снова становится четкой.
Я не смотрю прямо на него. Я вообще не могу сфокусировать взгляд ни на чем в этой комнате, но, когда смотрю на полицейского, его лицо мерцает.
Его значок, прямоугольная табличка с именем, булавка для галстука? Все эти металлические предметы у него на груди переливаются и мерцают, словно серебряные монеты на дне фонтана. Весь он кажется зыбким. Нереальным.
Но я об этом не думаю. Не могу.
Кроме того, если плакать три часа подряд, нереальным начнет казаться все.
Полицейский и медсестра привели меня и отца в крошечную мятно-зеленую комнатку. Теперь они сидят за столом напротив. Они говорят, что «разъяснят нам ситуацию». Эти люди кажутся нереальны, как и то, что они говорят.
Я плачу не о смерти матери. И не о себе. Я плачу, потому что эти незнакомцы в больнице – медсестра, врач, полицейский – совершенно не знают мою мать, но они были рядом с ней, когда она умерла. Когда родные умирают, приходится слушать, как незнакомцы озвучивают твои самые страшные кошмары.
– Мы нашли ее на семидесятой трассе около восьми, – говорит полицейский. Включается кондиционер. Острый запах больничного мыла и чистящего средства дует нам в лицо.
Я слушаю, как незнакомые люди говорят в прошедшем времени о маме – о человеке, который привел меня в этот мир и создал мое настоящее. Сидя прямо передо мной, они говорят в прошедшем времени о моем сердце, которое бьется, кровоточит и рвется на части.
Это надругательство.
Эти незнакомцы в форме режут меня на части своими словами, но они просто делают свою работу. Нельзя кричать на людей, которые просто делают свою работу, правда же?
Но мне хочется.
Папа сидит в кресле, обтянутом искусственной кожей. Оно скрипит, когда он наклоняется вперед, чтобы прочитать мелкий шрифт на листах бумаги. Откуда взялись эти документы? Чьи они, эти документы о смерти мамы? Почему они готовы, когда я – еще нет?
Папа задает вопросы, ставит подпись, моргает, вздыхает, кивает. Не знаю, как он функционирует. Мамина жизнь остановилась. Разве все живое не должно было остановиться тоже?
Ее раздавило внутри нашего седана, искореженное тело зажало под приборной панелью, а тот, кто с ней столкнулся, скрылся с места происшествия. Рядом никого не было, а потом какой-то симпатичный, вероятно, перепуганный добрый самаритянин заметил ее перевернутую машину на обочине дороги.
Кроваво-красные нити соединяют последние слова, которые я сказала маме прошлой ночью со зла, с другой февральской ночью. С ночью, когда мы с моей лучшей подругой Элис сидели вместе в комнате на нижнем этаже дома ее родителей и решили, что программа раннего обучения в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и есть то, о чем мы мечтаем. «Талантливые студенты старшей школы могут в течение двух лет изучать в Каролинском университете предметы, которые будут зачтены при дальнейшем обучении, пожить в общежитии и стать независимыми». По крайней мере, так было написано в брошюре. Раннее обучение в университете – единственная возможность для двух девочек из этнических меньшинств выбраться из городка в глуши Северной Каролины. Для нас этот шаг означал смелые идеи и более просторные классы – и приключения. Мы написали заявления вместе. После школы вместе пошли прямо к бентонвильскому почтовому отделению. Вместе кинули конверты в почтовый ящик. Если мы попадем на раннее обучение, то выберемся из Бентонвильской школы и будем жить в университетском общежитии в четырех часах езды от дома – и вдали от родителей, которые иногда контролировали нас так крепко, что нам было не вздохнуть.
За десять лет до моего рождения мама тоже училась в Каролинском университете. Перспективная молодая исследовательница. Я из года в год слушала рассказы о тех временах. Видела на стенах фотографии сложных химических экспериментов: мензурки и стеклянные пипетки; защитные очки, упирающиеся в ее высокие скулы. На самом деле именно она натолкнула меня на эту мысль. По крайней мере, так я себе говорила.
Ответы пришли вчера. Родители Элис знали, что она подала заявление. Они радовались так, будто это их приняли.
Я знала, что мне на такое рассчитывать не стоит: я подала заявление тайком от матери, уверенная, что, как только меня примут, как только я получу ответ, она откажется от своего стремления всегда удерживать меня рядом. Я передала ей письмо с сине-белой эмблемой Каролинского университета, улыбаясь, словно получила приз.
Я никогда не видела ее в такой ярости.
Сейчас мое сознание просто не понимает, где находится тело. Оно снова и снова пересматривает последние тридцать шесть часов, пытаясь понять, как мы оказались в этой больничной палате.
Прошлая ночь. Она кричала о доверии и безопасности, и о том, что не нужно стремиться повзрослеть так быстро. Я кричала о несправедливости, о том, что заслужила, и о том, что хочу оказаться подальше от грунтовых дорог.
Это утро. Я по-прежнему сердилась, когда проснулась. Лежа в постели, я мысленно пообещала себе не разговаривать с ней до конца дня. Тогда это мне понравилось.
Этот день. Ничего такого, обычный вторник, за исключением того, что для меня он крутился вокруг сообщения «Мы поговорим позже».
Этот вечер. Она выехала с работы.
Потом. Машина.
Сейчас. Бледно-зеленая комната и запах антисептика, который обжигает легкие при каждом вдохе.
Навсегда. «Мы поговорим позже» – не то же самое, что «Мы не поговорим больше никогда».
Нить, которая тянется из февраля, туго обвивается вокруг меня, будто я никогда больше не смогу вдохнуть. Но почему-то я все еще слышу, как полицейский говорит, мерцая и сияя.
Воздух вокруг него кажется живым. Будто он пропитан магией.
Но когда весь твой мир рушится, немного магии – это… ничто.
Три месяца спустя
Часть 1
Орден
1

Первокурсник проносится мимо меня в темноте и бросается с обрыва в освещенную луной ночь.
От его крика сонные птицы вспархивают со своих мест. Звук эхом отражается от поверхности скал, окружающих карьер Эно. Лучи фонариков следят за трепыхающимся телом студента, за тем, как он размахивает руками и болтает ногами, а потом ударяется о воду с оглушительным всплеском. Вверху, на краю обрыва, тридцать студентов вопят и гикают, так что их радость разлетается среди сосен. Словно подвижное созвездие, конусы света скользят по поверхности озера. Все дружно задерживают дыхание. Глаза всех присутствующих высматривают ныряльщика. Затем парень с рыком выныривает, и толпа взрывается криком.
Прыжки с обрыва – идеальное воплощение веселья, которому предаются белые мальчишки с Юга: деревенское безрассудство, карманный фонарик в качестве единственной меры предосторожности, риск и дерзость. Я не могу отвести взгляд. Каждый раз, когда кто-то из них бежит вперед, мои ступни сдвигаются чуть ближе к краю. Каждый прыжок в пустоту, каждый момент, когда они зависают в воздухе перед падением, разжигают в моей груди искру безумного желания.
Я подавляю его. Запечатываю. Заколачиваю двери и окна.
– Повезло, что он не сломал на хрен свои ноги, – бормочет Элис, мягко растягивая слова. Она хмыкает, глядя через край на то, как улыбающийся ныряльщик хватается за выступающие из воды камни и вьющуюся лозу, чтобы взобраться наверх по скалистому склону. Ее прямые угольно-черные волосы прилипли ко лбу. Влажный августовский воздух прижимается к ее коже, как теплая липкая ладонь. Мои кудрявые волосы и так уже собраны в пучок, как можно дальше от затылка и шеи, так что я отдаю Элис запасную резинку, которую всегда ношу на запястье. Она молча берет ее и собирает волосы в хвост.
– Я почитала про этот карьер по пути сюда. Каждые несколько лет кто-то получает травму, падает на камни, тонет. Мы точно не будем прыгать, и к тому же становится поздно. Нам пора.
– Почему? Мошки заели? – Я прихлопываю крошечное насекомое, жужжащее у ее руки.
Она пристально смотрит на меня.
– Ваша попытка сменить тему оскорбительна для меня. Вы уволены. – Элис хочет изучать социологию, а потом, может быть, заняться правом. Она допрашивает меня с тех пор, как нам исполнилось десять.
Я закатываю глаза.
– Как лучшая подруга ты уволила меня пятьдесят раз с тех пор, как мы были детьми, и все равно продолжаешь нанимать снова. Отвратительная работа. Быть кадровиком – сущий кошмар.
– А ты все возвращаешься. Это улика, пусть и косвенная, в пользу того, что ты любишь свою работу.
Я пожимаю плечами.
– Хорошо платят.
– Ты же знаешь, почему мне это не нравится.
Я знаю. Не то чтобы я планировала нарушать закон в наш первый вечер в кампусе, но после ужина возможность предоставилась сама – в лице Шарлотты Симпсон, девочки, которую мы знали еще по Бентонвильской старшей школе. Она просунула голову в дверь нашей комнаты, когда мы еще не успели даже распаковать вещи, и потребовала, чтобы мы присоединились к ней. После двух лет на программе раннего обучения Шарлотта официально была зачислена в Каролинский университет и, похоже, в какой-то момент на этом пути полюбила вечеринки.
Днем национальный парк Эно-Ривер открыт для походов, кемпинга и катания на каяках, но, если пробраться туда после закрытия, как сделали ребята вокруг нас, это, вероятно (вернее определенно), считается незаконным проникновением. Обычно я таким не занимаюсь, но Шарлотта объяснила, что ночь перед первым днем занятий особенная. У некоторых студентов младших и старших курсов есть традиция устраивать вечеринку на карьере. А еще какие у них есть традиции? Первокурсники прыгают с края обрыва в озеро с минеральной водой. Парк находится на границе между округами Оранж и Дарем, к северу от шоссе I-86, примерно в двадцати пяти минутах от кампуса Каролинского университета. Шарлотта отвезла нас туда на своем старом серебристом джипе, и всю дорогу я чувствовала, как Элис, сидящая на заднем сиденье рядом со мной, поеживается от незаконности всего происходящего.
Безудержный смех ныряльщика долетает до обрыва раньше, чем из-за края показывается его голова. Не помню, когда в последний раз я сама так смеялась.
– Тебе это не нравится, потому что это, – я перехожу на театральный шепот, – против правил?
Темные глаза Элис пылают за стеклами очков.
– Если нас поймают ночью за пределами кампуса, то автоматически исключат из программы.
– Притормози, Гермиона. Шарлотта говорила, что некоторые студенты делают это каждый год.
По лесу пробегает еще один ныряльщик. Раздается более глубокий всплеск. Радостные крики. Элис дергает подбородком в сторону остальных студентов.
– Это вот они. А скажи мне, почему ты хочешь здесь быть?
«Потому что сейчас я не могу просто сидеть в нашей комнате. Потому что с тех пор как мамы не стало, внутри живет другая я, которая хочет ломать вещи и кричать».
Я приподнимаю плечо.
– Потому что щепотка бунтарства – лучший способ начать наше приключение.
Она явно не в восторге.
– Кто-то сказал «бунтарство»?
Под ногами Шарлотты шуршат листья и еловые иголки. Резкий звук выделяется на фоне гудения сверчков и глухого биения басов, доносящегося из колонок на вечеринке. Шарлотта останавливается рядом со мной и отбрасывает с плеча стянутые в хвост волосы.
– Прыгаете? Это традиция. – Она ухмыляется. – И это прикольно.
– Нет, – почти сразу же срывается с губ Элис. Наверное, на лице отразились мои мысли, потому что Шарлотта снова ухмыляется, а Элис говорит: – Бри…
– Шарлотта, ты на медицинском учишься или где? – спрашиваю я. – Как ты можешь быть настолько умной и при этом настолько плохо влиять на других?
– Это колледж, – пожав плечами, говорит Шарлотта. – «Умный, но плохо влияет на других» – это примерно про половину студентов.
– Шэр? – окликает ее мужской голос, доносящийся из-за ободранного остролиста. Шарлотта тут же расплывается в широкой улыбке, а затем оборачивается и смотрит на высокого рыжего парня, идущего к нам. В одной руке у него красный одноразовый стаканчик, а в другой – фонарик.
– Привет, крошка, – мурлычет Шарлотта, приветствуя его хихиканьем и поцелуем.
– Шэр? – одними губами произношу я, а Элис морщится.
Когда они отделяются друг от друга, Шарлотта жестом подзывает нас.
– Крошка, это новые девочки с программы раннего обучения. Бри и Элис. – Она обвивает руку парня, словно коала. – Это вот мой парень. Эван Купер.
Эван рассматривает нас достаточно долго, чтобы мне стало интересно, что же он о нас думает.
Элис – американка тайваньского происхождения, низкого роста, жилистая, с внимательными глазами и ухмылкой, которая почти не исчезает с ее лица. В ее манере одеваться так, чтобы производить хорошее впечатление, «просто на всякий случай», и сегодня она выбрала темные джинсы и блузку в крупный горошек с широким воротником а-ля Питер Пэн. Под пристальным взглядом Эвана она поправляет на носу круглые очки и смущенно машет ему рукой.
Во мне сто семьдесят два сантиметра роста – достаточно высоко, чтобы я могла сойти за студентку, – и я темнокожая. От мамы мне достались скулы и округлые формы, а от папы – пухлые губы. На мне старые джинсы и футболка. Стесняться не в моем духе.
Глаза Эвана расширяются, когда он смотрит на меня.
– Это ты девочка, у которой умерла мама? Бри Мэтьюс?
Внутри пробивается боль, но затем моя стена встает на место. Смерть создает альтернативную вселенную, но за три месяца у меня появились инструменты, чтобы в ней жить.
Шарлотта пихает Эвана локтем в ребра и пронзает его взглядом.
– Что? – Он поднимает руки. – Ты же так и ска…
– Извини, – она перебивает его, виновато глядя на меня.
Моя стена имеет два эффекта: она скрывает то, что мне нужно скрыть, и помогает показать то, что я хочу показать. Особенно полезно, когда все вокруг сожалеют-о-моей-потере. Сейчас я мысленно укрепляю стену. Она крепче дерева, железа и стали. Она должна быть крепче, ведь я знаю, что будет дальше: Шарлотта и Эван обрушат на меня предсказуемый поток слов, как и все, кто говорит с девочкой-у-которой-умерла-мама.
Это все равно что собирать бинго «Как утешить скорбящего человека», только когда все квадраты закрыты, все проигрывают.
Шарлотта оживляется. Ну поехали…
– Как ты держишься? Могу ли я что-то для тебя сделать?
Два пункта с одной попытки.
Настоящие ответы на два вопроса? Настоящие-настоящие ответы? «Не очень» и «Нет». Вместо этого я говорю:
– Все в порядке.
Никто не хочет слышать настоящие ответы. Вот чего на самом деле хотят те, кто сожалеет-о-моей-потере: чувствовать себя хорошо, задавая мне эти вопросы. Отвратительная игра.
– Представить не могу, – бормочет Шарлотта, закрывая еще одну клеточку в моем бинго. Они могут это представить, они просто не хотят.
Некоторым истинам может научить только трагедия. Первое, чему я научилась: когда люди признают твою боль, они хотят, чтобы в ответ ты признавала их. Они хотят видеть это в реальном времени или сочтут, что ты не отвечаешь им должным образом. Голодные синие глаза Шарлотты высматривают слезы или дрожащие губы, но моя стена крепка, так что она не увидит ни того, ни другого. Жадный взгляд Эвана выискивает во мне боль и страдание, но, когда я непокорно вскидываю подбородок, он отводит глаза.
Хорошо.
– Сожалею о твоей потере.
Проклятье.
И со словами, которые я ненавижу больше всего, Эван закрывает бинго.
Если у людей проблемы с памятью, они теряют вещи. Потом они снова находят их там, где потеряли. Но моя мама не потеряна. Ее больше нет.
Той Бри, которая была раньше, тоже больше нет, хотя я делаю вид, что это не так.
Бри-После появилась на следующий день после того, как умерла мама. Я легла спать той ночью, а когда проснулась, она была здесь. Бри-После присутствовала на похоронах. Она была со мной, когда соседи стучались в дверь, чтобы предложить соболезнования и запеканку с брокколи. Она была со мной, когда скорбящие гости наконец разошлись по домам. Хотя о больнице у меня лишь смутные обрывки воспоминаний – травматическая потеря памяти, если верить странной нравоучительной книжке о потерях, которую читает папа, – у меня есть Бри-После. Она – тот непрошеный подарок, который вручила мне смерть.
В моем воображении Бри-После выглядит почти так же, как я. Высокая, спортивная, с теплой коричневой кожей, с более широкими плечами, чем мне хотелось бы. Но если мои темные густые кудри обычно стянуты на макушке, у Бри-После они разбросаны свободно, как ветви дуба. У меня глаза карие, а у нее – цвета темной охры, алые и обсидиановые, как расплавленное в горне железо, потому что Бри-После всегда на грани взрыва. Хуже всего ночью, когда она прижимается к моей коже изнутри и боль становится невыносимой. Мы обе хором шепчем: «Прости меня, мама. Это все моя вина». Она живет и дышит в груди, отставая на один удар сердца, следуя за моей жизнью, за моим дыханием, как злое эхо.
Сдерживать ее – непрестанный труд.
Элис не знает про Бри-После. Никто не знает. Даже мой папа. В особенности мой папа.
Элис откашливается, этот звук ударяется о мои мысли, словно волна. Как надолго я выпала из реальности? На минуту? Две? Я сосредотачиваюсь на них троих, отгораживаясь и изображая спокойствие. Молчание нервирует Эвана, и он выпаливает:
– Кстати, волосы у тебя невероятно офигенные!
Даже не глядя, я догадываюсь, что из-за влажного ночного воздуха кудри выбиваются из пучка и торчат во все стороны, тянутся к небу. Я настораживаюсь, потому что у него такая интонация, будто он не комплимент делает, а просто наткнулся на что-то забавное и странное – а именно на темнокожую меня с типичной афроамериканской прической. Чудесно.
Элис бросает на меня сочувственный взгляд, которого Эван вообще не замечает, как же иначе.
– Думаю, нам пора. Может, пойдем?
Шарлотта надувает губы.
– Еще полчаса, и пойдем, обещаю. Я хочу посмотреть, что там за веселье.
– Ага! Приходите, посмотрите, как я хлещу пиво! – Эван обнимает Шарлотту за плечи и уводит ее прочь, прежде чем мы успеваем возразить.
Элис ворчит себе под нос, но идет следом, высоко поднимая ноги, когда ступает по разросшейся траве у края леса. В основном там растут ветвистое просо и мелколепестник. Когда мама была жива и рассказывала мне о травах, она называла подобные растения «ведьминой травой» и «блошницей».
Только почти дойдя до деревьев, Элис понимает, что я не иду следом.
– Идешь?
– Секунду. Хочу посмотреть еще на пару прыжков. – Я тыкаю пальцем через плечо.
Она шагает обратно.
– Подожду с тобой.
– Не, все нормально. Иди туда.
Она пристально рассматривает меня, явно разрываясь между желанием поверить и надавить и узнать больше.
– Посмотреть, не прыгать?
– Посмотреть, не прыгать.
– Мэтти. – Моя детская кличка – сокращение от фамилии – заставляет сжаться что-то в груди. В последнее время все старые воспоминания вызывают такой эффект, даже те, которые не связаны с ней, и это в некотором роде невыносимо. Взгляд туманится, я чувствую, как подступают слезы, и мне приходится моргнуть, чтобы лицо Элис снова обрело четкость – бледное, с очками, постоянно сползающими на нос. – Я… я понимаю, что это все не так, как мы ожидали. Я про Каролинский университет. Но… я думаю, твоя мама в итоге согласилась бы. В конце концов.
Я отвожу взгляд настолько далеко, насколько это возможно при лунном свете. На другом берегу озера верхушки деревьев образуют темную границу между карьером и сумрачным небом.
– Мы никогда не узнаем.
– Но…
– Всегда есть «но».
В ее голосе появляются жесткие нотки.
– Но если бы она была здесь, не думаю, что она хотела бы, чтобы ты…
– Чтобы я что?
– Стала кем-то другим.
Я пинаю камушек.
– Мне нужно минутку побыть одной. Наслаждайся вечеринкой. Я скоро вернусь.
Она смотрит, словно оценивая мое настроение.
– «Ненавижу небольшие вечеринки – они требуют постоянных усилий».
Я прищуриваюсь, выискивая в воспоминаниях знакомые слова.
– Ты что… подсунула мне цитату из «Джейн Остин»?
Ее темные глаза сверкают.
– Ну и кто тут книжный червь? Тот, кто произнес цитату, или тот, кто ее распознал?
– Подожди. – Я задумчиво качаю головой. – А теперь из «Звездных войн»?
– Не. – Она ухмыляется. – Из «Новой надежды».
– Где вы там? Идете? – бесплотный голос Шарлотты стрелой пронизывает лес. В глазах Элис по-прежнему заметна щепотка беспокойства, но она сжимает мою руку, а затем уходит.
Как только шорох ее шагов по траве стихает, я выдыхаю. Вытаскиваю телефон.
«Привет, доча, вы с Элис устроились, все в порядке?»
Через пятнадцать минут второе сообщение.
«Я знаю, что ты, наша смелая Бри, давно хотела сбежать из Бентонвиля, но не забывай нас, простых людей, оставшихся дома. Пусть твоя мама тобой гордится. Позвони, когда сможешь. Люблю. Папа».
Я убираю телефон обратно в карман.
Я хотела сбежать из Бентонвиля, но не потому что была смелой. Сначала я хотела остаться дома. Это казалось правильным после всего, что случилось. Но когда я месяц за месяцем проводила под одной крышей с отцом, мой стыд становился невыносимым. Мы оплакивали одного и того же человека, но оплакивали по-разному. Это как с теми постоянными магнитами из кабинета физики: сколько ни пытайся сблизить одинаковые полюса, ничего не получится. Я не могла коснуться печали моего отца. На самом деле и не хотела. В конце концов, я уехала из Бентонвиля, потому что оставаться было слишком страшно.
Я прохаживаюсь по обрыву вдалеке от остальных, так что карьер остается по левую руку. С каждым шагом в воздух поднимаются запахи сырой земли и сосен. Если я вдыхаю достаточно глубоко, заднюю стенку горла царапает минеральный запах щебня. В нескольких десятках сантиметров от меня земля разверзается и открывается широкое озеро, в котором отражаются небо, звезды и все бескрайние ночные возможности.
Отсюда я вижу, с чем приходится иметь дело ныряльщикам: не знаю, что рассекло землю и камни, создав этот карьер, но у его склонов угол градусов в тридцать. Чтобы преодолеть его, нужно как следует разбежаться и прыгнуть далеко. Сомнениям тут нет места.
Я представляю, будто разбегаюсь, словно луна – финишная черта. Бегу, будто могу оставить за спиной гнев, стыд и слухи. Я почти ощущаю сладкое жжение в мышцах, выступающий пот, прилив адреналина, когда я проплываю над краем обрыва и погружаюсь в пустоту. Без предупреждения неугомонная искра Бри-После вырывается из моего нутра, как горящая лоза, но на этот раз я не сдерживаю ее. Она разрастается в грудной клетке, и ее горячее давление становится таким сильным, что мне кажется, будто я вот-вот взорвусь.
Какая-то часть меня хочет взорваться.
– Я бы на твоем месте не стал.
Насмешливый голос, доносящийся сзади, пугает меня и заставляет взлететь в небо нескольких птиц, прятавшихся в кронах деревьев.
Я не слышала ничьих шагов, но высокий темноволосый парень небрежно прислоняется к дереву, словно стоял там все это время. Он сложил руки на груди и скрестил ноги в темных берцах. Выражение лица у него ленивое и презрительное, будто он не хочет даже утруждать себя тем, чтобы как следует изобразить нужную эмоцию.
– Извини, что вмешиваюсь. Мне показалось, будто ты собираешься прыгнуть с обрыва. Одна. В темноте, – протяжно произносит он.
Он пугающе красив. У него аристократичное, четко очерченное лицо, его обрамляют высокие бледные скулы. Остальное едва проступает из тени: черная куртка, черные штаны, черные, как тушь, волосы, которые падают на лоб и завиваются в кудри чуть ниже ушей правильной формы, в которых виднеются небольшие затычки из черной резины. Ему не больше восемнадцати, но что-то в его лице делает его непохожим на подростка – очертания подбородка, линия носа. Неподвижность.



