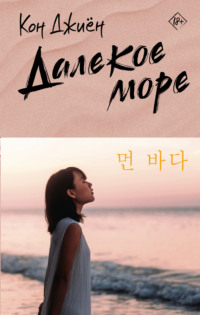Полная версия
Высокая небесная лестница
Существует одна забавная история о монахе-бенедиктинце, которую мы часто слышали еще в нашу бытность послушниками от отца-магистра.
Примерно тысячу лет назад в одном из бенедиктинских монастырей жил монах, который взмывал в воздух от ликования всякий раз при упоминании слов «Иисус», «Святой Дух», «Бог Отец» и подобных. Очевидно, это было результатом благодати. Однако местной братии приходилось весьма нелегко из-за таких его чудесных полетов. Они мешали молиться, служить мессу и погружаться в размышления над Писанием. Понятно, что монахов мучили сомнения и зависть, мол, почему Создатель одарил подобной способностью лишь его?
Однажды, во время реконструкции собора, нужно было установить на крышу огромный крест весом в целую тонну, и этот монах подвизался выполнить работу. Во дворе монастыря все братья стали выкрикивать «Иисус, Святой Дух! Создатель!» и все в таком роде, от чего тело монаха взмыло вместе с громоздким крестом в руках на крышу, где он, как и надо, был установлен. Когда этот монах спустился на землю, братия встретила его весьма холодно. Все разошлись по своим кельям, будто ничего не случилось. После долгих размышлений настоятель вызвал монаха и повелел:
– С нынешнего дня прекращай взмывать!
А ведь он взлетал не по волшебству и не по своему желанию. К тому же использовал свою способность на благое дело. Хоть и неохотно, он повиновался настоятелю, согласно клятве, которую дал. С тех пор он затыкал уши, чтобы не слышать слов «Иисус», «Святой Дух», «Создатель» и других, и даже привязывал себя к земле.
Закончив свой рассказ, отец-магистр обвел нас глазами и заключил:
– Так несколько десятилетий спустя он действительно стал святым.
Мы, молодые люди, слушая это, со смешками зубоскалили, мол, уж в наши-то дни можно было и не подчиняться. Если бы он пустил в интернет видео хотя бы одного чуда, произошедшего с ним, то вполне мог бы оставить обитель и создать свой собственный монашеский орден, куда со всей страны хлынули бы верующие, на пожертвования которых приход буквально утопал бы в деньгах… Но на самом деле эта история заставляла о многом задуматься.
Жить вместе, сплоченно… на этом крайне трудном и тяжком пути. И пускай найдутся те, кто будет хмыкать, дескать, в наше время подобного не бывает, однако именно послушание является великим секретом того, что эта удивительная организация существует уже более полутора тысяч лет…
– Сегодня отправляйтесь спать, а завтра после утрени побеседуем, – холодно проговорил настоятель.
Михаэль, однако, головы не склонил.
32У входа на стоянку слонялся Анджело, не находя места от беспокойства. После ухода настоятеля мы, не сговариваясь, направились в мастерскую по изготовлению свечей, куда недавно назначили на работу Анджело. Там всегда витал кисло-сладкий аромат дикого меда…
– Проголодались, наверное? Я тут разжился в трапезной кимбапом[10]. – Анджело протянул блюдце.
– Спасибо. Слушай, а вина хоть чуток нет?
Вино было, и Михаэль, не притрагиваясь к еде, сделал глоток.
Есть причина, по которой я до сих пор хорошо помню тот вечер, когда не смог остаться с ними. В ту пору наш монастырь получил от Оттилийской конгрегации, одной из ведущих мировых бенедиктинских организаций, рекомендацию взять под свою опеку аббатство Ньютон в Нью-Джерси, США. Как секретарь настоятеля, я должен был помочь ему подготовить документацию по Ньютонскому аббатству, чтобы он мог доложить об этом на завтрашнем заседании. Однако мне пришлось поехать в Сеул из-за внезапной операции бабушки, а сразу по возвращении скататься до Тэгу из-за Михаэля, поэтому я совершенно не успел подготовиться, и теперь мне предстояла бессонная ночь за работой с документами, так что было совсем не до посиделок с ними.
И раз уж Михаэль впал в немилость, я подумал, что хотя бы с моей стороны нужно подсуетиться и как-то смягчить настоятеля. Если честно, мною двигала мысль, что не поступи я так – и это усугубит ситуацию Михаэля. Тем самым я надеялся хоть как-то вступиться за него, когда у аббата возникнут вопросы.
– Чем дальше в лес, тем больше дров. Уволивший эту работницу директор – католик. Говорят, он много пожертвовал нашему монастырю. Но если посмотреть на реальность, создается впечатление, что у этих людей, владеющих капиталом, изначально отсутствует человеческая совесть как таковая. Рабочие, проработавшие по двадцать – тридцать лет, в одночасье были уволены из-за якобы финансовых трудностей, в то время как высвобожденный таким образом капитал был переведен на строительство новой текстильной фабрики в Мьянме.
До моего появления эти люди без чьей-либо помощи сами протестовали, сидя на рамёне. Как подумаешь о той несчастной женщине, которая забралась на вершину этой металлической конструкции, где ни помыться нормально, ни в туалет по-человечески сходить… Увидев это, я не мог просто пройти мимо. Они же ничего не украли, не клянчат себе средств на существование, они всего лишь просят позволить им работать. А полиция, между прочим, сегодня отобрала даже еду, которую собирались поднять ей наверх. После всего этого я не мог заставить себя пойти на вечерню. Как можно проигнорировать это безобразие и совершать молитву…
– Как тут пройти мимо… Я бы поступил так же. Все вы правильно сделали, брат Михаэль!
Михаэль схватился руками за голову, а у Анджело в глазах стояли слезы.
– Плохо, конечно, что ушел без разрешения, и мне жаль, что я доставил неприятности нашей братии в монастыре. Действительно, я виноват. Впервые пожалел о своем образе жизни. Я надел монашеские одежды, чтобы посвятить себя Христу. Оставил все и пришел сюда жить по Его воле. Однако, выходит, как раз монашеская сутана стала камнем преткновения в этой самой жертвенной жизни ради бедных, о которой говорил Христос.
Мы помолчали.
Той ночью мы еще немного поговорили на эту тему, после чего я ушел первым и вернулся в свой кабинет. Оставив их с полбутылкой вина, думал, что скоро и они отправятся спать. А сам, заварив кофе покрепче и отхлебывая маленькими глотками, разбирал документы на английском и немецком.
Меня разбудил звон колокола, призывавшего на утреню, – тогда-то я и обнаружил, что уснул, сидя за столом. Поспешно присоединившись к молитве, я увидел перепуганное до смерти лицо Анджело среди братии. По его глазам понял, что ночью они опустошили еще несколько бутылок вина. Михаэля не было. Мы с Анджело тревожно переглянулись, а тем временем аббат хмуро окинул нас взглядом.
После утренней молитвы у нас оставалось около двадцати минут до мессы. Анджело первым побежал в комнату Михаэля, а я пошел в свой кабинет, чтобы заварить кофе. Должно быть, я переборщил – сыпанул в два раза больше, чем обычно. В надежде, что и я, и Михаэль сможем поскорее прогнать сонливость. Так мне думалось тогда…
33Разбудив Михаэля, мы заставили его через силу выпить кофе и потащили на стояние[11] в притворе перед началом мессы. Стацио было очень важным принципом в монашеской жизни. Первоначально это слово произошло от латинского слова «стоять» (stare) и означало «остановку».
Чтобы пролить свет на события того дня, позволю себе небольшое уточнение по поводу этой уникальной традиции наших бенедиктинских монастырей. Обычно в обителях колокол звонит за пять минут до молитвы. Тогда каждый прекращает все свои дела, берет молитвослов и становится в очередь в притворе перед собором. Когда послушник открывает дверь, все заходят. Такая вереница выстраивается трижды в день: на утренней мессе, на вечерне и на заключительной службе – комплетории. И это не просто длинная очередь. Все собравшиеся стоят в безмолвии, чтобы сконцентрироваться и подготовить сердце перед молитвой и мессой. Утром молчание посвящено сосредоточению души на Господе, а вечером – размышлению о прожитом дне.
В нашем монастыре есть большое окно, выходящее на запад, и в зависимости от сезона можно было наблюдать разную картину. После весеннего равноденствия солнечный свет, проходящий через витраж, отбрасывал на восточные окна цветные тени, которые со временем удлинялись, а после осеннего равноденствия – постепенно укорачивались. Помню, я мог определить время года по длине тени, отбрасываемой витражом в переходе.
Летом монахи, потеющие на рисовых полях, кухне, в мастерских или на работах вне помещений, заранее спешат в свои комнаты, умываются, переодеваются в чистые монашеские облачения и собираются в притворе. После чего пространство заполняется каким-то особым благоуханием, которое трудно объяснить лишь запахом лосьона. В такие мгновения у меня иногда проносилась мысль, что именно эти безмолвные остановки делали прекрасными совместное житие и общие молитвы. Однажды к нам в монастырь с визитом приехал буддийский монах, и когда при прощании его спросили, что запомнилось больше всего – его ответом было именно стацио. Он испытал невиданный доселе святой трепет, когда в этой стоящей безмолвной веренице увидел человека с чистым лицом, облачившегося после недавнего душа в белое летнее монашеское одеяние. Накануне, поднимаясь к монастырю перед молитвенным часом, буддийский монах встретил этого же человека – в потрепанной рабочей одежде и с вымазанной в земле лопатой в руках. Естественно, гость решил, что это какой-то местный работник, и поприветствовал его, не особо церемонясь, мол, потрудился ты на славу.
Степенная, несуетливая жизнь, важность которой подчеркивает наша обитель, может быть неправильно воспринята как нечто статичное и праздное. Однако, напротив, жизнь монастыря протекает в постоянном чередовании активности и покоя, подобно переплетению нити основы с нитью утка, побуждая к умению останавливаться в любой момент, несмотря на всю занятость.
34Когда в то утро прозвенел колокол на мессу, мы выстроились в притворе на стацио. Михаэль крепко сжимал губы. Я не обратил особого внимания на его бледное лицо, так как считал важным само его присутствие на мессе. И вот в момент, когда вереница монахов собиралась уже тронуться с места, все и произошло… Стоило мне ступить вперед, как мою спину обдало чем-то горячим. Не было даже времени оглянуться – стоявший за мной Михаэль согнулся пополам и фонтаном вылил все содержимое желудка на мою сутану. И обычно благоухающий перед утренней мессой притвор в доли секунды наполнился кислым винным смрадом.
В то мгновение, зажав рот от готового сорваться с моих губ крика, я неожиданно ощутил леденящую, тяжелую тишину, обволакивающую нас. И лишь не совсем благозвучное клокотание жидкости, все еще c избытком фонтанирующей из горла Михаэля, эхом отдавалось в длинной галерее.
Многочисленные взгляды буквально на миг остановились на нас с Михаэлем и Анджело, но тут же беспристрастно скользнули мимо – колонна двинулась с места и исчезла в храме. В притворе остались лишь я, в испачканной донельзя сутане, Михаэль с белым как смерть лицом, и Анджело со слезами на глазах. Изнутри собора донеслись григорианские песнопения.
Смогу ли я забыть выражение глаз Михаэля в тот день? Если бы в обычной жизни он не был таким опрятным, если бы у него было чуть меньше чувства собственного достоинства, если бы все это время он считался возмутителем спокойствия, бестолковым и нерадивым послушником, если бы он, Михаэль, имел репутацию проныры и хитреца… А-а-а! Тогда это утро не стало бы для меня настолько проклятым.
35Вся эта череда событий и переполох из-за задержания в полиции монаха и семинариста, готовившегося к принятию вечных обетов и рукоположению, и некрасивой утренней сцены у входа в храм породили мрачные предчувствия. Аббат, намеревавшийся вызвать на разговор Михаэля сразу после утренней мессы, хранил молчание вплоть до приближения дневного часа. С одной стороны, положительное качество характера настоятеля заключалось в том, что к человеку, завоевавшему его доверие, он проявлял терпимость. Даже если человек этот и совершал порой ошибки, из-за которых другие хмурили брови. Но иногда все происходило с точностью до наоборот – утратившего доверие аббата не могли смягчить никакие положительные поступки человека. Всеми фибрами души я ощущал, что разочарование все больше перерастает в гнев – прямо пропорционально тем надеждам, что возлагались на Михаэля, и это тревожило больше всего. Все-таки настоятель имел право в любой момент выставить нас из монастыря со всеми нашими пожитками, так как мы еще не дали пожизненный монашеский обет.
Избавившись утром от содержимого своего желудка, обессиленный Михаэль лежал в своей келье. Как и Анджело. Перед полуденной молитвой я заглянул к нему.
– Тебе тоже плохо?
На мой вопрос он отрицательно покачал головой.
– Я почти и не пил. Если честно, вчера вина было мало, а мне показалось, брат Михаэль хочет хорошенько выпить.
– И чего тогда лежишь? Разве дело не усугубится, если еще и ты будешь валяться в постели?
Посмотрев на мое нахмуренное лицо, Анджело призадумался, а потом переспросил:
– Брат! Вы и вправду так считаете? Значит, я зря это делаю, и надо подняться. Видно, я опять сглупил. Просто, думал, если встану и буду ходить как ни в чем ни бывало, то все обернется против одного Михаэля, будто он один в этом виноват. Мы же всегда втроем были, а тут получится, что Йохан и Анджело – нормальные, один Михаэль как с цепи сорвался и куролесит вовсю… Вот и решил: если хотя бы я к нему присоединюсь, то дело будет не лично в одном Михаэле, а воспримут это, мол, нынешние монахи такие все непутевые… и упреки пожилых братьев обратятся не только в сторону Михаэля… Как же тогда быть? Может, мне тогда лучше встать?
Анджело договорил и, избегая моего взгляда, смущенно усмехнулся. От его слов словно маленький камешек со стуком упал на самое дно моего сердца. «Ладно, проехали, лежи себе, не вставай!» – неожиданно для самого себя, ворчливо остановил я его. И, вероятно, случилось это из-за того камешка, упавшего на дно сердца. Анджело, взглянув на выражение моего лица, неуверенно заговорил:
– Знаете, брат Йохан! Раньше, когда моя мама была жива, она всегда говорила, что я ни в чем не виноват. Подростком я возразил, что не верю ей. Она же все время твердит, что я прав. И тогда мама сказала: «Да? Ну прости меня. Но мне кажется, что ты всегда прав. Если честно, Анджело, я не знаю, что правильно, а что нет. Но даже если твои поступки неправильны, я все равно хочу поддержать тебя. Ведь когда ты действительно что-то сделаешь не так, то тебе не будет одиноко, будто ты один оступился»… Позднее я много размышлял о маминых словах. Ну чем я могу помочь брату Михаэлю? Хотя бы буду на его стороне. Чтобы ему не было слишком одиноко, будто он один наломал дров.
Мне кажется, тогда я не смог понять всего, что сказал Анджело. Я нервничал из-за опасения, что молчание аббата означает великий гнев, и праздные воспоминания о матери, которая даже не могла пожурить своего отпрыска, не затронули струн моей души. Лишь по прошествии долгого времени я порой вспоминал эти слова Анджело и плакал в одиночестве, когда тосковал по ним, моим закадычным друзьям.
36В тот день перед вечерней на мою электронную почту пришло письмо от аббата с распоряжением распечатать документ и до молитвы повесить на доску объявлений перед трапезной.
На днях послушник Юн Михаэль без разрешения начальства участвовал в акции протеста, из-за чего был задержан полицией, а в дальнейшем также послужил причиной отвратительного инцидента в нашей общине. В связи с этим, выслушав мнение Комитета по воспитанию и тщательно рассмотрев на Совете Пресвитеров вышеописанное поведение, мною принято следующее решение:
– дача вечных обетов брата Юн Михаэля откладывается на один год, а решение о его священническом рукоположении будет принято позднее;
– богословские занятия в семинарии могут быть продолжены, но посещение других мест, кроме семинарии, без разрешения настоятеля запрещены в течение одного года;
– в качестве искупления вины накладываю кульпу, согласно которой требуется в течение шести месяцев навещать престарелых братьев в больничной палате и служить их нуждам.
Настоятель монастыря,аббат Пак СамуэльМои руки с распечаткой дрожали. Это было суровое наказание. Решив, что узнать об этой новости с доски объявлений будет слишком жестоким ударом для Михаэля, я прежде зашел к нему в келью. Там же застал и Анджело. Почему-то я подумал, это к лучшему, что он рядом. Их взгляды скользнули с моего лица на бумагу в руках – очевидно, они уже догадались, в чем дело.
– Кульпа? – спросил Михаэль, ставя на тумбочку коробочку с соевым молоком, которое он потягивал через соломинку.
Во всем чувствовалась отчаянная попытка не так серьезно воспринимать происходящее. Я протянул бумагу. Мне пришлось лицезреть, как его губы задрожали и дернулись, будто в судороге. Я был готов к тому, что он скомкает бумагу, но, против ожидания, Михаэль спокойно вернул мне распечатку и через силу улыбнулся слегка перекошенным ртом.
– Церковь, которая утверждает необходимость заботы о бедных и отказывается выяснить, что приводит к бедности; церковь, которая предостерегает от абортов и совсем не интересуется, почему молодые матери заходят так далеко, убивая своих детей в утробе. Церковь, которая не предпринимает ни единого шага, чтобы пресечь продажу оружия ведущими державами с целью убийства миллионов людей! Церковь, которая считает, что развод – это грех, и закрывает глаза на страдания людей, не могущих развестись! Церковь, которая думает, что содомия – это всего лишь какая-то блажь и не более того!
Вот значит, как эта церковь хочет наказать меня, приравняв к тем монахам, что путались с женщинами или давали деру с деньгами, заработанными монастырской братией своим трудом. Кажется, Толстой говорил: «Но разве не то же явление происходит среди богачей, кичащихся своим богатством, то есть грабительством; военачальников, хвастающихся своими победами, то есть убийством; властителей, гордящихся своим могуществом, то есть насильничеством? И если всё это существует в действительности, но невидимо вам, значит, вы и сами таковы».
Лицо Анджело побледнело, я же пока хранил молчание. Михаэль спросил у меня глухим голосом:
– Так есть ли смысл оставаться мне здесь и дальше?
Причина, по которой критику трудно вынести, состоит в том, что в ней искусно скрыто осуждение критикующего. Мы злимся, потому как понимаем, что она нацелена не на мои действия, а на меня. Сколько кающихся обрело бы человечество, если бы эта критика подразумевала не осуждение, а несла в себе только любовь и заботу?
В тот день я был сильно разочарован поспешным решением настоятеля относительно будущего одного молодого человека. Однако понимал, что мой гнев скептически настроенному Михаэлю пользы бы не принес. К тому же говорить о недостатках церкви, которые после смерти Иисуса постоянно проявлялись, сейчас было довольно опасно. Я сомневался, не зная, что сказать в утешение, чтобы хоть как-то успокоить Михаэля, а в это время Анджело взял его за руку.
– Брат? Хорошо бы и меня так наказать! Я тоже порой задавался вопросом, есть ли у меня причина оставаться здесь. Я… Мне, по правде сказать, особо и податься-то некуда, но даже если бы и было, куда пойти, я понял – есть кое-что, почему не могу оставить это место. И причина именно в вас. Брат Йохан и брат Михаэль! Я так вас люблю, что решил остаться здесь. Какая еще причина нужна? Мы ведь братья. Настоящие братья, что живут в одном доме.
Михаэль, не сдержавшись, вырвал раздраженно свою руку из ладони Анджело. Настала моя очередь перевести разговор в другое русло, чтобы избежать неловкости меж ними.
– Подумаешь, отсрочка на год… по сути, она ведь не сыграет большой роли на пути длиною в целую жизнь. Я иногда думаю о том, что сказал отец-магистр, когда мы были послушниками: «Можно и оставить монастырь. Быть может, не так уж и плохо что-то поменять. Но столь важное решение однозначно должно приниматься с миром в сердце».
Тут глаза Михаэля просияли. Ему хотелось найти интеллектуальное и моральное оправдание, чтобы защититься от захлестнувшего его стыда. Наконец его губы перестали подергиваться.
– Верно, Йохан! Все ответы на жизненные вопросы всегда можно найти в одиночестве и страданиях! Я как-то упустил это из виду.
Анджело, молитвенно сложив руки, следил за диалогом. Его глаза, устремленные на нас, сияли любовью и уважением. Он слабым эхом вторил нашим словам: «Решение однозначно должно приниматься с миром в сердце… Да, да, именно с миром!» или же «В одиночестве и страданиях! Да, точно! В одиночестве и страданиях!»… Примерно так это звучало.
Я посоветовал Михаэлю оставаться в своей келье до вечера. А Анджело попросил принести Михаэлю нехитрой снеди из трапезной, чтобы с его оголенными нервами в нынешней ситуации он мог избежать саркастических замечаний некоторых пожилых монахов, для которых обвинения вошли в привычку. А еще, чтобы его не ранили дежурные, сказанные для проформы слова сочувствия. Кажется, я рассудил правильно. Можно сравнить… м-м-м… например, с моей кожей, которая обветривается и шелушится на горячем летнем ветру, хотя виноват вовсе не ветер, а мой ослабленный иммунитет. Как много людей во всем человеческом роде может похвастаться храбростью во время шторма?
– Может, нам еще раздобыть бутылочку вина?
На мой вопрос Михаэль наконец улыбнулся. Одно лишь слово «вино» вызывало нервную дрожь.
37В тот день, перед вечерней, аббат вновь позвал меня. Возникшая тень недоверия и разочарования по отношению к тому, кого я все это время считал за родного отца, скорее всего, придала моим словам черствости. Однако настоятель со своим привычно невозмутимым выражением лица, на котором, казалось, было написано «я само спокойствие», проговорил:
– Оказывается, племянница приедет перед ужином. У нее с собой вещи, так что, будь добр, сходи за ней на станцию. Забронируй тихую комнату для гостей и подсоби, чем можешь. По всей видимости, задержится она здесь приблизительно на месяц… сказала, что пишет диссертацию на тему «Особенности психологических стрессов религиозных людей».
Осмыслил ли я тогда факт, что у аббата существует какая-то племянница? Помнил ли я девушку в светло-зеленом свободном джемпере и белой юбке из Иосифовского монастыря, утопающего в грушевом цвете? Как задорно она смеялась, запрокинув голову? Осознавал ли я, что человек, приезжающий на станцию W, и есть та самая особа? Замирало ли мое сердце в ожидании снова увидеть ее пальцы, поправляющие волосы, и колыхающуюся на ветру белую юбку чуть ниже колена? А ведь я знал о горе моего брата Михаэля, потерпевшего бедствие на подходе к самой вершине, восхождению на которую он посвятил свою юность.
38Иногда жизнь предает нас, и обычно это происходит, когда нами начинает управлять сердце. Голова, миллионы лет страдавшая из-за такого неугомонного сердца, не желала это демонстрировать, стараясь упрятать поглубже душевные порывы в глубокое хранилище. Однако эта жалкая попытка потерпела полное фиаско: даже если временами разуму и удавалось одержать победу, то в скором времени все сходило на нет, когда горячие сердечные устремления прорывались в самом неожиданном месте.
Я поспешил в свою келью и, уладив кое-какие дела, побежал на станцию W. Помнится, это был весенний вечер. Земля у входа в монастырь была усыпана лепестками горной магнолии[12], и я бежал по ним, как по белому ковру. За моей спиной раздался колокольный звон, призывающий к вечерней молитве. Как ни странно, я ощутил, что день становится длиннее, и воздух наполнен ароматом цветов. Со склона, по дороге от нашего монастыря к станции W, вдалеке виднелись бегущие воды реки Нактонган, окрашенные янтарно-оранжевыми лучами заходящего солнца.
Да, так и было. Я без сомнения ощутил болезненный сигнал, предвещающий резкие перемены в судьбе… Даже не знаю. Когда пишу эти строки, мое сердце блуждает между иллюзиями и воспоминаниями. Кто знает, возможно, с самого начала все было не совсем реальным. На тот момент мне еще не исполнилось и двадцати девяти, я был молодым человеком, с избытком наполненным влечением к противоположному полу, словно застоявшаяся озерная вода. И я наивно полагал, что подобен не пламени, а месторождению нефти – просто черная жидкость, впервые обнаруженная после долгой спячки в заброшенной земле.
Поезд прибыл в вечерних сумерках. Так Сохи оказалась у нас.
39– Надо же, не ожидала такого холода и теплой одежды не захватила, – проговорила она, когда я затащил в гостевую комнату два больших чемодана и уже собирался выйти.
Мне запомнились ее слова, потому что это был первый раз, когда наши взгляды встретились. Ее глаза сияли чистым черным светом. Они отвергали долгие размышления и рассказывали всю историю ее жизни, без сложностей и печалей. Казалось, эти глаза с радостью помнили дни, когда ее безоговорочно любили и долгое время потворствовали любым шалостям и прихотям. Ее глаза отражали спокойствие и уверенность, позволившие ей по приезде в эту чисто мужскую обитель без намека на жалобу, недовольство или требование, просто и без затей поделиться своим беспокойством по поводу неудачного выбора легкой одежды.