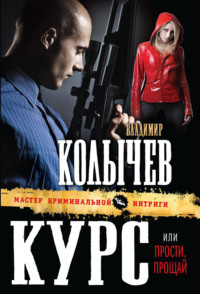Полная версия
Восемь лет до весны
– Зря ты такое про меня говоришь.
– Ну, с тобой-то, может, и все в норме, а вот если братья твои насядут на девку, то не слезут с нее. Я сказала ей, чтобы она больше к вам не приходила, но коли вдруг что, ты не давай ее в обиду, ладно?
– Да и не собираюсь, – сказал я, глядя на руку, которая все еще покоилась у меня на коленке.
Красивая у Дуськи рука, кожа нежная, с матовым оттенком, узорные венки сквозь нее розовеют. Пальцы длинные, изящные, ногти ухоженные. Может, и на локтевых сгибах уже нет синяков от уколов. Если, конечно, она действительно завязала.
– И не надо.
Она повела рукой вверх по моей коленке, но тут же спохватилась, пугливо отдернула ее и стала подниматься, глядя куда-то в сторону от меня.
– Значит, насчет Клавы договорились? – осведомилась она.
– Уходишь? – с сожалением спросил я.
– Да. Вдруг твои появятся. Ты им скажи, чтобы меня не трогали, – проговорила Дуська и медленно направилась к тротуару.
Меня потянуло за ней. Внутри все кипело и булькало, но не мог же я сделать ей непристойное предложение. Во-первых, у нее пузо, а во-вторых, она уже вернулась к нормальной жизни.
– Ну, если не трудно, – добавила Дуська.
– А Жарику? Ему я так сказать не могу.
Я должен был разобраться с Жариком. Этого от меня ждала моя семья, но у меня практически не было никакой информации о нем. Приблатненный отморозок, две ходки за разбой, бандитствовал, приторговывал наркотой. Это и все, что я о нем знал. А где он обитает, не имел понятия. Может, Дуська прояснит.
– Зря ты его вспомнил. – Голос ее звякнул, как лопнувшая струна.
При этом она смотрела вправо, на дорогу.
Там-то по тротуару как раз торопливо спешил Жарик. Лицо багровое, взгляд в кучку, походка шаткая. То ли обдолбался, то ли на грудь крепко принял. Не исключено и то и другое.
Жарик шел не просто так, из пункта «А» в пункт «Б». Он пошатывался, смотрел по сторонам, искал кого-то взглядом.
Этот поганец увидел Дуську, оскалился, протянул к ней руку, ускорил шаг и заорал:
– Вот ты где!
– Да когда же он сдохнет? – простонала Дуська, поворачиваясь к нему спиной.
При этом она толкнула меня в плечо, давая понять, что я должен преградить Жарику путь. Но я и не собирался убегать от него. Ноги будто вросли в землю, тело окаменело.
– И ты здесь? – обрадовался пьяный отморозок, увидев меня.
Я все так же остолбенело смотрел на него, но инстинкт самосохранения все же прорезался сквозь ступор, который меня охватил. Рука потянулась в карман за ножом.
– Пошел вон отсюда! – заявил Жарик и махнул рукой, как веником.
Но я не сдвинулся с места, достал нож и выщелкнул лезвие.
– Ах ты, сучонок! – прорычал Жарик, остановился, сунул руку в задний карман джинсов и достал такой же кнопочник, как и у меня.
Это не дешевый кухонный нож, лезвие от ручки у него не отстанет, в живот войдет на всю глубину.
Я вспомнил, как Жарик убивал меня. Он не рисовался, не угрожал, просто взял и ударил. Этот гад и сейчас поступит точно так же, если я буду жевать сопли.
Страх продолжал держать меня за ноги, но рука все же пришла в движение. Я и сам не понял, как лезвие моего ножа разрезало рубаху, кожу, вспороло упругую плоть и вошло в живот Жарика. В глаза мне брызнула кровь, но меня это не остановило. Я выдернул нож из раны и тут же ударил снова.
Только профи может убить человека ножом с первого же удара. Если тыкать наобум, то одного раза будет недостаточно. Иногда и десяти бывает мало. Так говорил мне врач. Сейчас я просто вспомнил об этом. Поэтому бил и бил, в диком помешательстве ускорял движения. А Жарик стоял, опустив руки, и смотрел на меня выпученными глазами.
Я не хотел убивать Жарика. Мне нужно было просто свалить его на землю, чтобы он не смог ударить меня в ответ. Я что-то не очень хотел опять угодить в больницу, под нож хирурга.
Жарик дергался, старался поднять руку, в которой мертвой хваткой держал нож. Он пытался меня остановить, но каждый мой удар заставлял его отходить назад.
Жарик опустился на колени, затем протянул ко мне руки и рухнул на живот. Окровавленный нож оставался в моей руке. Я стоял и потрясенно смотрел на Жарика, который конвульсивно дергал ногой и двигал руками, пытаясь подняться. При этом я видел и самого себя. Как будто душа моя отделилась от тела и наблюдала за происходящим со стороны.
Наконец Жарик затих, раскинул руки, вытянул ноги.
– Ленька! – донеслось до меня.
Душа моя вернулась на место. Я обернулся и увидел маму, которая бежала ко мне, махая кухонным полотенцем.
А Дуську я не увидел. Не было ее, испарилась она, как моча с крышки унитаза, испугалась и дала деру, не дожидаясь исхода. Но разве я мог ее за это осуждать?
Глава 3
Отец не раз пугал нас переполненными камерами, и мы ему верили. Три раза он был под следствием, дважды уходил на этап, поэтому знал, что говорил.
Но мне повезло. В хате на десять мест было всего шесть юнцов. Один сидел на столе в позе пахана, выставив напоказ свои татуировки. Под ключицами розы, на плече тюльпан за решеткой и в колючей проволоке. Два глаза на груди, третий на лице, а четвертый – стекляшка.
Вокруг этого бывалого типа сидели арестанты помоложе и помельче рангом. Торс никто из них не оголял. Им выставляться не полагалось. Их дело маленькое, надо сидеть ровно и слушать, чем грузит их старший.
Но что-то они не очень-то заглядывали ему в рот. Один тайком под столом тасовал карты, другой зевал во весь рот, третий дремал, закрыв глаза. Все курили. Трехглазого фрукта обволакивал дым.
Скучно им было, а тут вдруг открылась дверь, и появился новичок. То есть я. Все внимание переключилось на меня.
Я поздоровался так, как учил отец, но на это никто не обратил внимания. Паренек с пятаком вместо носа презрительно хмыкнул. Он принял мою вежливость за слабость.
Расписной субъект хищно посмотрел на меня одним своим глазом, нахохлился, напыжился, развел в сторону локти. Вслед за этим он поманил меня к себе пальцем.
Я пожал плечами и подошел к нему, двумя руками прижимая к себе матрас, свернутый в рулон. Я мог бы положить его на койку, но вдруг паханчику взбредет в голову двинуть меня ногой или даже ударить заточкой в грудь? В этом случае матрас обеспечит мне защиту.
– Что это? – спросил паханчик, ткнув пальцами в глаза на груди.
– Ищешь сук, – вспомнил я.
– Откуда знаешь?
– Знаю.
– Может, ты и есть сука?
Я понял, что разговора не будет. Трехглазый смотрящий должен был поднять себя в глазах арестантов. Жертвоприношение – самый лучший для этого способ. Если он выбрал меня, то блеять с ним бесполезно. Только бодаться, причем в полную силу. Других объяснений тут не примут.
Ступора не было, голова соображала четко, решение созрело мгновенно. Матрас, свернутый в рулон, я поставил на стол слева от паханчика, а ударил его справа, с той стороны, где у него не было глаза. Врезал с размаха, не опасаясь ответной реакции.
Этот субъект действительно прозевал удар из-за своей ущербности. А бил я достаточно мощно, да и кулак мой угодил точно в переносицу.
Я помнил, как было с Жариком, и сейчас собирался идти на добивание, но тюремный орел вдруг повесил клюв и опустил крылья. Сознание он не потерял, но покачал отбитой головой и беспомощно сполз со стола.
Парень с пятаком вскочил и собрался меня ударить.
Я схватил матрас, упавший на меня, отступил на шаг назад, взглянул на врага и сказал:
– Это тебе за суку!
Нога моя коснулась никем не занятой шконки. Я бросил на нее матрас. Но боевую стойку принимать не стал. Это бесполезно, если на меня набросятся толпой.
– А кто ты такой? – спросил коренастый крепыш с лысой, отполированной до блеска головой.
Он слегка приподнял руку и придержал свинорылого типа, который все никак не решался атаковать меня.
– Да чего ты спрашиваешь? – прохрипел паханчик. – Мочи фраера!
– Ага, нападай сразу все, по беспределу, – заявил я.
– А что ты знаешь про беспредел? – осведомился свинорылый пацан.
– Ну, про сук он знает, – заявил лысый.
– И про розочки тоже, – добавил я. – Загубленная молодость.
– А что не так? – Паханчик заметно насторожился.
– Загубленная молодость коблы, – заявил я и скривил губы.
Тут, наверное, надо пояснить, что на женских зонах так называют активных лесбиянок.
На самом деле я не уверен был в своих словах, знал просто, что розы и тюльпаны в тюремной живописи цветут со смыслом. Если тюльпан в колючке, значит, за решеткой бывал уже в шестнадцать лет, если роза в том же соусе, значит, восемнадцать стукнуло в неволе. Просто розы – загубленная молодость, роза с шипами на бедре – пассивная лесбиянка.
– Кто кобла?! – завопил паханчик и вскочил.
– Так я же не утверждаю. Но ты можешь с меня спросить прямо сейчас, – проговорил я, вызывая огонь на себя.
Но он не решался идти на реванш и на этом терял последние очки.
– Не утверждаешь? – деловито спросил лысый.
– Прогон нужно сделать, спросить.
– На кого прогон?
– И на Розочку тоже.
– На кого? – вскинулся паханчик.
Но лысый окончательно его добил.
Он повернулся, рассеянно глянул на него, в раздумье приложил палец ко лбу и проговорил:
– Ну, с тобой, Розочка, допустим, все ясно, а ты кто будешь? – Пацан расправил плечи и шагнул ко мне.
Полной уверенности в своих силах в нем не наблюдалось, но желание стать старшим пересиливало опасность, исходящую от меня.
– Леня меня зовут. Сермягов.
– А погоняло?
– Его мне тюрьма даст.
– Сермягов?.. – Свинорылый тип потер кулаком переносицу и спросил: – Это ты Жарика пописал?
– Я.
В камере вдруг стало тихо. Слышно было, как скапывает с трубы вода.
– Слыхали, – наконец-то выдавил из себя лысый.
– Писарем будешь, – заявил свинорылый парень и осклабился.
– Резкий ты, – завистливо глянув на меня, пискнул трехглазый паханчик.
Я задрал рубаху, открыл свежий шрам на животе и обвел взглядом обитателей камеры. Все должны его видеть и знать, что почем.
– Жарик первый начал. А я ответил. Всегда будет точно так же.
Трехглазый тип не выдержал мой взгляд, вжал голову в плечи. Он, казалось бы, смирился со своим новым именем Розочка.
Подавленно смотрели на меня и все остальные. А ведь совсем недавно они готовы были наброситься на меня толпой, забить, затравить, опустить. Но моя решимость поставила их на место, а недавнее прошлое и вовсе загнало в стойло. Если я смог ответить самому Жарику, то мне ничего не стоило так же спросить и с них.
Правильно говорил отец. Есть вещи, которые нельзя прощать. Я должен был убить Жарика, что и сделал. За это мне честь и уважение.
Уважали меня теперь не только мои новые сокамерники. Я поднялся в глазах своих братьев. Санька никогда больше не посмеет ударить меня в живот, как он привык это делать. Виталик не поведет трахать бабу, которая мне нравится. Отец не пожалеет денег на передачи в тюрьму. Подогрев мне обеспечен.
Я не мог знать, сколько лет мне отмерит суд, но сидеть мне, скорее всего, придется. Никто не видел, как Жарик бросался на меня с ножом. Мама говорила, что я всего лишь защищался, но ей не особо верили.
А Дуська снова исчезла, собрала вещи и куда-то уехала. Ее искали, но без толку. И братьев моих она боялась и с дружками Жарика связываться не хотела. Ее можно было понять.
Я пытался объяснять следователю, что Жарик уже пытался меня убить, но тот в ответ лишь усмехался. Об этом нужно было сказать сразу, еще в больнице, а сейчас уже поздно.
Адвокат уверял, что следователь просто вредничает. Но самому суду все равно, когда я сделал признание. Для вынесения приговора важно состояние, в котором находилась моя психика в момент убийства. Если Жарик пытался убить меня в прошлом, то я имел право защищаться от него в настоящем, боялся за свою жизнь, испытывал сильное душевное волнение.
Необходимая оборона, аффект, малолетний возраст – вот те три кита, на которых строилась моя защита. Адвокат молодой, с амбициями, язык у него подвешен, но сможет ли он выиграть в суде условный срок для меня? Если честно, я не очень-то на это надеялся.
Да и отец меня не особо обнадеживал.
«Думать нужно о лучшем, но готовиться к худшему», – говорил он.
Еще он утверждал, что именно в тюрьме и начинается настоящая жизнь. Нужно только вгрызться в нее всеми зубами. Именно вгрызться, а не приспособиться. Бревна, безвольно плывущие по течению, рано или поздно тонут, опускаются на дно.
Отец многому меня научил. Но ведь именно благодаря ему я и оказался за решеткой. Это его воспитание заставило меня встать стеной перед Жариком. Иначе я просто дал бы деру и жил бы сейчас себе в удовольствие.
Сдать экстерном за два класса, продолжить учебу, окончить школу, институт, устроиться на хорошую работу, жить, как человек. Что в этом плохого? Но не судьба. Видно, на роду мне написано соблюдать законы своей семьи, слушаться отца, который ни разу не ангел.
Я вгрызся в тюремную жизнь, завоевал авторитет и уважение, но все требовалось удержать. Для этого нужно было жить по законам тюремного общества, а это как ходьба по минному полю. Спасибо отцу, я знал, как это надо делать, но ведь мог и оступиться или просто получить подножку. Подставить ее мне был способен хотя бы тот же Розочка, который наверняка затаил на меня злобу.
Я не стал быковать, не заставил Розочку съехать с угловой шконки, не претендовал на центровое место. Его занял Никс. Так звали лысого пацана. Он сделал это с оглядкой на меня, но довольно-таки уверенно. Розочка перебрался на его шконку. Она котировалась чуть повыше, чем та, которую я оставил за собой.
«Не место красит человека», – думал я.
В общем-то так оно и было. Я вел себя правильно, братва меня уважала, а там и дачка с воли зашла. Отец не подвел, пригнал много всяких вкусностей. Мы устроили самый настоящий пир.
Тогда-то Розочка и похлопал меня по плечу с небрежностью хозяина жизни. Он вроде бы и хвалил меня, но делал это с высоты положения, на котором хотел себя видеть.
Пацанов в камере прибывало. Розочка встречал новичков, изображал крутого, но справедливого босса. Нюню Жорика он откровенно опустил, заставил пускать газы в тазик с водой. Здоровенного, но непроходимо тупого Васю попытался возвысить. Я не возражал, но назвал пацана Пробкой. Это погоняло прочно прилипло к Васе, но не помешало Розочке сдружиться с ним.
А потом лысого Никса увезли на суд. Обратно он мог и не вернуться. Дело у него было простое, на одно заседание. Если оправдают, освободят, если нет, отправят в камеру для осужденных.
Я вовсе не хотел быть смотрящим. Меня интересовала только собственная жизнь, а отвечать за всех – нет уж, к черту.
Блатная, негласная администрация тюрьмы не очень-то вникала в жизнь малолетних арестантов. Никто не стал бы утверждать мое выдвижение, но в случае чего спрос был бы с меня, а не с кого-то другого. А случиться могло все, что угодно.
Недавно во взрослую камеру заехал какой-то крутой. Зэки приняли его на уровне, а следом прогон с предупреждением. Осторожно, петух! Но было уже поздно. В зашкваре оказалась вся камера вместе со смотрящим.
Но если с обычными арестантами все когда-нибудь забудется, то на смотрящем крест останется навсегда.
Не хотел я, но братва видела на месте смотрящего именно меня. Розочка тоже претендовал на эту должность, но шансов у него было куда меньше. Все знали, кто его унизил. Кому нужен пахан, который не может спросить за себя?
А Розочка не дурак, он все прекрасно понимал. Что-то должно было случиться. Дурное предчувствие не особо терзало меня, но за ночь я не сомкнул глаз, все ждал поползновений со стороны Розочки, сжимал в руке заточку, которую смастерил из черенка ложки.
Ночь прошла спокойно, а утром на меня наехал Пробка. Я склонился над умывальником, а он грубо меня толкнул. На ногах я удержался, но мыло выскользнуло из моих пальцев и упало на пол, под ноги пацанам, стоявшим за мной.
Я резко глянул на него, но он лишь ухмыльнулся и пожал плечами. Дескать, случайно вышло. Но я-то знал, что почем.
Я мог ударить Пробку, но Никса в камере не было. Розочка обязательно устроил бы разбор и обосновал бы мою неправоту. Если Пробка толкнул меня случайно, то я должен был понять его и простить.
Но и не ответить я не мог.
– Извинись, – потребовал я.
– Извини, – с той же ухмылкой сказал он.
– И мыло подними.
Даже Пробка понимал, что делать этого нельзя.
– Сам поднимай.
Он был выше меня всего на чуть-чуть, но в плечах раза в полтора шире. Руки у него сильные, если схватит в охапку, то мне не вырваться.
Но все же я решился на атаку, ударил его головой в нос со всей силы, не жалея себя. Ощущение было такое, как будто я врезался лбом в каменную стену с тонким холщовым ковром на ней. Из глаз посыпались искры, в нос ударил резкий запах ржавчины. Голова закружилась. Какая-то сила потянула меня куда-то в сторону, развернула вокруг оси.
На ногах я удержался, зато Пробка сел на задницу. Парень смотрел на меня шальными от боли глазами. Из носа у него хлестала кровь, но он этого как будто и не замечал.
– Еще хочешь? – спросил я, надвигаясь на него.
Пробка даже не пытался подняться. Поэтому я знал, какой будет ответ. Так оно и вышло. Он мотнул головой, отказываясь от реванша.
– Мыло подними!
Пробка кивнул, стал шарить рукой по грязному полу. Кто-то подтолкнул к нему ногой обмылок. Он поднял его, протянул мне.
– В задницу себе засунь, – сказал я, поворачиваясь к нему спиной.
После обеда камеру выдернули на прогулку. С собой я взял заточку, рассчитывая на то, что обыскивать нас будут без особого пристрастия. Так и вышло. Заточка моя осталась под стелькой кроссовка.
По коридору нас вели колонной, но у двери, ведущей на свежий воздух, образовалась толпа. Я догадывался, что в тюремном дворике на меня мог напасть тот же Пробка, но удар в спину последовал в тот момент, когда нас еще только выводили на прогулку. Что-то кольнуло в спину над почкой, тонко, не очень больно, но глубоко.
Я резко развернулся и увидел Розочку. Он смотрел на меня с легким раздражением человека, которому я мешал пройти, не более того. За его спиной маячил Пробка и с постным видом смотрел куда-то в сторону. Шницель тоже как будто ничего не видел.
Розочка притворялся. Меня ударил он или Пробка. Кто-то из них двоих. Но в любом случае кашу заварил Розочка.
Боль стремительно нарастала, ноги немели, левую руку потянуло вниз. Все же я нашел в себе силы продолжить путь, стремительным рывком перебросил тело из коридора в прогулочный дворик, резко сдал в сторону, остановился, быстро снял кроссовок, вынул из него заточку.
Розочка все понял, закрылся Пробкой и стал торопливо уходить от меня. Но Пробка умирать ради своего дружка не хотел. Он знал, что я мог пырнуть его заточкой сей же миг, нисколечко не задумываясь. Его напугали мои бешеные глаза, и он быстро сдал в сторону.
Розочку остановили пацаны, развернули лицом ко мне. В руке у него появилось шило, то самое, которым он меня и проткнул.
Драку заметил контролер, кому-то что-то крикнул и рванул ко мне, снимая с пояса дубинку.
– Стой, Сермягов! – донеслось до меня.
Но только смерть могла меня остановить. Она уже стояла за спиной, однако не удерживала, а даже напротив, подталкивала. И еще я имел время для удара.
Розочка готовился защищаться, шилом выписывал волны перед собой. Однажды он сказал, что розочка – это не только цветок, но и горлышко бутылки с режущими краями. Разве я не мог его назвать в честь такой смертоносной штуковины? Сейчас у него появился шанс доказать, что так оно и было.
За мной бежал контролер. Мне некогда было маневрировать, уходить от ударов. Пришла пора бросаться грудью на амбразуру, и я решился на это. С одного удара Розочка меня не убьет, а если вдруг, то смерть – это не страшно.
Перед моими глазами вдруг мелькнул тот самый домик, который находился у меня за спиной, пока я сидел на камне и смотрел на океан вечности. Так я и не заглянул в него, потому как умер не совсем. А если вдруг, то в этом доме меня ждет вкусный стол, мягкая кровать. Нет, умереть не страшно.
Шило вонзилось мне в живот, в то самое место, где уже побывал нож отмороженного Жарика. А я ударил Розочку в шею.
Кровь снова брызнула мне в глаза. Сначала свет затмило красное, а затем – что-то черное. Я не видел ничего, только чувствовал, как кто-то схватил меня за шиворот и оттащил от Розочки. А удар по голове и вовсе отключил мое сознание.
Снаряд два раза в одну воронку не падает. Так это или нет, не знаю, но одну селезенку два раза точно удалить нельзя. Не было у меня органа, который повредил бы удар спереди. А вот почку я мог потерять, если бы Розочка не промахнулся совсем чуть-чуть.
Я тоже промазал. Войди заточка в шею чуть повыше, и никакие доктора не спасли бы Розочку. А так он выжил. В городскую больницу его доставили в куда более тяжелом состоянии, нежели меня. Я уже выписался, а он все еще оставался там.
Суд учел все, выписал мне и за Жарика, и за Розочку. За все про все я получил шесть лет общего режима. Адвокат заявил, что это блестящая победа.
Отец ему, правда, не поверил, но меня призвал к спокойствию. На последнем свидании перед этапом он сказал мне, что я не должен падать духом.
Воспитательная колония для несовершеннолетних – испытание не для слабонервных. Беспредел там – такое же естественное явление, как молоко на губах младенца. Все на чувствах, на эмоциях.
Так оно в общем-то и оказалось. При входе в камеру пацаны попытались устроить мне прописку, но вопрос тут же отпал, когда я назвал свое имя. Все уже знали, что с Леней Писарем связываться себе дороже. Если я не побоялся лечь животом на шило, то и дальше готов биться до конца.
С этой же репутацией я заехал в зону. Поэтому особых проблем у меня там не возникло.
Я повернут был на своем честном имени, но блатная романтика меня трогала мало. В число отрицательно настроенных элементов я попадать не желал, старался избегать всяческих конфликтов как с администрацией, так и со своими новыми товарищами. Вопрос о сотрудничестве я закрыл раз и навсегда, о кружках художественной самодеятельности и слышать не хотел, зато проявил интерес к учебе.
Воспитательная колония давала мне возможность окончить школу. Было бы глупо этим не воспользоваться. Я вел себя ровно, не высовывался, за отличными оценками не гнался, но к восемнадцати годам смог получить аттестат о полном среднем образовании.
С этой путевкой в жизнь я и отправился в обычную исправительно-трудовую колонию, где не было ни облегченных, ни льготных режимов.
Осложнения начались уже на карантине. Я запросто мог убить человека, но моя звериная сущность никак не отражалась на внешности. Я был молод, только-только начал бриться и очень походил на мать, которая в молодости считалась красивой женщиной.
С первого же дня покровительство надо мной объявил амбал с мокрыми губами и липкими руками. Этот Расмус, как он себя называл, был таким же новичком на зоне, как и я, но внушительная внешность и солидный возраст возвышали этого субъекта в собственных глазах. Еще он кичился татуировками, которые украшали его тело. Если эти наколки и представляли собой хоть какую-то ценность, то только художественную. К арестантским регалиям они не имели никакого отношения.
Впрочем, статус Расмуса меня интересовал меньше всего. Будь он даже вором в законе, все равно я должен был избавиться от его нездорового внимания.
Ночью Расмус подсел ко мне на койку и вкрадчиво спросил:
– Поиграем?
– Поиграем! – выкрикнул я и резко поднялся.
Я не смог сохранить заточку, ее отобрали у меня еще на этапе. Но уже здесь, на карантине, мне удалось найти и вытащить из стены гвоздь сантиметров семи-восьми.
Его-то я и вогнал себе в грудь чуть ли не по самую шляпку. Вернее сказать, по рукоять, которую я смастерил из сломанной ветки. У Расмуса отвисла челюсть, когда он это увидел.
Я спокойно вытащил гвоздь из груди, протянул ему и заявил:
– Теперь твоя очередь!
Кровь хлестала из раны, но это не мешало мне улыбаться так, как будто я вешал ему на плечи погоны из шестерок.
– Эй, ты чего? – пробормотал Расмус.
– Да это не трудно, нужно только знать, куда бить. Ты в курсе?
Я действительно знал, как всадить в себя нож, не проткнув легкое и не задев крупные кровеносные сосуды, но ошибка не исключалась. Я очень рисковал, но должен был как-то нагнать страху на этого непрошеного благодетеля.
Расмус анатомию своего тела знал плохо. Но я преподал своему обожателю урок, всадил ему в грудь свой гвоздь и тут же вытащил его.
– Урод! – взревел Расмус и отскочил от меня, как от прокаженного.
Но я не дрогнул, не попятился в ожидании ответного хода, смотрел на него с насмешкой камикадзе, отправляющегося в свой последний полет. Расмус замахнулся, но мой негнущийся взгляд заставил его задуматься. Еще больше он боялся заточки, сжатой в моей руке. Я ведь мог ударить и в живот, и ниже, прямо в грязные намерения.