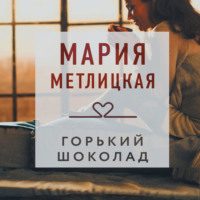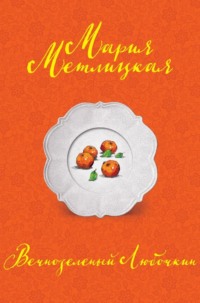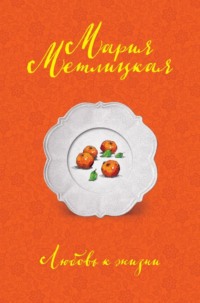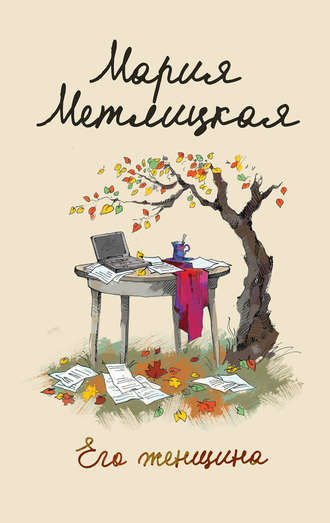
Полная версия
Его женщина

Мария Метлицкая
Его женщина
© Метлицкая М., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *Добрый день, Максим Александрович!
Простите за беспокойство. Впервые пишу писателю, да еще уважаемому и очень любимому!
Поверьте, я никогда не писала незнакомым людям. Да и вообще никогда не писала писем.
Хотя «незнакомым» я вас назвать не могу – мне кажется, что мы с вами давно и близко знакомы! Понимаю, что выглядит это смешно. Наверняка таких, как я, у вас сотни и даже тысячи. Тысячи тех, кто хочет выразить вам свою благодарность, почтение и любовь. Не сомневаюсь в этом ни одной минуты! Ваши книги, полные искренности и живой, пронзительной, жизненной и человеческой правды и, как мне кажется, щемящей откровенности, позволяют мне считать вас человеком знакомым и близким.
Не подумайте бога ради, что я принадлежу к той когорте навязчивых и чокнутых почитательниц, фанаток, хватающих бедного автора за рукав. Нет, честное слово, это не так! Просто вы так затронули мою душу, что осмелилась вам написать. А для чего я это делаю – не понимаю, ей-богу… Уверена, что вы безумно устали от вечных назойливых поклонниц и поклонников. Но что поделать – наверное, это одна из сторон медали славы.
В своем сумбурном и бестолковом письме я просто хотела сказать вам спасибо, выразить свою признательность и благодарность. Спасибо за честность, за то, что не пытаетесь сделать людей и жизнь краше, белее, чем они есть. Не стараетесь потрафить читателю, польстить, наивно обнадежить его, заморочить ему голову, окуная в несуществующий мир грез и фантазий.
Это, надо сказать, большое мужество. Большое мужество не стараться понравиться всем.
Только что я прочла ваш последний роман. Как я ждала его, считая дни до его выхода!
Как вы поняли, здесь я говорю про вашу последнюю книгу – «Не позволяй мне уйти».
Простите, но почему-то мне кажется, что здесь много автобиографического. Возможно, я ошибаюсь. Это, наверное, глупое предположение. Хотя не может человек, не переживший подобное, так пронзительно, глубоко и честно об этом писать!
Мне многое созвучно в этой книге – вас, наверное, это не удивляет. И об этом вам тоже пишут, уверена.
Прочитала про вас в Википедии – правильно, все совпало. Мы с вами примерно одного поколения, мы – земляки, я тоже москвичка. Мы родились и выросли в одной стране, и это многое объясняет. Нам, столичным жителям, многое было доступно – выставки, театры, музеи. Мы слушали одну музыку, смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книги – это я почерпнула из ваших интервью. Знаете, так странно – наши вкусы совпали во многом! Я, как и вы, с большим трудом прошла через девяностые годы. Впрочем, тут нет ничего удивительного – тогда так жила вся страна. Вся наша бедная страна, в очередной раз переживающая нищету, унижения и немыслимый бардак.
И все же мы выжили – вопреки всему. И после всего этого ада, сумятицы, всеобщей растерянности, страха, почти катастрофы мы смогли выползти, подняться на ноги, устоять и даже сделать карьеру. Правда, не все, увы.
Мне близки ваши представления о человеке и мироустройстве – здесь мы снова совпали. И это бесконечно меня радует.
Ой, перечитала и испугалась. Мне стало страшно неловко… Как же я загрузила вас, господи! Зачем вывалила на вас весь этот бред? В который раз извиняюсь перед вами! Но править ничего не буду. Если начну – точно не отправлю, удалю письмо.
Простите за сумбурность, за сбивчивость, за путаный слог. Простите за мой душевный порыв. Еще раз спасибо за вашу книгу, за ваш прекрасный и тяжелый труд, который помогает нам выживать и оставаться людьми!
С огромным уважением и благодарностью,
Марина Николаевна Сторожева, учитель музыки.
Спасибо!
Марина
Господи, зачем? Зачем я написала ему? Глупость какая… Стыдно.
Вечно мои душевные порывы, от которых мне потом только стыдно.
И жизнь ведь ничему не научила – вот он, пример! Сколько раз мордой об стол – и опять.
Одна надежда – он не прочтет. Конечно же, не прочтет. Сколько их таких, сумасшедших поклонниц! Сколько старых и молодых дур, всю жизнь ищущих смысл жизни и ждущих ответа, пишут ему. Имя им – легион.
Впрочем, нет – я ответа не жду. Значит, кое-что в голове осталось. Какие-то крохи, остатки разума. Климакс. Вот его проявления.
Конечно, климакс и одиночество. И снова мои сомнения. Я никогда ничего не могла решить сразу. Я никогда не могла сразу решиться! Всю жизнь я толкалась на пороге, стесняясь или боясь толкнуть дверь рукой и зайти. Всю жизнь я была стеснительной, закомплексованной. Всю жизнь я чего-то боялась. Я никогда не умела настаивать, требовать. Просить. Я стеснялась себя обнаружить. Всю жизнь я была страшной трусихой. А тут – на тебе, осмелела!
Господи, но как же неловко! Не смогла справиться, остановить себя, дать себе по рукам. Дура – она и есть дура.
Да и черт с ним, с письмом! Что я себя терзаю? За что стыжу? Подумаешь – написала! Да, под влиянием эмоций и настроения. Тоже мне, преступление! Еще одна сумасшедшая тетка. Наверняка он давно к этому привык. Посмеется и письмо удалит – спам. Делов-то с копейку! А скорее всего – не прочтет. У него – в отличие от меня, бездельницы, – куча всяких важных дел. Встречи с читателями, командировки, поездки. В конце концов – серьезная работа. Семья – жена, дети.
Ладно, хватит себя корить! Прости себе минутную слабость. Вот так всегда – сделаю что-нибудь, а потом… сжираю себя, как самка богомола сжирает самца.
Хватит, все. Займись-ка делами, Марина!
Какими делами, господи? Ах да! У меня много дел! Только – каких?
Как же я ненавижу праздники! Просто до дрожи, до тошноты. Именно в эти дни, когда страна отдыхает, предается веселью, зазывает гостей, накрывает пышные столы, поет и танцует. Когда все радуются друг другу, обнимаясь в тесной прихожей, и с кухни тянет пирогами и жареной уткой, а под елкой лежат подарки и разгоряченные, усталые хозяйки торопливо поправляют прическу. Когда возбужденные мужчины торопятся домой с букетами тюльпанов и гвоздик, нервно нащупывая и проверяя наличие картонной коробочки с духами в кармане плаща. А их ожидающие праздника и подарка нервные супруги поглядывают в окно. Когда влажно и свежо пахнут молодые клейкие первые листочки на деревьях и семья съезжается на дачу, открыв новый сезон, и шумно от радостных возгласов и вскриков, все душат друг друга в объятиях и торопятся усесться за стол, накрытый в саду, под яблоней. И кипит самовар, и пахнет укропом из банки с малосольными огурчиками, и в бидоне настаивается, ждет своего часа окрошка, и тянет дымком от мангала. Вот тогда мне особенно плохо. Вот тогда я особенно остро чувствую, что я – одна. Одна на всем белом свете. Невзирая на наличие дочери, матери и любовника. И все эти праздники, семейные и государственные, для меня сплошная мука и унижение.
А ведь есть еще и мой день рождения! Как я ненавижу этот день! Как хочу, чтобы его вообще не было на календаре – эх, если можно бы было стереть эту дату! Как я жду утра следующего дня, радуясь, что все наконец прошло! А ведь когда-то я его очень любила! Когда все было по-другому, когда у меня была семья. Когда все были вместе. Когда вообще все было! Не просто по-другому – просто все было. И все еще были…
Как я ждала этот день, как готовилась к нему – покупала новое платье, делала прическу, пекла пироги. И ждала – мужа с работы, дочку из садика, маму, гостей. Как много тогда в моем доме было людей! Родни, приятелей – Сережкиных и моих. Было громко, весело, вкусно. Все танцевали. Сережа приглашал мою маму. А она очень смущалась. Как это было давно! Словно сон.
Сейчас все по-другому: другая жизнь, одиночество. Полное, тотальное одиночество. При живых близких, при любимом вроде мужчине. «Вроде» – точно сказано. Самой стало смешно. Вся моя жизнь – вроде. Вроде как есть, а на самом деле…
Дочь. Моя дочь Ника. Она тоже, слава богу, есть! Господи, что за фраза получилась – самой стало страшно. Нелепая, страшная, но – правдивая. Вроде как. Почему вроде? Да потому, что она, моя дочь, далеко! За тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. На краю света. Далеко от меня. Это, конечно, фигура речи. Полтора часа, если по пробкам. Ну, в крайнем случае – два. А видимся мы раз в месяц, не больше. Даже реже – я ей не нужна. Совсем.
Короткий звонок раз в три дня: «Мам, ты нормально?»
«Нормально», – отвечаю я, зная, что все остальное ей неинтересно.
Наверное, я сама виновата.
«Как бабушка? Нормально?»
«Нормально, – снова отвечаю я. – У нас все нормально. «Как у тебя?» – спрашиваю я.
«Нормально», – отвечает она.
Она произносит это слово, как бы предупреждая мои расспросы. Я произношу это слово, потому что она не желает знать правду. Ей неинтересны мои жалобы и нытье.
Почему так получилось? Не понимаю. Где я пропустила, в чем виновата? Нет, вру – понимаю. И когда пропустила – понимаю, и в чем виновата. И все же обидно – девочка, дочка. Молодая женщина. Я так мечтала, чтобы мы были подругами. Ну да ладно. Что я скулю? Пусть у нее будет все хорошо, пусть она будет здорова. Пусть будет счастлива – даже сэтим. Которого я еле терплю. Пусть! А остальное я переживу – не впервой.
Мама. Мама хворает – давление, бесконечные кризы. Бедная мама! Мне хочется, чтобы она меня пожалела. А ей уже не до меня – мама борется с болезнями. Отыскивает какие-то народные рецепты и средства, покупает сомнительные газетки, слушает бабок на лавочках. Настаивает травки, собирает калину, покупает медные браслеты и прочую чушь. Я с ней спорю, но без толку. Врачей мама не признает. И как с ней бороться? Не понимаю.
Любимый мужчина – тот, кто «вроде как». При этом словосочетании мне становится смешно. Любимый мужчина. Нет, никогда я не называла его так! Потому, что никогда он не быллюбимым мужчиной. Любовником? Наверное, да. Какая огромная пропасть между этими однокоренными словами! Любимый – любовник. А у кого-то ведь сочетается! Но не у меня.
В этой истории вообще все страшно запутано, сплетено, завязано, но ни радости, ни восторга, ни удовольствия. Одно название – у меня есть любовник. Да, есть. Мы вместе. И в то же время поодиночке. В моей жизни его практически нет. Подарки, рестораны и даже поездки не в счет. Ничего плохого в них нет. Но я не из тех, кого это здорово возбуждает. При этом мы с ним, скорее всего, привыкли друг к другу. Так все и тянется – кое-как. И ничего невозможно изменить, ничего!
Наверное, это и хорошо. Лучше нам ничего не менять.
Он женат. У него были огромные, неразрешимые трудности – это правда: больная жена, дочь, растущая без материнского глаза, непростая теща и очень и очень ответственная работа. А тут еще я! От меня должна исходить только радость. Покой. Позитив. Я должна встретить и проводить его с улыбкой. Покормить, пожалеть. Ублажить. Иначе зачем я ему вообще нужна? Чтобы слушать о моих тревогах и страхах? Мигренях и приливах?
У него и своих проблем выше крыши. Я для радости, для удовольствия.
А какое от меня удовольствие, господи?
Мне хочется, чтобы меня пожалели. Посочувствовали, погладили по голове. Просто выслушали – я бы уже была рада!
Но нет. Сочувствовать можно только ему.
Это тянется долго и трудно, с усилием – как натянутый резиновый трос или стальная и крепкая пружина: отпустишь – шарахнет по тебе. И будет еще больнее.
Ни у кого не хватает сил разрубить, разорвать. Мы все жуем и жуем эту давно несладкую жвачку, как советские дети жевали резинку, потерявшую вкус и цвет. Мы приклеиваем, прилепляем ее к спинке кровати или к столу, чтобы завтра достать, но – невкусно. Мы оба боимся одиночества, которое нам хорошо знакомо. Но мы по-прежнему одиноки и не хотим признаться в этом даже себе.
Кто я? Обычная женщина, каких миллионы. Сохранившая фигуру и стройность ног. Светло-русая и сероглазая. Ничего значительного из меня не получилось, увы… Мне сорок пять, я – неудавшийся пианист и концертмейстер, в данный момент – учительница музыки в районной школе, неудачница и лузерша, как теперь говорят.
Я пишу незнакомым мужчинам-писателям проникновенные и слегка истеричные письма, обнажая в них свою душу. На что я надеюсь? Что меня наконец кто-то поймет?
Нет, это не так – никаким «мужчинам-писателям» я не пишу. Я написала впервые в жизни письмо незнакомому мне лично и очень известному человеку – писателю Максиму Ковалеву. Непревзойденному мастеру современной прозы – как его называют. А для чего – не знаю сама. Порыв души – так я объяснила. Всегда меня подводили это «порывы».
В общем, такие дела.
Максим
Как поздно начинается день. Как непозволительно поздно, особенно в моем-то возрасте! Когда каждый день на счету, когда нужно ценить каждый час, когда так мало осталось времени, причем на все, в том числе на саму жизнь. Мне уже пятьдесят четыре, на следующий год юбилей. До чего обидно так палить время! Как я небережлив, как угождаю своим желаниям!
Никак не могу вытащить себя из постели. Просыпаюсь я рано – часов в девять, не позже. Но тут начинается «процесс» – не открывая глаз, я пробую снова уснуть. Не получается. Караулю сон, пытаюсь не двигаться – замираю. Не выходит. Переворачиваюсь на другой бок и «считаю слонов» – минуты три, не больше, понимая, как это смешно. Тяжело вздыхая, шарю рукой по полу и нахожу книжку – какую-нибудь, мне все равно. Но точно не свою.
Пробую читать – удовольствия никакого. Читать с удовольствием получается только поздно вечером, перед сном.
Закипаю от раздражения и наконец встаю. Шаркаю тапочками, покрякиваю от возмущения и ползу на кухню перекурить. От дурной привычки никак не избавлюсь, если честно, просто не хочу.
С превеликой тоской я смотрю на улицу. Под окном двор: яркие грибки песочниц, качели, карусели, какие-то тренажеры типа шведских стенок, брусья, «козлы», чтобы детвора развивалась. Уцелевших лип и тополей ничтожно мало, но и они увечные, безобразно обрезанные, с обрубленными кривыми ветками. Как инвалиды после ампутации. Зачем? Зачем и кому нужна эта кастрация? Я возмутился – господи, кому и когда они мешали? Объяснили – чтобы не было пуха, чтобы он не залетал в окна квартир, не стелился мягкими и легкими сугробами во дворе – лишние усилия дворнику.
Я вырос в этом дворе. Здесь вырос мой отец. Здесь, на зеленой шаткой скамеечке, сидела по вечерам моя бабка. Моя красавица бабка – ужасная стерва, надо сказать! Сидела и няня. Иногда – мама. Но редко, увы. И не было ярких песочниц, каруселей, шведских стенок и прочего. Были одни качели – два деревянных столба, врытые в землю, и самодельная люлька-качалка, сооруженная из корыта фронтовиком дядей Васей, дедом моего дружка Петьки Васильева. Петьки уже давно нет на свете. Что говорить про его деда?
Во дворе никого еще нет – рано. Позже, часам к двенадцати, выползут мамашки с колясками и малыми детками, подтянутся бабки – из тех, кто остался. Осталось их мало, этих старух. Почему? Куда они делись? В моем детстве их было полно – не хватало лавочки. Соседки-подружки придерживали местечко для «своих», и это было смешно. Те, кому места не досталось, ругались, проклинали друг друга, желали напастей и смешно обзывались, вспоминая старые обиды. Но через какое-то время наступал мир – бабки сидели рядком и теперь уже проклинали мужей и невесток, зятьев или другую родню.
Нам, пацанам, они казались вредными и даже злобными – грозили палками, шипели, посылали нам вслед проклятия. Но если кто-то из чужаков или своих нас пытался обидеть, бабки вставали стеной! И, кстати, на праздники или свои именины старушки всегда выносили из дома пирожки и конфеты. Ну а потом снова грозили самодельной клюкой.
Смешное время. Доброе время. Да, все-таки – доброе.
Как-то получилось, что в нашем доме жили разные люди, и самые обычные, и «непростые», важные дядьки, которых привозили на казенных машинах и чьи надменные жены, высоко подняв голову, спешили куда-то, взмахивая полами каракулевых богатых шуб. Была одна из таких – красавица и модница невероятная: высокая, стройная, с длинными ногами в блестящих шелковых чулках, с белокурыми волосами, уложенными в замысловатую сложную прическу. За ней всегда тянулся шлейф сладких духов. Когда она проходила, двор замолкал. Ее провожали взглядами все – застывали мамашки с детьми, жадно разглядывая ее наряды и вдыхая неземной аромат ее духов. Замолкали сварливые бабки на лавке. Девчонки каменели и не успевали захлопнуть рты. И столбенели мы, пацаны. Так и шла она по замершему и тихому двору, ни на кого не обращая внимания.
Звали ее Маргаритой. Помню и ее муженька – невысокого, ладного крепышка, кудрявого блондина с улыбкой на простоватом и добром лице – этакий Ванька, Иван-молодец, добрый герой русских сказок. Домой его доставлял шофер. Крепышок бодро кивал старушкам, сидящим у подъезда, и всегда справлялся о здоровье. Потом выяснилось – этот добродушный крепышок, сотрудник органов, бил свою красавицу Маргариту смертным боем. Только не по лицу – не дай бог! – по спине, по груди, по ногам. И однажды забил до смерти. Говорили, что ревновал. Можно в это поверить. Мертвую Маргариту никто не видел – ее увезли в судебный морг и хоронили оттуда. Крепышка тогда уже взяли.
Потом во дворе появилась мать Маргариты – молчаливая, суровая женщина, после смерти дочери и ареста зятя переселившаяся из коммуналки в их роскошную квартиру. Жила она в этой квартире одна. Мать Маргариты ни с кем не общалась: сделает пять кругов по двору и – обратно в подъезд. Ну ее можно было понять – что обсуждать и с кем?
Белокурая Маргарита – бесподобный и сладкий подростковый мираж. Вожделенная всеми, желанная всеми. И такая судьба.
Была еще тетка из директоров – кажется, кондитерской фабрики, – хмурая, низенькая, некрасивая, хромая. Эта ни с кем не здоровалась. Говорили, что у нее тяжело болен сын – вроде бы шизофрения. Муж сбежал к молодой, как это часто бывает. Эту тетку тоже привозила казенная машина.
Кстати! Когда она вышла на пенсию, с большим удовольствием сидела на лавочке у подъезда. И даже общалась с нашими бабками. Чудеса.
Был еще врач, профессор – Егор Петрович Лигин. Известный уролог. Мы дружили с его сыном, тоже Егором. Нормальный был парень, без пафоса. В начале восьмидесятых женился на англичанке и свалил в Соединенное королевство. Помню, как приезжал на похороны отца. Мы с ним тогда и увиделись, потрепались на поминках. Не самое подходящее место, правда. Но Егор был невозмутим и не проронил ни единой слезы – наверное, отвык от отца. В кабаке, где проходили поминки, показывал фотографии жены и детей и охотно делился впечатлениями о заграничной жизни. В доме жила семья Васильевых – дед Василий, наш дворник, его сын Федор, сноха Катерина и внук Петька, мой друг. Васильевы представляли «простую» часть населения нашего дома: дед дворник, сын токарь, а сноха – продавщица в пивном ларьке. Сын и сноха поддавали.
Была семья Липников – Семен и Дора. Хорошая, дружная, простая, рабочая семья. Семен был отменным скорняком – у него все наши дамы шили шапки, а Дора работала в бубличной. Ах, какие бублики она нам приносила! Это называлось некондиция, брак. Но как же вкусна была эта некондиция! Смуглые, чуть подгоревшие, усыпанные маком, еще теплые бублики. У них была дочка Сима – смешная, конопатая, черноглазая. Тощая и нелепая Симка. А потом эта Симка превратилась в красавицу. Мой друг Петька в нее влюбился. Но у них не сложилось – Симка вышла замуж за богача, директора универмага. Говорили, что в конце семидесятых его посадили. А потом Симка снова вышла замуж за какого-то штатника, очень богатого. Говорили, миллионера. Ну и свалила в Америку.
Родной двор. Это немного успокаивает меня и примиряет с жизнью. Я в раздумьях – пойти в душ, выпить кофе, а уж потом…
Нет, слаб, признаю. Все-таки возвращаюсь в кровать и снова закрываю глаза, поплотнее укутываюсь в одеяло и опять караулю сон, понимая, что он не придет. Я не так наивен. Просто вставать неохота. К тому же погодка, надо сказать, отвратительная – пасмурно, накрапывает дождь, приближаются холода.
В постели я согреваюсь, мне уютно. Знаю, что я законченный лентяй, но в который раз разрешаю себе поблажку. К тому же у меня есть оправдание – хорошо работается мне только по вечерам, часов эдак с пяти. Так настроены мои биологические часы, что же поделать. Бороться с этим совершенно бесполезно – пробовал, знаю. Да и Галки нет дома – моего, так сказать, надсмотрщика и строгого цербера. Вот и ищу себе оправдание – лежу и ищу. Хотя… Перед кем мне оправдываться? Это смешно. Все же засыпаю, правда, ненадолго, некрепко, поверхностно – дремлю. Когда встаю, на часах половина двенадцатого. Ничего себе покемарил! Душ и кофе бодрят. Пару минут – не больше! – легкой зарядки и…
А что, собственно, «и»? Вот именно. Сейчас буду нервно подыскивать себе дело. А вот, нашел! Слава богу! Пошуровав в холодильнике, понял, что все приготовленное любимой женой уничтожено – разумеется, мною. Замороженные котлеты, самолепные пельмени, голубцы – Галка большая мастерица. Хотя я многое умею и сам – спасибо «сложной судьбе». Так говорит моя дорогая и понятливая жена: «Он – человек сложной судьбы». Не знаю, насколько мне это приятно. Но то, что это помогает во многих ситуациях – точно.
Мама всегда говорила, что я буду беспомощным, как мой отец. Твердила, что надо рассчитывать только на себя. Этому ее научила трудная жизнь. А на деле это и было все ее воспитание. Остальному меня научила жизнь.
Итак, надо заняться обедом. Раздумываю – борщ или нет? Решаю – все-таки борщ! К борщу меня приучила мама – это было ее любимое блюдо, ведь она выросла на Украине. Тогда еще говорили «на» Украине. Родилась под Киевом, в селе Червонная Мотовиловка. Там жили тетки – Рая и Оксана, – которые и вырастили ее, родители погибли в войну. Я их прекрасно помню – розовощекие толстухи с роскошными косами, закрученными на затылке в баранку. А как певуче они говорили! Как пели украинские песни! Как ловко лепили вареники с вишней! Детство, да. Иных уж нет, а те далече.
Я варю борщ. Отвлекает от мыслей телефонный звонок. Бросаю взгляд на часы – Галкино время. Милая моя начинает с разбега – этой ей свойственно:
– Только встал? Ну ты даешь! Что работа? Сколько знаков за вчерашний день? Сколько-сколько? Максим! Что ты творишь! Ты же ничего не успеешь и снова будет скандал! Боже, что скажет Лариса!
Я перебиваю ее и оправдываюсь – перед своей женой я почему-то всегда оправдываюсь. Почему? Сам не пойму.
А она все верещит:
– Борщ? Зачем? В морозилке полно еды! Как все съел? У тебя что, солитер? Там же на три недели, не меньше! А, у тебя были гости? Кто? Перелеев? Или Словинский? Тогда все понятно! Только он мог столько сожрать! И сколько вы выпили, извини за бестактный вопрос?
Господи! Останови ее, очень прошу!
– Галя, Галя! Остынь! Не было Перелеева, не было! И Мишки Словинского не было! И все сожрал я – ты уж прости! Просто захотелось борща. Это что, преступление, Галь? Кстати, у нас есть томатная паста? Галя, ты меня слышишь?
Не-а, не слышит. Ладно, я потерплю. В конце концов, ее есть за что терпеть. Очень даже есть. Да и я далеко не сахар. Моя Галка – подарок небес. Это я понимаю. Моя заботливая жена. Моя вечно молодая жена. Моя красивая и ловкая жена.
Вот как бывает. Я почему-то не назвал ее любимой. Что-то из подсознания? Да нет, ерунда. Конечно, моя молодая, заботливая, красивая, ловкая и любимая жена – все правильно и все верно.
Я сворачиваю разговор:
– Ты же сама меня отвлекаешь! Галя, все! Мне надо работать!
Слово «работать» в нашей семье священно. Она тут же прощается, обещая позвонить завтра в это же время. Я кладу трубку и облегченно выдыхаю. Завтра. Завтра я снова начну врать. И оправдываться. Так и живем.
Я оттягиваю время работы. Почему? А потому, что боюсь. Каждый раз я боюсь. Боюсь начать, боюсь, что не получится. Если хорошо начинается, боюсь продолжения. Потом боюсь, что не получится оно. Оно, допустим, получилось. Тогда я боюсь следующего – окончания, развязки… Боюсь браться за концовку. Так было всегда. Но в разной степени. А вот как сейчас не было никогда.
Никто об этом не знает – даже она, моя Галка. Не знает и мой редактор, моя дорогая Лариса Петровна. Не дай бог! Уж ей-то знать совершенно не надо.
Никому не надо знать, что я трус. Я всегда боюсь, что у меня не получится. Или получится гадость. Хрень. Чепуха. Это, наверное, нормально – даже для меня, человека опытного, состоявшегося, известного, с именем, что называется. Я где-то читал, что известные, маститые актеры каждый раз дрожат перед выходом на сцену.