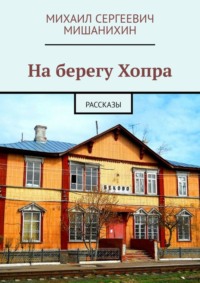Полная версия
В сети времени
Если спрятаться от полуденного палящего солнца под навесом торговых рядов, можно слышать все разговоры, которые, как в пустом помещении, не скрываются ни от кого из присутствующих. Но разочарование поджидало и здесь, так как «торговками» оказались местные парни, и разговоры соответствовали здешним обычаям. Недолгое пребывание на базаре сменилось отчаянным желанием бежать из поселения. Бежать, и никогда не возвращаться.
На окраине городка возле добротного дома был припаркован автомобиль цвета «мокрый асфальт». У калитки под сенью берёзы что-то мастерил хозяин – стук его молотка был слышен издали.
– Добрый день, путник.
– И тебе добра. Вероятно, ты мне сможешь рассказать, что здесь происходит.
– А что?! То, что эти, – он кивнул в сторону города, – поменялись с бабами обязанностями? Так это не происходит, а гниёт и воняет. Разве может мужик рожать? Нет. Но они, верно, к этому стремятся.
– Что же получается, это система, а ты против неё?
– Прошу, не смеши меня. Какая система? Вся система заключена в самом человеке. Не нужно выдумывать какого-то неохватного всесильного врага – всё внутри каждого, и тебя самого в первую очередь. Система, – мужик ухмыльнулся, и продолжил приостановленное занятие.
Декоративный заборчик вокруг придорожной клумбы выходил из-под его рук ровным, словно рисованный.
Тук-тук-тук, тук, тук – словно разговаривал молоток, и слова были точными, крепкими. Ровненько вставали загодя покрашенные штакетинки.
– Разве можно взять, если отдавать не хотят? И наоборот. Да ни за что! Значит, получается, что самцы сами легли под матриархат. Тьфу, – мужик принялся опиливать штакетник, ровняя забор, – Глупцы. Наверное, думали, в равенстве полов – всеобщее благо. Но вышло, что бабы омужичились, а мужики обабились. Уродство, одним словом.
Дело его подходило к завершению. Цветущая розовая клумба стояла в заборчике, словно в корзинке. Пришло время расходиться.
…
Вскоре городок с извращённо эмансипированным укладом скрылся за холмом, став очередным воспоминанием. Вот только душок впечатлений некоторое время не покидал старичка, пока не повстречались новые герои, сплетающие свежие события с иными ощущениями.
Возле дороги на краю леса пролегла цепочка ям, готовясь вскоре стать линией водопровода. Похожие друг на друга, как близнецы, они отличались формами отсыпных холмиков и… В одной из них по иронии обстоятельств поселились ёжики.
Ежи, как известно, гуляют по ночам. Ну, так завелось в их ежином роду-племени, что ночь – самое оптимальное время суток, чтобы серому зверьку оставаться незаметным. Правда, и лиса видна плохо, но на неё у колючего приготовлен нюх и слух. Деревенские и бродячие собаки в эту пору спят и не причиняют неудобств. Зато червям и личинкам без разницы – они всё одно не видят.
Бежали два ёжика по своим ежиным делам без опаски и внимания. И тут ночной ветерок принёс весточку о свежевскопанной земле, что говорило о возможности пиршества. Дорогу ежи не признают, оттого полетели к «празднику живота» напрямую.
– Скоро-скоро будем на месте! – перекрикивал шум травы один.
– Чую-чую его запах! – фыркал в ответ второй.
У каждого пути есть финишная точка. Дорога горящих страстью халявы зверьков не была исключением. Запах свежей земли приближался, становясь гуще, будоража воображение жирными, аппетитными червями. И вот запах стал близко настолько, что накрыл ежей, окружил абсолютно со всех сторон, в прямом смысле – приятели свалились в полутораметровой глубины яму.
Они были так увлечены целью и пьянящим ароматом, что не заметили падения. Упав, минут десять, лежали неподвижно, наслаждаясь воздухом достатка. И всё же со временем привыкаешь к определённому количеству, вот и ежи, придя в себя, огляделись. Близость червей была неоспорима.
– Копаем! – крикнул один ёж.
– Копаем! – поддержал другой.
Неистово принялись друзья за дело, не останавливаясь, поглощая попадающихся червей. «Немыслимое, невообразимое богатство!» Копали до тех пор, пока не стало плохо от съеденного. Вылезли ежи из нор, развалились посередине ямы.
– Хорошо! – собравшись с силами, прокряхтел первый.
– Ежасто! – протянул второй, и оба блаженно вздохнули.
– Я отсюда никуда не пойду, – объявил первый.
– А я и не смогу, – констатировал второй.
Лежали толстопузые ежи, наслаждались. Вот уже рассветные лучи побежали по стенке ямы. Задремали обжоры. Сладкие сны пришли скрасить их покой.
Райская жизнь могла бы и задержаться в этом уголке, но утро привело к яме землекопа. Увидев ежей, он лёг на край ямы, достал одного за другим и отнёс под густой куст акации. Где работают – не спят.
– Дедушка, а дальше? – спросил молодой парнишка.
– Проспали друзья под кустом до вечера, а проснувшись, не помнили ничего.
Обычная жизненная ситуация: привели обстоятельства к обеспеченной реальности – ужился в ней; перенесут в иную – обустраивайся и там. Что зависело от ежей в яме? Ничего.
– А ты чего такой понурый? – заметил старичок настроение паренька.
– Да, – мальчишка смотрел на бывалые кеды с верёвками вместо шнурков, – один я, и никому не нужен.
– Так-таки и никому?!
– Ну, если только родителям, а друзья-то опять спрятались где-то.
Одиночество
Жизнь – штука временная. Нет в ней ничего постоянного, конечно же, относительно разных временных интервалов. Естественно, всегда тяжело терять хорошее прошлое, точнее привыкать к новому. Если сам являешься инициатором перемен – изменения безболезнены; но если ты всего лишь вынужденный участник, то гамма тоски проходит по тебе абразивом, словно танковая гусеница. Выстоишь ли? Найдутся ли силы удержаться над пропастью отчаяния? Хватит ли рассудка, чтобы не сойти с ума?
Мне было тогда немного за тридцать. Я оставался холостым, хотя женского внимания не чурался, а ночи проводил в обществе милой подружки. Я самостоятельно зарабатывал деньги и был финансово независим от родственников.
Жил ли в своё удовольствие? Да, как и абсолютное большинство населения. По крайней мере, мне не встречался человек, который интересы незнакомых и чужих людей ставил бы превыше собственных или ближайшего окружения.
Имелось у меня достаточное количество знакомых, близких и несколько друзей. Не отличался я чрезмерной стеснительностью, поэтому на контакт с незнакомыми шёл легко и без особых затруднений. И всё было хорошо: мелкие неприятности, что происходили в то время, добавляли чуточку остроты в повседневность, как специя в восточном блюде или тень в пейзаже талантливого художника.
Беду во всей красе я познал, когда один за другим умерли родители. Поначалу происходящее казалось неудачной игрой, грубым сценарием печального фильма. Лишь когда пришло осознание необратимости, меня охватила такая вселенская боль, что все триллеры, виденные мной ранее, стали бездарными историями.
Вместе с родителями меня покинуло всё: смех, солнце, люди, желания… Лишь контрастные воспоминания кружили звенящими призраками. Иногда казалось, что я сойду с ума от происходящего, что уже никогда не покину эту бездну. Невозвратность потери и страх перед неизвестным воцарились в мыслях, на поле тоски взращивая отчаяние.
Чтобы хоть как-то оторваться от гнетущей пустоты, я запил. Беспробудно и ошалело. Старался убежать от мира, потерявшего людей, с которыми можно разговаривать откровенно, которые меня любят, которые…
Я видел повсюду их лица, ощущал запах, слышал голоса, но за пределами происходившего со мной понимал, что всё лишь иллюзия – рассудок неумело защищается от уничтожения. Я гнал это понимание, считая предательством памяти. Мне нравилось мысленно общаться с родителями: спрашивать не спрошенное, говорить не сказанное.
Я замкнулся: стали неинтересны друзья и подружки, скучна жизнь, наверное, бурлившая событиями. Абсолютно безразличен стал быт, и лишь по инерции соблюдалась гигиена и подобие питания – всё было пустое, как и литры самогона, льющиеся безвкусным потоком.
И всё же разум, хоть в чём-то, победил – спиртное лишь отнимает время на мысли о себе, а взамен не даёт ничего. Выход из запоя стал небольшой победой, не принёсшей ни радости, ни облегчения. Пустота по-прежнему окружала, высасывая эмоции. Но я начал замечать отблески общественной жизни, хотя и воспринимал их равнодушно – всё не то и не о том.
Определённо уже никогда не откроется мне красочный мир радости, бескрайнего спокойствия и уверенности. И всё же, понимая зыбкость человеческих отношений и невозможность абсолютного повторения, брожу я по пустоте в поиске своей отрады…
…
Рассказ прервал мальчишеский гомон.
– Здравствуйте!
– Вот и Серёжка нашёлся! Пошли купаться!
Прихватив повеселевшее «одиночество», ватага подняла пыль дороги.
– Что ж, пойдём и мы, – погладил дедушка свою спутницу, и продолжил бесконечный путь.
Шаг за шагом, день за днём, без определённого маршрута. Смысл у этого движения тот же, что и у воды, которая образует ручейки и реки. А цель движения, что и у времени. Просто нужен он во всех местах, куда приходит. Да и идёт он, как и всё в жизни, в будущее.
Гонит ли его мечущаяся душа?
Нет.
Влекут безответные вопросы?
Тоже нет.
Кто-то должен идти, как и кто-то должен строить, выращивать хлеб, шить одежду. У каждого своё Важное Дело, и все эти Важные Дела, собравшись, создают необъятную панораму Жизни.
А вот и ещё один случай зазвучал из дедушкиных уст. Что же в этот раз поведает старичок?
…
В сказках путеводный клубок всегда разматывается, приводя героя к первопричине. Уничтожает Иванушка источник своих бед и, как говорится, «живёт долго и счастливо». Как бы и человеку отыскать в своей памяти такой клубок?
Но шагает время вперёд. Сматываются события всё туже и туже. То путается нить и завязывается узелком, то с другими клубочками переплетается – и в этой путанице уже невозможно увидеть, какому клубку какая ниточка принадлежит. Гордиев узел получается.
Хватит ли терпения, распутать? Или может, отрубить подпорченную часть и продолжить вязание аккуратнее?
Три минуты после полуночи
Выплывая из тёмной глубины, я столкнулся с чувством нереальности. Просто чувство, схожее с эхом, своей непричастностью к действительности, отдалённостью. Меня окружал монотонный ропот, из которого слабыми искорками выделялись знакомые интонации. Постепенно они набирали силу, и вот уже отчётливо я слышу заботливость жены Вари, нарочитую отстранённость Евгении (у дочери переходный возраст и она часто замыкается), любопытство восьмилетнего Кости. Объективно, ничто не могло потревожить, а монотонный гул – верно, звук телевизора с каким-нибудь очередным пустозвонным ток-шоу. Но что-то я разнежился. Пора покидать постель.
Шока не было, как не было и вопросов. Усевшись, я воспринял окружающее, как само собой разумеющееся. В огромном, светлом зале кинотеатра было очень много людей. Да что там «много»? Зал забит до отказа. Аншлаг, так сказать. Но ни это и даже ни то, что отсутствовали источники освещения, а стены, кресла, акустическая аппаратура светились изнутри, не взволновало. Если и было сейчас в мире что-то невозмутимее меня – это я.
Всё же в сторону семьи посмотрел. Хорошие мои, вот они вместе, сидят возле меня. Варя о чём-то тихо рассказывает, гладя русую голову сына. Евгения пытается что-то отыскать в смартфоне, делает вид, что рассказ матери ей не интересен – сама старается не пропустить ни одного слова.
На жене лёгкая белая кофточка, купленная по случаю на какой-то распродаже. Из-под неё стекает на колени сиреневое шёлковое платье. Волосы аккуратно уложены. Милая Варя! Скромность и порядок – твои верные друзья.
То ли дело – Женька. Ах да, просила теперь называть её Евгения. Постоянно пропадает в своих мыслях. До пубертатного периода это было слабозаметно, а сейчас приняло иной оборот: словно ревностно хранит какую-то тайну. Пытался разговорить её – отмежёвывается: «Всё нормально, па». Мне ли, фотографу, не знать, что такое фантазии и переживания? Сам в пятнадцать лет был «не дозовёшься». Смотрю на неё, и вижу себя: с виду вроде всё опрятно, да неброская деталь вносит диссонанс.
Вот Костику, как правило, не до уединений – подвижный мальчик. Он и в хоккейный клуб сам упросился. Варя тогда переживала, беспокоилась за него: спорт – штука травмоопасная. Со временем привыкла. Сама возила на тренировки. Глядя на успехи сына, зарождалась в ней материнская гордость. Костя – егоза. Он и сейчас, слушая мать, теребит брючину.
Эх! А который сейчас час? Но вопрос растворился в нахлынувшей волне слабости. Откинувшись на стену, я безучастно смотрю на людей. Ни идей, обычно посещающих при обзоре окружающей обстановки, ни мыслей нет. Ощущение покоя, уюта, словно весь оказался в нежных маминых ладошках. Память достала из своих глубин запах домашних плюшек. Чарующ аромат выпечки! Во рту появился вкус тёплого аппетитного хлеба.
Смотрю на людей в зале. Все спокойно, сидя небольшими группками, разговаривают. Различить отдельных слов не могу – всё сливается в единый густой, но какой-то светлый (сине-зелёный?!) поток. Многие улыбаются. Грустных лиц не вижу совсем, как не наблюдаю и энергичных людей, свойственных такому скоплению. Всматриваюсь, может кто знакомый? Нет никого, хотя лица не чужие.
Наверное, стоит пройтись, осмотреться. Я поднимаюсь, вижу вопрошающий взгляд Вари: «Куда?» Моргаю в ответ: «Всё хорошо. Я сейчас». Не спеша и бесшумно иду по проходу от сцены. Амфитеатр позволяет видеть лица. Некоторые оборачиваются в мою сторону. Стоп!
А вот эту девушку я помню. Да, точно. Фотосессия на берегу реки. Сентябрь. Прозрачная, словно стеклянная, вода. Удивительно лазурное небо. Глаза с томной поволокой. Развевающиеся от вентилятора соломенные волосы. Нет, имя не вспомню. Кто её тогда привёл? Что за сет? Нет, бесполезно. Она также держит на мне задумчивый взгляд, но, не проронив и слова, отворачивается к собеседнице, очень похожей на неё, немного старше на вид, женщине. Мама, наверное.
Иду дальше, и всё больше знакомых лиц попадается. Это и неудивительно – не один год занимаюсь съёмкой. Сады, школы, свадьбы, частные сеты… Одних только официальных собраний с десяток, а то и больше. Странно, но никого не могу вспомнить по имени. Детали – да. Даже движение воздуха, как сейчас, а вот имена, словно ластиком стёрли.
За последним рядом кресел у стены стоят женщины и несколько мужчин. Вот с ними сейчас и поговорим. Вдруг знают, что за сейшн. Но, приблизившись, вижу растерянность. Нет, вряд ли что-то могут сказать. Хотя…
– Привет. Я – Игорь, – подхожу к плотному мужчине средних лет. Он мне кажется раскованее своих соседей. Протягиваю руку для пожатия.
Мужчина недоумённо оглядывается по сторонам, останавливает взгляд на мне.
– Да? Что говоришь?
– Меня зовут Игорь. Вы не знаете, для чего нас собрали?
Мужчина минуту стоит, задумавшись.
– Нет. Не знаю. Андрей.
Да. Всё оказалось немного сложнее, и всё же:
– А почему Вы один? И здесь, у стены?
– Один?! Я?! А Маша? Она должна быть рядом! Она не могла просто так уйти, ничего не сказав. Я столько бабла заплатил за кабак! Или не Маша? Забыл, как тёлку зовут, – он матерно выругался, – А где я?
Да, случай критический. Похоже, что информацию здесь я не найду, а вот гадостей наслушаюсь через край.
Отхожу в сторону и передо мной другой мужчина. Чуть старше. Очки придают интеллигентности. Он слегка толстоват, чем-то похож на розового персонажа из детской телепередачи. Да, маленькими, шустренькими глазками. Человек другой, а эффект потерянности тот же. И ещё: он не потел. Обычно, в закрытых помещениях при такой плотности людей душно. Здесь, видимо, хорошая система вентиляции.
Я поворачиваюсь к залу, опираюсь руками в спинку кресла. Странно всё как-то. А ведь здесь, на верхних рядах, совсем иная атмосфера и звуки совершенно иные. Если внизу они мне виделись сине-зелёными, то здесь преобладают красные оттенки. И сквозь эту розово-кирпичную пелену – головы, головы, головы. Сколько людей и никакой организации! Впрочем, никого из находящихся в зале, похоже, не волнует причина такого расклада. Вернусь-ка к своим.
Медленно спускаюсь, словно стекаю, по ступенькам. Воздух становится теплее, уютнее. И никаких запахов. Совсем никаких. На плечо ложится чья-то рука, и я воспринимаю это равнодушно. Оборачиваюсь. Юноша с детскими чертами лица, с чистым взглядом пытается мне что-то сказать. Беззвучно шевелит губами, но я слышу лишь монотонный приглушённый гул, из которого проступает тиснением, становясь отчётливее:
– … пришли, а записать нечем. Понимаете, всегда ношу с собой карандаш, а в этот раз забыл, наверное, в кафе. Посмотрите, может быть есть авторучка?
Я пошарил по карманам, но парня придётся огорчить – ничего пишущего не нашёл.
– Слюной пиши, – постарался пошутить я.
Молодой человек заплакал. Нет, это не был плач в обычном виде со стенаниями, надрывом. Просто из глаз потекли слёзы, чему парень обрадовался.
– Вот слезами и запишем. Поэзия слёз – красиво! – он светло улыбнулся, – Спасибо.
И всё-таки, сколько времени? С этим вопросом я обратился к молодому человеку, который уже что-то записывал в блокнот. Слёзы текли по его щекам, но не срывались с лица, а уходили под воротник белой водолазки. Юноша дотрагивался до щеки каким-то подобием стило и, намочив его, писал. Прозрачные слёзы становились на бумаге красными (чернилами?). На вопрос о времени парень пожал плечами: «Не знаю».
– Да-а, – сквозь безвременье протянул я.
На сегодня много заказов съёмки. И на завтра. Всё ближайшее полугодие расписано по часам: мероприятия иллюзорными строчками в ежедневнике бежали перед глазами, не вызывая каких-либо чувств. Понимаю, что все встречи заранее оговорены, но полное безразличие млечным туманом окутывает планы.
– Как там Варя, дети? – продолжаю идти в их сторону.
Люди, люди, люди. Стена. В стене такого же цвета, от этого малозаметная, дверь. Что за ней? Вряд ли это можно назвать любопытством, скорее движение привычки: дверь – значит, нужно открыть. Что я, собственно, и делаю. За дверью, похожая на снег, но тёплая и безобидная, среда. Ни о чём не думая, вхожу в неё и…
Оказываюсь в том же зале, с теми же людьми, светом, звуком. Странно. Иду по залу. Вот парнишка с блокнотом. Смотрю на «верхнюю» стену – те же люди. Ощущаю, как быстро исчезает дежавю, сменяясь чувством покоя. Возвращаюсь к двери, прохожу сквозь проём. Да, то же самое. Глупость какая-то.
Вернувшись к семье, вижу свободное кресло возле Женьки. Да-да, Евгении. Сажусь, откинувшись на спинку. Дочка кладёт голову на плечо.
– Папа, а тяжело расставаться с выполненной работой? Ведь столько любви вложено!
– Женя, никогда прежде не думал об этом. Немного да. Но ведь с самого начала знаешь, что снимки принадлежат тебе лишь временно. Да, ты вкладываешь в них свой опыт, свои идеи, окружаешь их любовью и заботой, как бы душой делишься, вкладывая в них. Без этого всего моя работа была бы просто халтурой, ширпотребом. Пускай высокого качества, но ширпотребом. Со временем привыкаешь к потерям. Первые снимки храню бережно. Сейчас… – приподнимаюсь в кресле, но вдруг понимаю, что мы не дома, – Вот домой вернёмся, я тебе их покажу.
– Не вернёмся.
– Что?
– Наберёмся, говорю, опыта. Опыт ведь – продукт труда? И ошибки, и неудачи, и победы – всё опыт? Да, папа?
– Да, – смотрю на дочку со стороны и понимаю, какая она стала взрослая. Когда успела, дочурка?
Женя поднимает голову и внимательно смотрит на меня, словно сканирует все штрихи лица.
– Папа, – произносит она нежно, тихо и отчётливо каждый звук. После поворачивается к Варе и, замерев, сидит.
– Мама, – приходит ко мне голос дочери одновременно с, запрыгивающим на колени, Костей.
Сынишка обхватывает меня за шею и крепко-крепко обнимает. Я обнимаю его в ответ, и мы сидим некоторое время неподвижно. Сынок, Костя – надежда родительская, вера в будущее. СЫН.
Поддаюсь нахлынувшему желанию и обнимаю всю семью. Родные мои! Хорошие! Как всё же здорово – быть вместе!
Раскатистым июльским громом во всеобщее спокойствие врывается голос:
ЖЕЛАЯ ОСТАВИТЬ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ДЕТСКИЕ ДУШИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ОБРАТНО.
Что это? Кто это?
Я верчу головой в поисках источника звука. Не вижу никого и ничего вокруг, кроме семьи в своих объятиях. Нет испуга, вместо него молодым растением быстро всходит и развивается волнение за Женю и Костю, которых обёртывает какая-то, будто стеклянная плёнка. Всё ещё находясь в наших с Варей руках, дети отдаляются, растворяясь в «жидком стекле». Я пытаюсь им крикнуть, полагая, что остановлю, верну; но ни голоса, ни сил нет. Вскоре чувство тревоги исчезает. Вижу, как спадает напряжение с Вари. Мы сидим, обнявшись, смотрим друг на друга. Я вижу в ней Любовь и Преданность. Милая Варя, жизнь моя! Она, словно слыша мысли, кладёт голову мне на грудь.
Мои глаза, подчиняясь неведомому натиску, невольно смотрят на экран. Ужас. Первобытный ужас исходит от транслируемых картинок.
Дымящиеся руины на огромной территории кое-где моргают вспышками пламени. Это бывший город. Город, в котором мы живём. На передний план выступает большая бесформенная куча обломков. Я скорее чувствую, чем понимаю, что это наш дом. Возле него должна быть роща. Конечно. Вот она. Обугленные пни – всё, что осталось от вековых дубов. Во рту ощущается отвратительный запах гниющего мяса.
Я не могу больше всего этого видеть, но взгляд не отпускают, заставляя смотреть на изувеченные взрывами поля, искуроченные скелеты металлоконструкций, руины, руины, руины… Среди всего этого смрадного, рваного, грязного неестественно белые кости животных и людей.
И сюда вернули наших детей?!
Здесь, среди обезображенного до отвращения мира, они станут жить?!
Ответ, прозвучавший в голове, был жестоким и простым:
ДА!
Какими нелюдями надо быть, чтобы натворить такое? Какое безумство допустить в свои мысли и желания? Ни оправдания, ни прощения мы не заслуживаем. Безнравственные, безрассудные тела, живущие прихотями и похотями…
Но внезапно всё исчезло. Ушли раскаяние, желание обернуть вспять, боль, горечь, страх.
Сижу, обнимая Варю. Смотрю на её уставшее лицо.
– Может к детям? – спрашивают её глаза.
– Как они там? – продолжаю мысленно я.
Мы поднимаемся с кресел и идём. Даже нет, плывём, не касаясь тверди. Исчезают стены, и перед нами открывается панорама, виденная на экране. Запахи, звуки, цвета – всё резкое, насыщенное. Но всё же мы отделены от мира пеленой, которую я воспринял, как «жидкое стекло». Это сетка. Мелкоячеистая сетка, сплетённая из времени. На ней яркими узорами вышиты идеи. Сквозь неё мы с Варей ясно видим своих любимых детей.
Евгения.
Костя.
Дом рода
Октябрь брызгал серым небом в новые пластиковые окна. За оградой стройки мотались на ветру скелеты деревьев. В глубине здания глухо стучал перфоратор. Объект планомерно приближался к сдаче. Оставались отделочные работы, но сегодняшнее ненастье не позволяло работать на лесах.
Фасадчики предавались праздности, собравшись побригадно, или занимались уборкой-стиркой. После обеда наши разбрелись по этажу, и в комнате остались лишь я, Лёха и Витёк. Из телевизора неслась двадцатка MTV, но заезженные композиции не цепляли.
Лёжа на втором ярусе металлической кровати, я пытался читать Андреева. Текст давался с трудом.
– Миха, – прервал мои читательские потуги товарищ, – помнишь дом в Ханаево на Ртищевской? Ну, заброшенный.
– Помню. Чего ты о нём?
– Да в прошлом году прятался там от дождя. Продрог до костей. А сейчас хорошо! – пружина внизу заскрипела, видимо, Лёха потянулся, – Его Серёга Хмырь купил, около недели назад.
Мы работали в Москве уже месяц и о событиях дома узнавали из телефонных разговоров. Как правило, новости у всех были о домашних делах. Мать Лёхи работала почтальоном, поэтому знала о жизни посёлка чуть больше. Поучается, что через Лёху знали и мы.
– Так Хмырь в Бекове же работал! – удивился я, – Что это вдруг решил переехать?
– Пёс его знает. Но то, что дом купил – однозначно. Тёща его говорила.
Больше об этом не разговаривали, но я решительно настроился по возвращении домой пообщаться с Серёгой Лариным. В юности меня особо интересовали необъяснимые ситуации и события, связанные чем-либо непознанным. Один из случаев относился к дому в посёлке Ханаево на пересечении Ртищевской и Зелёной улиц.
Умерла в нём старая одинокая женщина. Казалось бы, что в этом странного? Ежедневно кто-нибудь умирает, да и одиноких людей немало. Верно, вот только не все трупы, пролежав десять дней в майской жаре без внимания, остаются не тронутыми разложением.
– Словно молодая, – рассказывал отец моей бабушке, – Даже морщины разгладились. И совершенно никакого запаха.