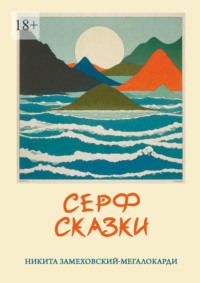Полная версия
1,618 жизни

1,618 жизни
Никита Замеховский-Мегалокарди
Иллюстратор Евгения Гладкина
Редактор и корректор Диана Фаттяхова
© Никита Замеховский-Мегалокарди, 2024
© Евгения Гладкина, иллюстрации, 2024
ISBN 978-5-0062-6054-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
За окном густо зашелестело дерево, повело ветвями, словно хотело опереться о стену, выпростать из земли свои корни, забраться на дом, чтобы с крыши дотянуться до облаков, а может и полететь к ним, за ними, в серебро высокой дали. День набрал высоту, потек долгим, как медовые соты, тяжелым теплом, и Ветру уже было не разойтись. В густоте воздуха он разложил по полям, пляжам и крышам свое тело, полы одежды, руки, волосы. Смотрел в ослепительное море, и только один его непокорный локон зацепился за какой-то флюгер, и тот, поскрипывая, водил поржавевшей стрелкой, как старая собака носом, из стороны в сторону, потеряв направление. Цикады кричали так неистово, будто зной возвещал о приближении чего-то, что они ожидали от начала творения. Земля спала тяжело, сухо отвердев сверху, словно губы от жажды в полуденный сон.
– Мальчишка не знает меры… – опершись о подоконник, прошелестела Тень.
Волшебник, не отрывая глаз от листа, на котором сосредоточенно писал, вытянув губы, слегка кивнул.
– Он несносен, взялся высушить всё… Трава хрупка как прах, как прах… – патетически раскачиваясь, продолжала Тень.
– На то он и Июль, – всё еще не поднимая взгляда, проговорил Волшебник.
– От блеска его воздушных змеев даже у бабочек кружатся головы!
Волшебник отнял глаза от бумаги, вставил перо в чернильницу и, подавшись в сторону окна, глянул на Тень:
– Вам-то, собственно, что от этого? От его света ваши лохмотья становятся только гуще! – и снова вернул взгляд к столу.
Слышно было, как ошалевший от жары жук, прогудев, стукается в стекло, будто за стеклом, за ним, прохладным, и мир не так раскален и неподвижен.
Тень, поджав губы, качнулась вслед за веткой от окна и осталась там, у клумбы, на которой жарко пламенели стойкие к зною мальвы, словно ей мальвы нравились или она в них что-то понимала. Волшебник, перечтя строки, попытался возвратить то неуловимое как пух состояние, когда мысли легко укладываются на бумагу. Наконец поймал и потянулся к перу.
На его столе всегда стояло несколько стаканов с карандашами и ручками, элегантная печатная машинка высилась за ними, и с краю, тонкий, серебристый, как сентябрь, компьютер неизменно светил какой-то лампочкой. Но Волшебник, хотя и пользовался для письма всем этим, в зависимости от настроения или сути записываемого меняя цвета, шрифты и принадлежности, перу доверял больше всего.
Когда бумага лежала, раскрыв объятия строке навстречу, лежала словно нагая, зовущая, и тот маленький, дерзкий и черный, что жил в старой бронзовой чернильнице, прыгал на нее с пера и целовал, целовал страстно, останавливался, перечеркивал и снова покрывал буквами, тогда Волшебнику казалось, что он летит. Летит быстро и уже не сам водит пером, а тот крохотный, черный и неуемный несет, словно конь! Уже сам бросает и бросает больные поцелуи на груди листов, строя строки. И тогда Волшебник отнимал руку от написанного, отчего по спине у него проходили мурашки, словно он совершил что-то кощунственное или внезапно проснулся, и смотрел как неукротимый крошка, сияя глазом, цепляется сильно за кончик пера, чтобы не сорваться, не разбиться безобразной кляксой, и вернуться к бумаге, в ее объятиях снова понестись, обрести власть и смысл.
Волшебник сравнивал с собой этого неуемного черного дикаря, запертого в толстых узорчатых бронзовых стеночках. Сравнивал потому, что сам так же, бывало, обретал власть над миром в объятиях.
Да, достаточно было порой просто ощущения ладони в ладони, полученного накануне сообщения, ощущения от мимолетного поцелуя в угол губ. До этого словно сидел запертый в стенки себя, как чёрный в своей чернильнице, но легкое касание словом ли, пальцем ли, губами делало брешь, и сквозь нее он врывался в мир, видел его другим и там носился всесильным написать всему любую судьбу! Хотя иногда те же губы, что прежде целовали, закрывали эту брешь произнесённым, а иной раз и не произнесённым словом, и он, вырвавшийся из себя в просторный мир, замечал вдруг, что это не он видел мир другим, это и правда не его мир, это другой. И тогда ох как хотелось вернуться в себя. Только это было так же трудно, как вернуться черному в чернильницу, если она опрокидывалась. Какую-то часть собрать, обратно влить удавалось, но какая-то навсегда оставалась в том, другом, мире. И тяжело было не только от того, что вернувшись в себя, в себе бултыхался, заполняя себя же только наполовину, было мутно и от того, что тот, другой мир ты собой наверняка запятнал.
У Волшебника не всегда находилось время на переписку, не говоря уже о дневниках, комментариях и описаниях опытов, так как во всякое время в его доме могло появиться множество гостей. Они были разными: молодыми, зрелыми, новорожденными или даже древними. Все они бродили по комнатам, занимали библиотеку или просто слонялись по коридорам. Некоторые ходили по стенам или потолку, потому что так им было привычнее, и тогда их променад создавал помеху тем, кто прохаживался по полу или пил чай, сидя в кресле.
Вообще в его доме были приняты ежевечерние чаепития. Никто кроме как «дом» жилище Волшебника не называл; в разговорах ли, в записках друг к другу, договариваясь о встрече у него, спрашивали «Вы будете сегодня в доме?» или «Я сегодня до восьми в доме, потом в залив».
Тем, кому яркий свет не был мил, в углах, завешенных тяжкими старинными шалями, горели китайские фонари, для тех, кому просторы были ближе, на террасу распахивались двери, чтоб синего воздуха сумерек входило в комнату как можно больше.
Шелестели разговоры, на желтые ковры ступали ноги в туфлях, башмаках, босые. На стеклах буфета малютки-блики игрались кубиками света, перебирая ножками, переползали на полированные колени мебели и к вечеру, потихоньку забравшись на стекла распахнутых окон, засыпали там, наигравшись звездными крошками. А за окнами в три стороны простор простирал ладони, упираясь ими в море, признающее над собой только светила и потому раскатывающее воды широко и вольно.
В три стороны расходились лучи, выпадающие поздним вечером из окон дома Волшебника: в сторону зовущего Востока, непостоянного Юга и таинственного Запада, на Север же выходила дверь. Волшебнику нравилось, открывая дверь, встретить его прямой взгляд так же, как нравилось иногда от этого тревожащего взгляда уходить – закрыть дверь и скрыться в недра дома за мягким щелчком замка.
Наконец комментарий был составлен, точка опустилась на страницу, крошка на кончике пера смирился с этим и затих, будто сговорившись с мыслями самого Волшебника, который вздохнул и вытянул ноги под столом.
Тень все еще стояла, отвернувшись, и упрямо разглядывала мальвы. Жук смирился с невозможностью пробраться в застеколье и, утомленный зноем и усилиями, ползал по подоконнику. Наверху, на карнизе, тихонько напевала горлинка. Солнечные Зайчики, оттолкнувшись от чего-то на улице, прыгнули было в комнату, но тут же скакнули обратно – в прихожей один раз долго и второй коротко прозвонил звонок. Дверь отворили, послышался голос и кто-то уверенно пошел по коридору, вероятно, знакомым путем.
Волшебник обернулся всем телом на стуле, когда от легкого стука открылась дверь.
– Это я, – протягивая впереди себя руку и сделав два шага, проговорил вошедший. – Такой сегодня день, что мне почему-то решилось зайти к вам, хотя я был от дома на порядочном расстоянии.
– Здравствуйте… – Волшебник поискал что-то глазами на столе, кашлянул, потер пальцем переносицу, выдохнув, посмотрел в разноцветные глаза гостя и добавил: – мой… любезный друг… Когда расстояния были для вас преградой?
– Не скажу, что никогда, просто так вышло, что я их меряю не километрами, потому многим и кажется, что они для меня словно и не существуют, – подхватил вошедший.
– Хотите чаю? Хотя в такую жару… может, воды?
– А вы мне, пожалуй, плесните тишины. Помните, той, урожая конца года, который для вас стал прошлым? Мы ведь вместе собирали ее в ту осень, – усаживаясь в кресло и сплетая ноги в блестящих узких штиблетах, проговорил посетитель. – Помните?
– Да как забыть… Я, собственно, уже распорядился.
И действительно, дверь отворилась, кто-то незаметный на столик у кресел поставил небольшой серебряный поднос, застланный голубоватой твердой салфеткой, на которой стояли бутылка, похожая на графин, или графин, напоминающий бутылку, бокал и овальное блюдце со сливовым вареньем, сваренным прямо с косточками, отчего посреди сладости это варенье вдруг начинало горчить, и вышел.
– Я закурю, – скорее утвердил, чем спросил посетитель, делая глоток.
– Курите, у вас табак прошедшим пахнет. Мне это иногда нравится… Хотя, – усмехнулся Волшебник, – я, даже если и курил бы, то вряд ли рискнул одолжиться у вас папиросой.
– Не курите, мой друг, не стоит, – сказал посетитель, вынимая из тёмного портсигара длинную желтоватую папиросу, – не стоит… – приглушенно продолжал он, прикуривая от толстой спички.
Дым мгновенно окутал ему голову, и, опустившись к плечам, потек вниз по серому пиджаку, чтобы окружить спиралью ноги. Сквозь сизые пласты показалось, что седина на висках у него слегка светится. И через дым было бы невозможно разобрать его взгляда, будь оба его глаза серыми, как октябрьское утро было бы проще, но один был синим и часто глядел пристально до неловкости. Между тем, отставив руку с папиросой, гость продолжал:
– Расстояния, расстояния… вот вы слышите слова, верно? Для всех, для глаза, привычно отметить расстояние до предмета, а для меня привычно слова видеть, привычно отмечать расстояние от слова до слова, от фразы до фразы, от разговора до разговора. И в этих промежутках, иногда минутах, а иной раз и годах, я существую, они – мое время. И возьмем хоть бы и вас, мой уважаемый. Заметьте, чем дольше… Хотя нет – чем дальше вы от общения, тем ближе мне к вам. Тем чаще вы подходите к окну, открываете книгу, из строк которой словно вытек смысл, чаще смотрите в зеркало, наблюдая за собственным взглядом, чаще смотрите в море, находя в нем общее с тем, на что смотрели в зеркале.
Он затянулся, обрывая свою речь, отложил папиросу в пепельницу и, посмотрев на часы, внезапно поднялся и сказал:
– Пора. Мне пора.
– Всего доброго, господин Одиночество, – вымолвил Волшебник, глядя сквозь окно в лежащее далеко море.
Гость слегка приподнял высокую бровь, от чего в какой-то почти улыбке подтянулся угол его рта, и уже от двери сказал:
– Это верно, это всегда верно, желать одиночеству быть добрым.
И вышел. От него остались только бокал с наполовину недопитой тишиной и иссякающая дымом прошлого папироса.
Тень за окном стала выше, немного прозрачнее и от того будто несколько рассеяннее. Она уже забыла свою полуденную обиду, придвинулась снова к окну, Волшебник слегка поклонился ей, и она качнулась в ответ.
Свет стал менее ярким, стал похож на благородное зрелое золото, падал сквозь разрозненную листву акации, словно июль набегался за день и сел теперь под крону играть с травой. Ветер поднялся, вытянул руки, ладонью провел по морю, травам и подставил плечи голубям и чайкам. Внутри дома слышались голоса.
Сын, а может внук молочницы, которого помимо масла, сыров и сливок она привозила на трескучем, Волшебника раздражавшем мотороллере, неизменно вытаскивал из очага холодный уголек и начинал им широко расписывать беленые стены огромной, в пол-подвала, кухни, пока мамаша, сидя у стола, рассказывала что-то. Дом не обижался и, как только молочница забирала свое чадо, растворял эти непостижимые узоры в своей штукатурке. Но пока малец творил вокруг себя иное пространство, дом не мешал ему накладывать на мир свой отпечаток.
Волшебник достал из пучка новое перо, окунул в чернильницу и провел по манжете линию, от запонки вверх, будто записал настроение. Маленький и черный из чернильницы нырнул в накрахмаленную ткань и, уходя в лабиринт нитей, оставил за собой след, похожий на тот, что впитывал дом в свою штукатурку. Папироса, испустив язык синего дыма, перестала жить.
Напротив стола тускло светил притертыми пробками стеллаж с пузырьками собранных в разное время и в разных местах лучей, дней, закатов, рос, звуков, запахов, состояний – компонентов, необходимых Волшебнику для опытов. Сняв манжету, Волшебник положил ее на верхнюю полку рядом с разномастными флаконами.
Сбежать вниз: к морю, к пескам, к перемешанным с солью и лучами ракушкам. Он переоделся и вышел из дома, Север смотрел ему в глаза. Волшебник прошел за ограду, обогнул чугунные завитки, опутанные цветущим вьюном, столкнулся лицом к лицу с Югом и сразу, будто птицы, на плечи к нему опустились звуки. Как птицы, они сновали у ног, словно он рассыпал им зерна внимания, а на море серебрились и танцевали блики.
Мир был здесь тот же, что и вчера, тот, что и завтра, все такой же единственный и настоящий.
– Приветствую, – проговорил Ветер, откидывая со лба прядь. – Как у вас со временем? Может, на часок в море?
– Не сегодня. Я просто пройдусь, не составите компанию?
Ветер покладисто кивнул, и вместе они зашагали вниз. Ветер катил рядом норовивший обогнать их старый, звенящий всеми частями велосипед, и что-то рассказывал. Так они дошли до набережной. Берег опускал свои нагретые камни в воду, и у камней она слегка волновалась, но в отдалении оставалась недвижимой, словно пользовалась тем, что Ветер, позабыв обо всем, рассказывает рассеянно слушающему Волшебнику какие-то свои истории.
Волшебник облокотился о перила, небо начинало синеть все гуще,
– Я оставлю вас здесь, раз в море вы не идете. – в конце концов сказал Ветер, взбираясь на свой дребезжащий транспорт. – Надо объехать заливы, я обещал наведываться к ним.
И, оттолкнувшись одной ногой, неловко повертев рулем, нажал на педали и стал набирать скорость, отчего разошлись утомленные дневным зноем ветки дерева и качнулся синеватый вкусный дым мангала у ближайшего ресторанчика. Волшебник рукой взмахнул ему вслед.
Ветер съехал к воде и покатил по ней словно море было лугом, сквозь который пролегал проселок. Волшебник же остался наблюдать, как все ниже спускаются Сумерки.
Их было двое, один двигался с юга, другой – с востока, словно восток и юг были холмами, словно небеса загустели до такой синевы, что стали плотными.
Один был одет в сиреневые длинные одежды, клубящиеся и колеблющиеся, тонкие его волосы словно летели вокруг головы. Другой придерживал поднятый воротник длинного лилового пиджака, как будто ему было зябко, и в свободной руке нес перед собой неяркие шары огней, чтоб оставить их в саду, где до утра они просветят фонарями. Оттого, что он держал огни не над головой, а внизу, причудливо оттенялось его лицо и длинные прямые волосы. Чем он спускался ниже, тем огни его сильнее затмевали закат, который уже почти наполовину запад закутал в даль, как в одеяло. Всходила луна.
Захотелось сладкого и, несмотря на тепло, горячего – чаю или какао. Волшебник поднялся и пошел в сторону дома, который уже засветил в три стороны желтые арки окон.
По пути зачем-то купил тёплых душистых семечек. Немного пощелкал, но вспомнил, как вчера молочница запрещала своему мальцу грызть их натощак, да и в детстве то же самое говорила мама, и потому просто подбрасывал их в бумажном кульке, слушая, как они шуршат, пока шагал домой над набережной мимо череды скамеек под кустами дичающих роз. По ночам там жарко обнимались пары, поздним вечером сидели юнцы, а на закате- старики и мамаши с колясками. Сейчас мамаши уже развезли малышей по домам, юнцы из домов ещё не выбрались, и потому кое-где сидели только старики. Кого-то из них Волшебник знал с детства и здоровался, а кто-то смотрел сквозь него, и он понимал, что здороваться не имеет смысла – его не заметят.
Это началось два года назад, в конце мая. Он постепенно стал видим только для тех, кто знал его ещё ребёнком. Хотя продавщицы и вообще все те, кому он платил за услуги – как молочнице или мрачному дядьке, что возил в дом дрова, тоже видели его отлично. Так же он был видим почти всем детям, но иногда попадались и посторонние взрослые, его видевшие, остальные разве что не врезались в него на улице. Сам же Волшебник всех видел прекрасно и мог с любым заговорить, как говорил, к примеру, с Ветром.
Поначалу он, конечно, не обращал на это внимания, думал, мало ли, не заметили, не узнали – он же перебрался в дом за посёлком, одеваться стал несколько иначе, да и в самом посёлке появлялся не ежедневно. Но как-то летом, на набережной познакомился с приезжей. На следующий день катал её по заливам на своём шверботе, вечером пригласил поужинать, а ночью поцеловал у розовых кустов по дороге на её квартиру. Она ответила на поцелуй. У неё глаза были зелёные, и когда их губы разомкнулись, светились так, что ему захотелось рассказать ей не ту ерунду, которую обычно рассказывают все катающие отдыхающих девиц на шверботе, а о том, что же на самом деле его занимает.
Отпускать её тело не хотелось, не хотелось отпускать и взгляд, хотелось держать запах её висков близко к лицу… Однако торопить он не стал, и она это оценила. Хотя ей тоже не хотелось, чтобы он сейчас ушёл, оба чувствовали одно и то же – будет ещё завтра и после завтра, а может следующий понедельник, а может и следующий месяц, кто знает?
Наутро они встретились на пляже. Долго купались, он говорил о прозрачных безмолвных медузах, смешил и резал прохладный арбуз. Обедали в ресторанчике на набережной, и он повёл ее через посёлок, а потом по тропинке, сквозь жаркий запах трав, к дому.
Дом ей понравился ещё издалека. Он действительно был хорош – белый, южный, двухэтажный, с башней, садом вокруг, а с террасы вид на самое синее в мире море и на самые сонные в мире холмы.
Да и внутри дома было ей интересно. А как иначе – в доме жил волшебник, только этого она пока не знала, а потому ей просто нравились разные вещицы, необходимые его гостям, которые она посчитала экзотическими безделушками. Ей понравилось, что из пустого сейчас, летом, камина всё равно немного пахнет дымом, а из шкафов – чуть-чуть лавандой, что стены покрыты настоящей извёсткой. На террасе понравилось, что перила горячие, но не сильно, а в коридоре – что перед гостиной есть ниша, где можно было бы обвить ему шею руками, даже если бы сама гостиная была полна народу.
Чем больше она находила хорошего в доме, совершенно безмолвно её принявшем, тем больше ей нравился сам Волшебник. Она вдруг поняла, что ей вчера показалось в нем необычным – он был в шортах, но не в майке, как все в такую жару, а в рубашке с длинным рукавом и каким-то немного несовременным воротником. А ещё, что ему это очень шло.
Когда он открыл перед ней дверь кабинета, ахнула от того, в каком количестве и какими старыми, и вероятнее всего, дорогими здесь были книги. От стола, которому явно было лет сто пятьдесят, от всяких штук на этом столе. Однако её он подвёл к стеллажу с разномастными колбами и склянками. Она смотрела с интересом, он же начал рассказывать, как собирал их содержимое, где собирал и куда ему приходилось для этого забираться.
Поначалу её не удивило, что в узкогорлой замысловатой бутылке может храниться воздух позапрошлогоднего марта, но как в похожей на двухстворчатую ракушку шкатулке может содержаться грохот прибоя с южных островов, она уже не поняла. А он вдруг начал горячо говорить про то, для чего ему все это, и тут она перестала совсем понимать его. И ему верить… К чему это все, что это? Его слова стали для нее бессмысленны как воробьи у бордюра.
Волшебник осознал, что что-то не так, когда она смотреть начала словно бы сквозь стеллаж, да и его уже его будто бы слышала, а будто и нет. А потом она уже и смотрела сквозь него. Сквозь него, и сквозь стену дома… Он замолчал.
Её взгляд к нему так и не вернулся, она постояла мгновение, вздохнула, словно проснулась, и просто прошла мимо него сквозь стол, сквозь стену… Он изумлённо подбежал к окну, распахнул, хотел было крикнуть, но промолчал, сквозь ограду сада она пошла вниз, к посёлку, будто и не было за её спиной никакого дома и того, кто сейчас в нём остался у распахнутого окна, и чьи ладони на своей спине ей так нравилось ощущать.
Одиночество тогда надолго загостился в доме. Когда вошел, сразу, с порога, хотя Волшебник в коридор не вышел, сказал так, что разнеслось по всем комнатам:
– Волшебники есть там, где в их волшебство верят. – и без стеснения закурил свою папиросу.
Волшебник его не послушал тогда. На следующее утро отыскал её на пляже среди загорающих. Подошел, но снова она смотрела сквозь него на море и говорила подруге:
– Помнишь, вчера ходила гулять в холмы, за посёлок? Посмотри у меня в соцсетях, ты зря не пошла, очень красиво. Так я там заснула! Присела на минуту и не поняла, как задремала. И снилось что-то такое, приятное… – добавила она, переведя взгляд на горизонт, и повела загорелыми плечами, которых вчера касались его руки.
Он хотел что-то сказать, но у него не получилось. Да он и не знал на самом деле, что говорить, а потому ушёл. Той же дорогой – мимо скамеек под розами.
И сейчас, когда шёл, вспоминал это, но совсем без горечи. Не то, чтоб эти мысли шуршали в голове, как семечки в кульке – бесследно, но и не уязвляли уже.
– Вернулся!? Вот мать была бы рада! – раздалось вдруг справа и вслед за этим последовал радостный пьяненький смешок, – Вот молодец… Ну как там?
– Сергей Николаевич, – ответил Волшебник, всматриваясь сквозь сумерки в розовое даже в полутьме вечера лицо старика на скамейке.
– Сколько тебя не было? Ну как там, в этой твоей?.. Вот мать была бы рада! А когда же ты приехал из этой-то… – старик замолчал, почмокал губами, подвигался и, распространив вокруг себя лёгкий запах какого-то архаичного одеколона и алкоголя, довольно сообщил:
– Никак не запомню этой твоей географии, а ведь мы, как говориться, пол-Европы прошагали, пол-Земли!
Сергей Николаевич Трушин был в прошлом инженер и почти начальник, они с отцом вместе ездили на рыбалку и пол-Европы в той войне, на которую намекал, никак по возрасту прошагать не мог, потому что ходить начал только в 1946-ом, когда война уже кончилась. Но эхо той войны жило в нём, как и во всех его сверстниках, а может быть это они жили тем эхом. Но суть была не в этом, а в том, что Волшебника он видел только приложившись к рюмочке. Только хмельным на старости лет и верил в волшебство, а под Новый год – и в Деда Мороза, к чему, надо сказать Волшебник приложил руку.
Ежегодно, улучив время, 31-го декабря он заходил без спроса, незамеченным, в пустую стариковскую квартиру, из которой давно уехали дети и куда только летом иногда привозили невестки внуков, и оставлял на кухне еловую ветку, несколько мандаринов и крошечную, с палец размером бутылочку коньяку, а на 9-ое мая, на День Победы, банку тушёнки, горбушку черного хлеба и такую же – на двадцать пять грамм – бутылочку с водкой.
Эти внезапные подарки на кухне родили и укрепляли в Сергее Николаевиче веру в чудесное, которой он пытался делиться со своими бывшими коллегами, с невестками, но слушали его только внуки. И, может быть, он видел бы Волшебника не только под хмельком, но и всё время, если бы его рассказам верили не одни только дети, но и остальные.
– Ну так как там у тебя, в этой твоей, как её?
– Пусть сегодня будет – Эстрамадуре, – ответил Волшебник.
– Точно! Забываю всегда! – обрадовался старик, – Вот мать была бы рада… – добавил он немного погрустнев, потому что вспомнил свою давно ушедшую в другой мир жену.
– Я пойду? – спросил Волшебник, которому стало неловко за Эстрамадуру.
– Иди, иди, – ответил Сергей Николаевич, – Я сам скоро пойду, вот посижу и пойду, июль вон какой, как внук мой, Сережка. Рыжий… Это в бабушку…
Волшебник кивнул, высыпал семечки прямо на плитки площади, чтоб утром их склевали голуби и, выйдя шагов на пять из-под фонаря над скамейкой, вытащил из кармана плоскую, похожую на портсигар коробочку. Раскрыл и вынул из неё осторожно похожую на золотистую пушинку искорку любви, которых много собирал тут же, у скамеек, когда мамы качали в колясках малышей, и пустил в воздух. Искра зависла на мгновенье, а потом полетела к Сергею Николаевичу, опустилась на плечо и словно растворилась в его рубашке, а на самом деле в нём самом, от чего он глубоко вздохнул.
Чтобы пройти к дому, нужно было миновать три улицы и сквозь одчавший сад выйти на тропинку в холмы.
Сад считался одичавшим и ничьим – много лет никто не подрезал тут абрикосовых деревьев, бурно разрослась трава, и дети почему-то не играли в войну, а влюбленные, как это ни странно, не уединялись здесь на ветхой скамейке, его давно обходили стороной, хотя и цвел этот сад весной, как никакой другой. Первыми из плодовых начинали старые миндальные деревья, их едва розовые цветки на фоне серых веток были похожи на улыбки седых суровых старух. Потом цветом покрывались корявые персики. Их киноварные побеги беззастенчиво распускали бутоны тропически-розового оттенка прямо в ещё серое, по-жемчужному прохладное небо. Следом начинали всеми своими лиловыми ветками и веточками цвести абрикосы, они буйствовали неделю, и между ними белоснежно кипела алыча. Дальше акация, сама собой выросшая здесь, благоухала половину июня, и потом до середины сентября стоял густой аромат разнотравья. Но ещё в феврале, предваряя эту буйную пляску, тонко пахли кусты татарника. Чтобы запах крошечных цветочков был заметен, его желтым голым прутьям нужно было озябнуть, как будто только остриё тонкого холода способно было кольнуть обоняние так, чтобы оно ощутило застенчивый аромат, так же, как серебряная искра инея на буром павшем листе колет и привлекает взгляд.