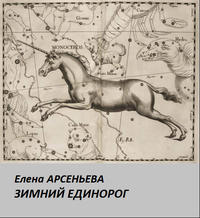Полная версия
Ведьмин коготь
Хабаровск, Хабаровск! Пионерские лагеря на Воронеже и на Бычихе, Хехцир с синими сопками – этот синий, особенный, хрустально-чистый цвет видят только те, кто родился на Дальнем Востоке… А закаты над Амуром?! Нет слов, чтобы их описать, – можно только за сердце хвататься, стоя на утесе или на высоких воронежских берегах! Незабываемый город, в который, кажется, всегда можно вернуться, и тянет туда неодолимо, однако жизнь уже переменилась так, что обратной дороги нет, остались только краткие визиты в неузнаваемо меняющийся город – чужой, хоть и по-прежнему родной и любимый!
Выйдя на пенсию, Александр Александрович Морозов купил дачку на Хехцире, близ сопок Двух Братьев, и его любимая внучка часто там бывала. Странный Женькин дед Саша не больно-то на участке горбатился – впрочем, у него все и так хорошо росло, от войлочной вишни и облепихи до винограда и малины, которую собирали еще и в первые заморозки, от обычной картошки до арбузов и дынь, помидоры, «хабаровский розовый» и «бычье сердце», морозные на изломе, вызревали такой величины, что хоть на выставку каждый год носи! Дед Саша в основном по тайге шастал – просто так, любуясь лиловым огнем багульника в мае, белой сиренью в июле, россыпью синих ирисов, диких белых пионов и оранжевых саранок, а потом – буйством осенних красок в затаившейся перед зимними морозами тайге. И Женя ходила рядом молча, смотрела, смотрела, словно уже тогда чувствовала, что настанет день, когда она всего этого лишится – так пусть же сохранится в памяти.
Ничего она на самом деле не чувствовала!
Неподалеку от их дачи было одно место… Раньше там рос ельник, резко выделяясь темной зеленью на фоне прочей таежной листвы. По берегам ручья, рассекавшего ельник надвое, вздымалась сплошная травяная непролазь, а белокрыльник, любитель сырости и тени, вымахивал здесь под метр, и каждый его лист напоминал немаленькое весло. Чудесные букеты собирала в этих местах Женя!
И вот однажды осенью ельник вырубили, да подчистую. У Женьки глаза были на мокром месте, когда она смотрела на сиротливо торчащие пеньки! Дед хоть и трунил, перефразируя Некрасова: «Плакала Женя, как лес вырубали!» – однако тоже откровенно взгрустнул. Но пришли на то же место год спустя – и глазам не поверили: вырубка заросла разнотравьем, но над всем властвовал кипрей, иван-чай, и какая же это была красота – темно-розовое, с малиновым отливом, цветущее царство! Стебли кипрея стояли один к одному, один в один стояли, словно на месте одного вырубленного леска поднялся другой. И пчелы, чудилось, со всей тайги туда собрались, такой непрерывный гул раздавался над просекой!
Дед Саша смотрел, смотрел на этот малиновый, ясный, радостный свет и вдруг сказал:
– Вот так и жизнь. Все врачует, все заживляет, и хоть не веришь, что еще улыбнешься и вздохнешь счастливо, а вот же… и вздыхаешь, и улыбаешься, и благодаришь судьбу за это!
Женя уже тогда знала историю своей семьи и понимала, что видит дед там, за розовым цветением кипрея, какие раны своего сердца врачует этим зрелищем. Оттуда, из неизмеримого далека, смотрели на него мать и отец, а рядом с ними стояла его любимая сестра, именем которой была названа Женя…
Она вспомнила этот эпизод, уезжая десять лет назад из родного города. В сердце осталась безжалостно вырубленная разлукой просека, и с тех пор она каждый день ждала, когда же новая жизнь расцветится счастливым малиновым сиянием, и заживет рана в душе, и утихнет тоска, но нет – не цвел кипрей, не забывалось покинутое, и теперь только гордость, непомерная гордость не давала Жене открыто признать, что дед Саша был прав в своем безжалостном приговоре: «Это не твой человек. Ты делаешь ошибку. Остановись! У твоего мужа должна быть другая фамилия!»
Он назвал эту фамилию и пояснил, почему ей следует быть именно такой, но обиженная до ужаса Женя тогда ожесточенно подумала, что вот и у деда Саши начался старческий маразм. Какое отношение к ней имеют какие-то полузабытые предания ее семьи, о которых даже дед знал смутно, говорил с запинками и, кажется, сам не слишком верил в то, что говорил!
Женя тогда решила, что дед все это выдумал, только бы остановить любимую внучку, но разве могла она остановиться, ошалело влюбившись в блестящего журналиста Михаила Назарова, спецкора знаменитой своей либеральной скандальностью «Новой прессы»?! Он нагрянул в Хабаровск за каким-то горячим материалом, в процессе его собирания до полного умопомрачения очаровался Женькой Всеславской, ну и ее очаровал до такого же состояния!
Положение отягчалось тем, что Александр Александрович Морозов либеральную прессу на дух не переносил и даже знакомиться с Михаилом согласился не сразу, да и потом, при встрече, держался до того неприветливо, что Женя обиделась. Как же так – дед всегда говорил, что она свет его очей и счастье его жизни, а норовит стать поперек ее собственному счастью! Маме с папой Михаил тоже не пришелся по душе, но с ними удалось сладить легче: они на старости лет – а им ведь уже было за сорок! – вдруг взяли да и родили Женьке брата, которого, само собой, назвали Сашей, в честь деда, и этот чудный карапуз помог им спокойно отпустить старшую дочь в новую неведомую жизнь.
– Ты только имей в виду, – сказала мама, – Москва в самом деле бьет с носка и слезам не верит, так что если тебе там станет худо, возвращайся.
– А ты как думаешь, я вернусь? – спросила Женя, затаив дыхание.
Мама у нее была женщина очень непростая… Отец называл ее с ласковой насмешкой «вещая жёнка», но в этих словах ласки было больше, чем насмешки, и Женя, которой мама иногда, скупо и неохотно, рассказывала о делах давно минувших дней, преданиях старины глубокой, которые касались ее, и деда Саши с его сестрой, и легендарного Грозы[5], могла только сожалеть о том, что таинственные, особенные, даже сверхъестественные способности ее предков на ней, конечно, не просто отдохнули, но отлично выспались, ибо ни дара предвиденья, ни ясновиденья или яснослышанья, ни целительства у нее не было совершенно. Именно поэтому Женя после школы не пошла на юрфак, чего хотела мама, не стала поступать в мединститут или хотя бы на химбиофак, о чем мечтали дед и отец, а подала документы на филфак пединститута.
Что характерно, ни словом никто из родни не упрекнул: наверное, потому, что именно на этом же самом филфаке училась та, другая Женя, любимая сестра деда, ставшая потом известной дальневосточной журналисткой. На сером здании – угол улиц Серышева и Джамбула, – где находилась редакция газеты «Тихоокеанская звезда», висела мемориальная доска с надписью: «Здесь в 1957 г., а также с 1960 по 1985 г. работала Евгения Васильевна Васильева-Скобликова (1939–1985)».
Наверное, родные надеялись, что Женя-младшая тоже сделается звездой дальневосточной журналистики, а то и, чем черт не шутит, даже отечественной, но вот беда: к журналистике ее совершенно не тянуло, хотя она довольно успешно пописывала что-то для Хабаровской студии телевидения и даже провела там несколько детских передач. Но на самом деле Жене это было неинтересно – так же, впрочем, как и преподавание русского языка и литературы в средней школе, хотя на практиках ее хвалили самые суровые методисты, а ученики вообще обожали. Но вот уже позади госэкзамены, и за отличную учебу получено право свободного распределения, то есть Женя может сама выбирать себе место работы, а она по-прежнему не знает, чего хочет… Тут-то и занесло в Хабаровск «акулу пера» Михаила Назарова! Последовал бурный роман, скоропалительная свадьба – и вот уже под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги, и прощально блеснул в рассветных лучах Амур, а потом все затянула пелена облаков, изредка виднеются пятна лесов и вьются нитки рек в просветах – и наконец Шереметьево-1, привет, столица!
– Ну вот, счастье мое, – шепнул ей Михаил, когда они сошли с трапа. – Увидишь, как мы заживем в Москве! Ты принесешь мне удачу!
Это было в начале 2008 года.
Через три месяца он назвал Женю «горе мое», сообщил, что она принесла ему «сплошные несчастья» и не подал на развод только потому, что Женя поклялась покончить с собой, если Михаил ее бросит. Наверное, она так и поступила бы, потому что все еще до одури любила этого бородатого и хамоватого, веселого и бойкого журналюгу, но Михаил спохватился и передумал разводиться. Вот только самоубийства этой ненормальной ему не хватало! Именно тогда он «разводился» со всей столичной журналистикой. Один скандальный материальчик, которые так любила «Новая пресса», оказался чрезмерно скандальным. Михаил «наехал» на ветерана Великой Отечественной войны, который посмел оскорбить тогдашнего московского мэра, назвав его жуликом и вором. Мэр сначала взбеленился, спустил на ветерана зело борзую и всегда готовую к бою «Новую прессу». Гордый особым доверием спецкор Назаров в своих обличительных статьях ударил не только по ветерану, но и выразился в том смысле, что в те годы (военные) только ленивым медали и ордена не давали, и надо еще проверить, в самом ли деле сей ветеран в атаки хаживал или на продуктовом складе, выражаясь языком классического фильма, подъедался. Поднял Михаил также модную среди «новопрессовцев» тему о том, что Ленинград лучше было бы сдать – тогда и блокады не было бы, и народ с голоду не умирал бы… И все это было написано блестящим, ироничным, остроумным слогом, которым славился Назаров! Статья, однако, попалась на глаза Президенту, который за недобрые слова в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, а тем более – издевки над блокадой готов был порвать глотку кому угодно. Мэр, едва заслышав раскаты грома, донесшегося из Кремля, отозвал своих борзописцев. Редактор «Новой прессы» попятился с той же ретивостью, с какой недавно бросился в атаку, однако было уже поздно. Президент недвусмысленно пожелал эту… дурно пахнущую, скажем так, тварь… скажем так, более не видеть и не слышать. Никогда. Назарова пришлось швырнуть на съедение разъяренному Президенту. Покаявшийся мэр публично на всех телеканалах обличал и Назарова, и всю «Новую прессу». Само собой, газетенка кормилась с заокеанского стола, само собой, Назаров готов был изобразить мученика, которого кровавая гэбня пытается лишить с таким трудом завоеванной свободы слова, однако ссориться с рассерженным Президентом не пожелал даже такой отъявленный цепной американский пес, как главный редактор «Новой прессы». Мэр за своих не заступился – под ним уже горела земля, и полыхнула-таки синим пламенем через пару лет «за утрату доверия Президента»… И Назарову предоставили выбор: или работать дворником в Москве (ну а что, вообще, такого, даже некий Зощенко в свое время в аналогичной ситуации сапожником подрабатывал!), или отрясти со своих стоп столичный прах и временно скрыться куда-нибудь в провинцию – да в тот же Нижний Новгород, в его, Назарова, к слову сказать, родной город.
А что? Тоже столица, хоть и третья!
Сырьжакенже, прошлое
– А Люську мне Водява бросила, – сказала бабка Абрамец.
– А это еще кто? – удивилась Раиса. – И почему – бросила?
Они сидели на крыльце, перебирая снопы травы. Здесь были крапива, подорожник, лопух, валериана, мать-и-мачеха, толокнянка. Но среди этого изобилия Раиса с полной уверенностью могла отыскать только крапиву, поэтому старуха доверила ей возиться именно с крапивой. Ее надлежало связать в веники и отнести в сарай, упрятав под сено, чтобы не померзла. Дабы не обжечь руки, Раисе были выданы матерчатые перчатки и передник.
– Это зачем? – осторожно спросила Раиса, которая знала только, что отваром крапивы волосы хорошо полоскать. – Ну, веники вязать – зачем?
– А вениками из пиципалакса порчу выметают, – сообщила бабка Абрамец. – Знаешь, сколько народу за ними ко мне бегает?!
Пиципалакс – так эрзяне называли крапиву. Раиса долго учила это слово. И сейчас, слушая бабку Абрамец, она мысленно повторяла: «Крапива – пиципалакс, лопух – кирмалав, подорожник – цирейлопа, мать-и-мачеха – одажа…» Других названий она пока не могла запомнить, поэтому всё называла просто тикше – трава.
Эрзяне, главное дело! Раньше все были просто мордва да мордва, а оказалось, они какие-то мокша и эрзя. Все на одно лицо, от одного корня, а как за свою разницу цепляются, это просто смех! Не дай Бог, говоря с эрзянином, слово по-мокшански брякнуть – губы-то кривить начнут, глаза-то свои узкие еще пуще сузят! Вот и бабка Абрамец: стоит Раисе крапиву назвать пиДипалакс, по-мокшански, а не пиЦипалакс, по-эрзянски, траву – тише, а не тиКше, – так изворчится вся! Ну, Раиса и старается…
– А сами люди что, заранее не могут себе веников навязать? – спросила она заискивающе.
– Так откуда им знать, настигнет их порча или нет? – развела руками старуха, выронив несколько листков цирейлопы, то есть подорожника: умываться их отваром, как только что узнала Раиса, чрезвычайно полезно при сглазе. – Я ведь и сама еще не знаю…
Она умолкла, ощерив беззубый рот, но Раиса и сама догадалась, что бабка Абрамец хотела сказать: «Я ведь и сама еще не знаю, на кого порчу наведу!»
Раиса невольно передернула плечами: зябко вдруг стало…
– Эрь-эрь, – ухмыльнулась старуха, – зикамс а мезде! Покуда за Ромкой ходишь, никакой беды с тобой не приключится. Ты мне помогай, помогай, учись – авось пригодится, когда я помру. Только вот что загодя тебе скажу: как услышишь из подпола «Калт-култ!», готовься, приглядывай за мной. Лягу на лавку – значит, час мой наступил. Ты надень на меня носки – только, смотри, шерстяные, черные, которые я тебе дала, когда вы с Ромкой сюда при-шли, помнишь? Ты спросила зачем, а я ответила, что потом объясню. Вот объясняю. Слушай дальше. Людей никого не зови, печную затворку открой, дверь входную – тоже открой. Потом залезь с Ромкой в печь, в уступ. Тихо там сидите! А уж после, когда вихрь уляжется, людей позови и меня схороните. Но пока в печке сидеть будешь, на Ромку поглядывай. Со страху заплачет – успокой. А захочет вылезти и ко мне подойти – пусти его.
– Так ведь страшно… – с трудом удерживая зубовную дрожь, пробормотала Раиса.
– Не пустишь – еще больше испугаешься! – посулила бабка Абрамец и снова принялась перебирать траву, близко поднося то стебель, то корень, то листок поближе к глазам, всматриваясь в них, принюхиваясь и лукаво косясь на Раису.
Может, она пошутила? Да навряд ли…
Раиса встала, взяла несколько готовых крапивных веников и, с трудом передвигая дрожащие ноги, пошла в сарай – якобы спрятать веники под сено. На самом деле ей хотелось побыть одной.
Много странного, непонятного и откровенно страшного пришлось ей повидать с тех пор, как ее, осиротевшую семнадцатилетнюю девчонку Раю Ходакову, устроившуюся посудницей в хабаровскую психушку, изнасиловали в кухонной подсобке два пациента. Это было настолько унизительно и гнусно, что жить после этого казалось невозможным. Когда насильники ушли, Рая, едва найдя силы шевельнуться, доползла до кухонного стола, нашарила ножик и шарахнула себе по горлу. Она истекла бы кровью и умерла, да только докторша Людмила Павловна Абрамова взяла и заглянула в подсобку в эту самую минуту. Отродясь ее на кухне не видели, а тут поди ж ты…
Рая, впрочем, к той минуте потеряла сознание и очнулась нескоро – уже на больничной койке, не чувствуя никакой боли в перевязанном горле, – а над собой увидела два озабоченных лица: самой Людмилы Павловны и сестры-хозяйки Алевтины Федоровны Чернышовой.
Попыталась что-то сказать, но Людмила Павловна приложила ладонь к ее губам:
– Не говори пока ничего, просто слушай. Не волнуйся ни о чем, я о тебе позабочусь. Тут из милиции приходили…
Рая с ужасом на нее посмотрела: стоило только представить, что надо будет чужим, посторонним людям рассказывать о том, как возились на ней, слюнявили и поганили ее два гнусных психа и как она потом попыталась покончить с собой… да, не зря матушка-покойница называла неумехой, у которой руки не туда вставлены, если даже этого сделать Рая не смогла!
– Да не к тебе они приходили, – улыбнулась Людмила Павловна. – О тебе никто не знает, кроме нас с Алевтиной Федоровной. А приходили они потому, что Попов и Капитонов подрались да с лестницы свалились. И вот же как не повезло им: оба шеи сломали да померли.
– Не померли, а подохли, – чуть слышно просипела Рая, потому что Попов и Капитонов – это были те самые подонки, которые ее изнасиловали.
– Подохли, подохли, – весело блестя глазами, согласилась Людмила Павловна, и Рая, неизвестно почему, поняла, что здесь не обошлось без Людмилы Павловны.
Вот подумала так – и тотчас поверила в это, потому что в Людмиле Павловне всегда была некая особенная таинственность, опасная, но при этом чарующая, причем по больнице ходили смутные слушки о том, что она с некоторыми пациентами проделывает какие-то опыты… может людей заставить сделать то, что она им приказывает… а что, если она и этим двум сволочам приказала с лестницы кинуться? Захотела за Раю заступиться – и приказала! И за это заступничество, Рая знала, она будет Людмиле Павловне благодарна по гроб жизни! Вот только как жалкая судомойка сможет отблагодарить доктора Абрамову?
К ее изумлению, случай вскоре представился, да какой случай! Людмила Павловна открыла Рае свою тайну: она была беременна, и совсем скоро предстояло ей рожать. Однако Людмила Павловна по какой-то причине ни за что не хотела, чтобы окружающие об этом знали. Она опасалась чего-то – и для себя, и для ребенка. И предложила Раисе стать няней для будущего дитяти, помогать Людмиле Павловне скрывать его существование от всех остальных. Содействовать им должна была Алевтина Федоровна. Она помогла обеспечить Людмиле Павловне тайные роды, а потом выкрала у своей племянницы Эльки Чернышовой документы и зарегистрировала Эльку как мать младенца (его назвали Романом), однако фамилию ему записала не Чернышов – а Роман Павлович Верьгиз. При этом в графе «Отец» стоял прочерк, однако на сей счет у Раи имелись некие подозрения, о которых она, впрочем, благоразумно помалкивала.
Рая жила с маленьким Ромкой в квартире, снятой для нее Людмилой Павловной на улице Ленинградской, неподалеку от психиатрической больницы, так что Людмила Павловна – хозяйка, как ее про себя называла Рая, – могла забегать к сыну довольно часто, хоть и украдкой.
Рая была довольна своей новой жизнью – спокойной, чистой, сытой. Она не задумывалась о будущем, она любила Ромку как родного, да и он привязался к ней куда сильнее, чем к Алевтине Федоровне, а может быть, даже больше, чем к матери.
Но потом что-то случилось, и этой безмятежной жизни пришел конец… Пришлось спешно собирать вещи и чуть ли не бежать из Хабаровска. Хозяйка уклончиво объяснила, что Алевтина Федоровна погибла при пожаре, который случился в квартире Людмилы Павловны, а вместе с ней погиб и некий доктор Сергеев. Спокойствие, с которым хозяйка об этом сообщила, изумило Раю: ведь в больнице втихаря сплетничали насчет их с Сергеевым отношений, Раиса даже предполагала, что именно он был отцом Ромки… Еще больше Рая удивилась, когда Людмила Павловна – уже после того, как они перебрались в Москву, – показала ей новое свидетельство о рождении своего сына. Теперь его звали Павлом, фамилия была – Абрамец, а его матерью значилась никакая не Элька Чернышова, а Люсьена Павловна Абрамец. Оказывается, таким было подлинное имя Людмилы Павловны Абрамовой! Но это удивило Раю гораздо меньше, чем имя, которое теперь значилось в графе «отец». Это было отнюдь не имя доктора Сергеева, а какого-то другого, вовсе неизвестного Рае мужчины!
Впрочем, одного пристального взгляда Людмилы… то есть, простите, Люсьены Павловны, хватило, чтобы Рая перестала удивляться чему бы то ни было и опять приняла свою судьбу как нечто само собой разумеющееся: и поспешный отъезд их в Москву, и новую, безбедную жизнь там. Хозяйка начала работать ассистенткой у всяких знаменитостей – гипнотизеров и разных экстрасенсов, которых вдруг расплодилось великое множество. Гуляя с Ромкой (Рая никак не могла привыкнуть называть его Павликом, да хозяйка и не настаивала!), она видела расклеенные на заборах объявления об услугах величайших магов и колдунов нашего времени, ахала, охала, однако тихо подозревала, что ни один из них и в подметки не годится ее хозяйке, которая мало того что ее и Ромку могла успокоить одним взглядом, точно так же действовала на самых разных людей: на паспортистку в домоуправлении и на самого управдома, на участкового милиционера и даже на начальника милиции, и на соседей, и на скандальных таксистов…
Но потом опять что-то изменилось! Хозяйка начала исподволь готовить Раису к тому, что им грозит некая опасность, которую надо будет встретить не в панике и растерянности, а спокойно попытаться ее избежать, вернее, убежать от нее, скрыться. Сама хозяйка, конечно, отнюдь не была спокойна, и тогда Рая, украдкой понаблюдав, как она ночь за ночью нервно вышагивает по своей спальне и часами стоит перед окном, мрачно глядя в темноту, робко заикнулась, не лучше ли им уехать из Москвы…
– С ума сошла, – дернула плечом хозяйка. – Где я еще такие деньжищи заработаю? К тому же только в Москве найдешь столько идиотов с их энергией… – При этих словах хозяйка облизнулась, словно отведала своего любимого блюда, и Рае показалось, что среди ее жемчужных зубок мелькнули два клыка, в точности как у вампиров, какие показывают в страшных фильмах, которые теперь, что ни вечер, валом валили по телевизору… но Люсьена Павловна бросила один взгляд, ласково улыбнулась… и Рая снова почувствовала себя спокойной и счастливой. Главное – беспрекословно слушаться хозяйку и поступать так, как она велит!
Ну что же, она именно так и поступила, когда тот седой стрелял в стоявшую на сцене хозяйку – и оказалась в эрзянской деревне Сырьжакенже. Прижилась у бабки Абрамец, которая показалась сначала такой страхолюдиной, а потом вроде бы и ничего, даже узнала много эрзянских слов, и это были не только названия трав… А в избе у старухи было совсем не так ужасно, как Раисе показалось было, во всяком случае, она не собиралась присматривать себе другое жилье и выгонять оттуда кого-то другого. Ромка в этой новой жизни вообще чувствовал себя как рыба в воде, очень к бабке привязался, ходил за ней хвостом, хотя относился к ней совсем не так, как к Раисе. Она была просто нянька, а бабка – его единственное родное существо. И это Раиса тоже принимала как нечто само собой разумеющееся, без всякой ревности, безмятежно встречая всякое новое утро и безмятежно отходя ко сну… и вдруг бабка Абрамец заводит разговор о том, что жизнь может перемениться! О своей смерти заводит разговор… но как же тогда будет жить Раиса? Что ей делать с Ромкой? Оставаться здесь или уезжать?
– Эй, ты там не спишь ли? – послышался вдруг голос бабки Абрамец, и Раиса сообразила, что так и стоит в сарае около копешки сена, машинально стряхивая с себя прилипшие травинки и совершенно забыв о времени.
Нижний Новгород, прошлое
Ну что ж: делая хорошую мину при плохой игре и отчетливо скрипя зубами, Назаров бросил съемную квартиру в Москве (собственной покуда не выслужил, каково ретиво зубами ни щелкал и хвостом ни бил) и отбыл в Нижний, в материнскую квартиру. Та была не чета, конечно, московской: всего лишь двухкомнатная, на четвертом этаже панельной «брежневки» на улице со скучным и в то же время смешным названием Провиантская. А Женя, войдя в эту квартирку, почему-то обрадовалась: показалось, вернулась домой, в Хабаровск, где они с родителями и дедом жили точно в такой же, правда, трехкомнатной квартирке на Театральной улице. К тому же ей сразу очень понравилась свекровь Галина Ивановна. По наивности решила, что Михаил при Галине Ивановне не будет пилить жену непонятно за что, не станет обвинять в том, что принесла ему несчастье. Однако Михаил пилил, да еще как, и заступничество матери, которой было смертельно жаль невестку, не помогало.
Михаил называл Нижний не иначе как деревенской помойкой, тосковал по московской тусне, по большим деньгам, которые привык тратить в ночных клубах не считая, по ток-шоу в Останкине и буфетам Думы тосковал… А сюда уже дошли слухи о том, что журналист он опальный, Сами-Знаете-Кого прогневил, и хоть именно из Нижнего некогда вылупился первый демократический губернатор и любимец Первого Папы Глеб Чужанин, времена с тех пор переменились до неузнаваемости! Чужанин теперь подвизался в оппозиционерах, охаивая всё, вся и всех, местные журналисты втихаря фрондерствовали, однако в основном под никами в соцсетях, особенно на Городском форуме nn.u – местном оплоте свободы слова. Популярность Фейсбука и даже ВКонтакте до провинции еще не добралась, ну и Михаил, установив безлимитный доступ в интернет, под ником Задолбанный Блокадник начал понемногу зависать на Городском, а потом расписался вовсю, давая волю своей ненависти ко всем подряд, особенно к главному своему гонителю. Он получал уровень за уровнем, его засыпала виртуальными подарками местная либшиза, его поощрял смывшийся в Испанию и оттуда поливавший Россию дерьмом основатель и владелец форума… Михаил заигрался всерьез; вскоре ему предложили должность модератора, а за это уже платили деньги… Теперь он почти не покидал своей комнаты, а между тем во второй комнате лежала его наполовину парализованная после инсульта мать. Михаил выходил из своего «кабинета» только поесть, предоставив матери и жене жить вместе, в одной комнате, и заработанными деньгами почти не делился – откладывал их, мечтая когда-нибудь все же вернуться в Москву и снять там «человеческую квартиру».