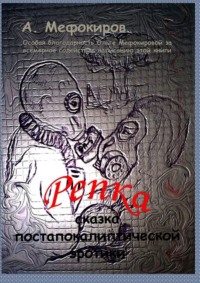полная версия
полная версияСоветник царя Гороха (сборник произведений)
Мало того, после произошедшего с «МАНами» все страшные предупреждения казались совершенной истиной. « Я посылаю вас как овец среди волков…» – сказано в Новом Завете. Тон инструктажа был выдержан в том же духе. Все мы сидели бледные и с наших лиц капельками стекал холодный пот.
Сейчас я буду писать о вере в Бога.
Дело это неблагодарное. Как написано в Коране: «Поистине, те, кто не уверовали,– все равно им, увещевал ты их или не увещевал, – они не веруют. Наложил печать Аллах на сердца их и на слух, а на взорах их – завеса».
Кроме того, слишком уж часто насущный вопрос веры связан в сознании людей с навязчивыми полубезумными миссионерами, которые суют в руки свои красочные агитационные журнальчики и зазывают в молильные дома петь под гитару «Алиллуя, Джесус Крайст!». Хотя я не осуждаю таких людей: во мне рядом с естественным раздражением живет уважение к тому, что они имели мужество поехать в чужую страну рассказывать о своей вере. Что же, дорогие коммивояжеры с красочными каталогами божественных услуг, это ваш путь: стучите в дома и предлагайте Божью Благодать, как представители компаний мобильной связи предлагают акционные сим-карты… Я не буду этого делать, ибо Бог не пришел ко мне с ящиком благодати, и не рассказал мне о ее цене.
Но оказалось, там, в песках Сахары, вера была не вопросом праздного обсуждения, как мы к этому привыкли здесь, в мирной и безопасной обстановке. Это совсем не то же, что сидя в уютной обстановке за чашечкой чая с шоколадным бисквитом сказать: «А поговорим о Боге…». Здесь, в обычной жизни, можно говорить все, что угодно: смеяться, жеманится, строить из себя оригинала, манерно оттопыривая пальцы. Там же действительно все по-другому. Я никому не собираюсь ничего навязывать, просто расскажу то, что было и наверное навсегда останется для нас важным.
Проснувшись от беспокойного сна, среди ночи, я тайком вышел во двор к машине и перво-наперво прочитал заговор. Странно от меня такое слышать? Но это правда.
Мой дед, Царство ему теперь Небесное, еще когда я был маленький, рассказывал, как однажды старослужащий-фронтовик научил его заговору для воина, идущего в бой. Все время для меня это было сказкой, просто любопытным дедушкиным рассказом. Как и все пожилые люди, свой рассказ дед повторял не раз, и даже не два. И я, ради прикола, даже заучивал этот заговор-молитву. Но никогда не относился к этому серьёзно. Потом постепенно это все забылось, вылетело из головы.
Но, поет «Любэ»: «когда минуты роковые настают, и волны черные до неба достают, в недобрый час, в недобрый час. Мы повторяем как все люди на Руси, помилуй Господи нас грешных и спаси…».
Беспокойной ночью перед первой поездкой в Ливию, ночью, когда в наше открытое окно светила громадная серебристая луна, я вдруг вспомнил о дедушкиных рассказах. Ворочаться в душной постели не было сил. Достав из кармана ручку и какой-то обрезок бумаги (кажется рекламный буклетик «Окна-Двери», который нам вручили еще в Киеве), я на обратной стороне стал записывать все, что мог вспомнить. При этом вспоминалось все мучительно, меня просто охватывало временами отчаяние. Нашкрябав что-то более-менее похожее, я три раза обошел наш грузовик, каждый раз читая:
«Благослови Господи мою молитву, что вверяю я Святому Георгию Победоносцу, Змия повергшего. Правый, славный и всехвальный Святой Георгий, прими милостиво ходатайство мое. Благосердие твое будет мне верною порукой, ибо Сам Создатель дал тебе опекать и сохранять воинов на поле брани. Сам ты сохрани и укрой своей святой пеленой воинов, рабов Божьих Алексея, Евгения и Халида. Утешь скорби их и укроти страхи дневные и ночные. Не допусти к телам их раны лихие. Пуля их пусть не возьмет, острое копье не пробъёт, враг не увидит и мимо пройдет. Ярый огонь их тела обойдет, и сами с поля брани живые и здравые придут. Господи помоги! Господи благослови! Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь.».
Может быть, конечно, кто-то из знающих и богомольных скажет, что грех было просить за мусульманина, но я об этом даже не подумал, да и сейчас не сильно в этом раскаиваюсь. Если ехать в одной машине по одной дороге, то мне ли делить: «за этого прошу, а за этого – не прошу». Пусть делят те, кто профессионально торгует Именем Божьим – они с этого живут; а я человек несведущий и поступаю, как умею. И мне, невежде, неизвестно, как пролегают в раю границы. Кроме того, в тех же сурах Корана сказано: «Скажи: «Если будущее жилище у Аллаха для вас исключительно, помимо иных людей, то пожелайте смерти, если вы правдивы! Но никогда они не пожелают ее из-за того, что готовили их руки. Поистине, Аллах знает про неправедных… Поистине те, которые уверовали, и те, которые обратились в иудейство, христиане и сабии, которые веруют в Господа и в последний день, и творили благое – им их награда у Аллаха, нет над ними страха и не будут они печальны».
Халид, до того довольно наплевательски относившийся к своим обязанностям правоверного мусульманина в аспекте пятикратного намаза, теперь, расстелив молильный коврик, подолгу припадал к земле, твердя «А-а-лля Акбар, А-а-лля Акбар». Мы тоже, в частности я, внезапно вспомнили о своем вероисповедании, и украдкой крестились, произнося «Отче наш», и «Да воскреснет Бог…». И откуда только все вспомнилось? Жека поначалу во всему происходящему относился критично, так, будто ему было неудобно и стыдно примкнуть у нашим обращением. Впрочем, мне самому поначалу было как-то «ніяково». Но ни насмешки, ни даже легкой скептической ухмылки, обычной для Жеки при подобных обстоятельствах, не было. Он молча стоял и «внимал», и когда ему казалось, что его никто не видит, поспешно, будто делая что-то постыдное и боясь себя обнаружить, крестился. Нам совсем не мешало, что Халид мусульманин, а мы – православные: почему-то в тот момент мы совсем не чувствовали никакого диссонанса, никаких разногласий, – даже ничего похожего на то странное неприятное чувство, который порой охватывает, когда видишь, как по нашим улицам идут славянские девушки в хиджабах. Ничего этого не было.
Ни я, ни Жека, ни Халид не были религиозными фанатиками, мы просто были людьми, которым очень страшно. Может потому, что все мы не слишком глубоко верующие, мы не чувствовали к друг другу даже тени отчужденности. Нам не жалко было, если бы был прав только один из нас и только одного из нас услышал бы Всевышний: все равно мы молились за всех нас вместе. Нас не смущало может быть и кощунственное, странное звучание, когда в коротких утренних сумерках мы выходили за забор в пустыню и после протяжного пения Халида и его многократного «А-а-лля Акбар» следовало, словно эпилог, наше «Отче наш, иже еси на небесах…».
И на какое-то мгновение над серой пеленой бесконечной пустыни воцарялась звенящая тишина, и в это мгновение далекий-далекий горизонт прорезал лучик восходящего солнца. Мы вставали с песка, отряхивались, и нам как-то становилось легче и светлее. И мы шли к нашей обшарпанной машине, чтобы отправится в ад и вернуться из него.
Правда, как позже оказалось, мое представление об «аде» за КПП Уазан было несколько утрированным. Когда мы въезжали через границу, с ливийской стороны пограничники выглядели довольно своеобразно. Это были по большей части суровые бородатые мужики, одетые в разномастную одежду а-ля милитари, в черных очках на половину лица. В руках у них были вездесущие автоматы Калашникова, а за их спинами стояло три или четыре грязных, пыльных «Тойоты» с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. По мере нашего приближения пулеметы с сидящими в их люльках бородачами медленно поворачивались в нашу сторону, и мне казалось, что их дула направлены прямо на меня. Словами Петросяна можно сказать: «Незабываемые очучения!!!».
Один из «пограничников» вышел чуть вперед и требовательно поднял руку ладонью вперед. Я выключил передачу и плавно, накатом подкатил к нему. От направленных на нас пулеметов по спине бегали противные мурашки. «Пограничник» повернул ладонь левой руки к себе и начал двигать пальцем так, будто перелистывает расположенную на ладони книгу. При этом он не спускал с нас глаз, которые пронзительно смотрели на нас сквозь желтовато-коричневые стекла солнцезащитных очков. Мы подали документы, которые нам приготовили. Через мгновение он издал какой-то короткий гортанный звук, отдал обратно документы и махнул рукой. После его окрика пулеметы, установленные на «Тойотах» все с той же грозной неторопливостью отвернули в разные стороны, и от этого даже дышать стало легче.
На передке нашей машины, а также на дверях была наклеена голубая эмблема какой-то европейской благотворительно-правозащитной организации, с которой сотрудничала пославшая нас сюда «Церковь всех святых…». Мы с Жекой были европейцами, а не местными и не темнокожими… Все это вместе несколько облегчало наше положение. Дело в том, что ни повстанцы, ни каддафисты особо не желали портить свой внешнеполитический реноме на тот момент, и поэтому к людям с европейскими документами и эмблемой европейской международной организации на кабине они относились довольно сносно, можно даже сказать, с почтением. Правда, это вовсе не исключало того, что в любой момент какой-либо из бесчисленных «шоссейных патрулей» мог превратить нас в консервированные котлетки. Тут уж как везение, и насколько будут крепким нервы у наших визави.
Такие мобильные «блок-посты», как тот, что был у границы, встречались буквально через каждые несколько километров: они то появлялись на своих неизменных пыльных «Тойотах», то вновь куда-то исчезали. Некоторые из шальных махновцев пустыни без зазрения совести (да и без особого сопротивления с нашей стороны) заимствовали у нас ящики с чем-нибудь вкусненьким (например, с халяльной тушенкой или консервированными ананасами), так, что к нашей цели мы в первой же поездке недовезли ящиков десять провианта. Но в целом ситуация была куда более терпимой, чем можно было представить.
Попотеть от реального страха за все наши поездки по ливийской земле нам пришлось четыре раза. То есть, фактически, в каждой нашей поездке, потому как за все время нашего чуть более чем двухнедельного пребывания на чужбине мы пересекли КПП Уазан туда и обратно ровно десять раз: пять раз туда, и, еще раз возблагодарим Бога, пять раз назад.
Что же, остановлюсь поподробнее на каждом случае.
Первый случай с нами произошел во второй поездке. Километров десять за Налутом нас остановили местные «комманданте» от Переходного Совета. Попросили провезти двух своих бойцов за Гарьян, где их должны были встретить. Ну, то есть как, попросили… мы конечно могли отказаться, но очень не факт, что этот отказ не закончился бы для нас бездыханным лежанием за ближайшим барханом. Везти двух вооруженных до зубов мятежников через мобильные кордоны каддафистов? Удовольствие в высшей степени сомнительное: если их найдут, то никто уже не посмотрит на наши эмблемы и документы, и нас просто разделают на месте по законам военного времени.
Делать нечего, ребятушки-бородатушки борзенько выгрузили часть ящиков, запихнули своих товарищей в будку и заложили все обратно. Мы помолились и поматерились про себя, поехали. Дорога пустынная, гладкий, как зеркало асфальт: я жму на всю гашетку, за нами стелется пыльное курево. Даже успокоились немного. «Вот, было бы хорошо, если бы никого нам до самого Гарьяна не повстречалось!» – думал я. Только успел я так подумать: смотрю, из-за пригорка выруливает две «Тойоты», и на них, конечно – пара арабов и человек пять негров в зеленых, как знамя ислама, косынках. Здравствуйте, пожалуйста! Привет от полковника Каддафи…
Остановили они нас, придирчиво посмотрели документы, приказали открывать машину для досмотра. Мы стали зеленее, чем их косынки: сердце буквально выскакивает из груди. Даже когда в юности был безумно влюблен и шел на первое свидание, мое сердце было куда спокойнее, чем в тот драматический момент. Задние двери будки окрылись с громким скрипом, который показался мне оглушительным. Крепкий негр влез на подножку, начал внимательно все разглядывать. Потом указал на два ящика сверху, и два других чернокожих в мгновение ока их достали. Он еще секунд десять всматривался, принюхивался, но потом спрыгнул и показал, что можно закрывать. Ящики они забрали себе. Вполне нормальная ситуация. Когда я вновь влез в кабину и поставил ноги на педали, то мне показалось, что педалей не было. Ноги просто одеревенели.
Машина дернулась и заглохла. Я поворачиваю ключ – загорается лампочка – но стартер не желает крутить. Просто ни в какую. Оп-па, приехали! Видя эту картину, один из арабов начал суетится возле своей «Тойоты». Достали трос и подзывают меня к себе из кабины, улыбаются так, предлагая «сдернуть». Спасибо, конечно, ребята вы неплохие, но блин… как же я вас боюсь, учитывая то, что у меня в машине. Чувствую себя, словно деревянная кукла. Кое-как подцепили трос, поставил «Фиат» на нейтраль… «Тойота», шлифуя асфальт всеми четырьмя колесами, страгивает нас с места… Чуть разогнались, передача – толчок, и движок, зачихав, начинает дышать. Вылез из кабины, отсоединил трос, пролепетал местное: «Шэкэра, соллэ алля». Меня принялись хлопать по плечу, еще бы чуток, и бросились бы обниматься. А в это время в будке нашего «Фиата» нервничали двое мятежников, и более всего я боялся, что они воспримут крики каддафистов как то, что мы их выдали, и отколят какой-нибудь фортель в стиле «мучеников за веру». Вариантов у сидящих среди ящиков было масса: от безумной атаки до самоубийства с помощью гранат. А, откровенно говоря, меньше всего мне хотелось становится мучеником за их революцию.
Но, мы выбрались оттуда! Йес! Тихим сапом выехали наконец и сгрузили наших смуглокожих «тарасов бульб» возле Гарьяна. Тогда на этом наши приключения не закончились, но об этом чуть позже.
В четвертой поездке ситуация была целиком противоположная. Теперь нам пришлось тем же способом провозить чернокожего каддафиста через мигрирующие посты Переходного Совета. Каддафист был ранен в ногу, и сквозь запыленную повязку проступала кровь.
Правда, здесь ситуация была поспокойнее, так как в кузов ни при одной проверке никто не лазил: просто проверили документы, а один из революционеров уговаривал нас (наверное, минут тридцать, не меньше) купить у него автомат «всего за 200 долларов», и предлагал целых четыре запасных рожка к нему. Двести долларов за китайский юзаный «Калаш» – может это и не слишком много, не знаю. Просто в нашем случае, – вопреки бессмертным словам Абдуллы из «Белого солнца пустыни»: «Кинжал хорош для того, у кого он есть»,– обладание оружием сослужило бы нам плохую службу. С автоматом в кабине мы выглядели бы в высшей степени подозрительно, а против отряда, вооруженного несколькими ДШК – это «пукалка», которой мы бы даже не успели воспользоваться.
Третий случай произошел с нами, прошу прощение за каламбур, в третьей поездке. Вся поездка происходила в высшей степени спокойно, мы отвезли груз в Аль-Зинтан, быстро разгрузились около местного футбольного стадиона с довольно ухоженным газоном (не часто, кстати, увидишь такое в городках посреди Сахары), и, любуясь бесчисленными руинами бывшей крепости, поехали назад. Но не успели мы толком выехать за пределы Аль-Зинтана, как нас остановил патруль революционеров. Ну, ничего, дело то обычное. Мы вышли из кабины, Жека что-то сказал Халиду. Смотрю, как то один из революционеров насторожился, а потом что-то принялся горячо доказывать своим товарищам, они все подняли гвалт, словно стая разъяренных гусей. Ничего не понимая, поворачиваюсь к Халиду и вижу, что он весь подбледнел и как-то сник. Глянув на меня затравленным взглядом, Халид произнес: «They say, that you are Russian mercenaries of Kaddafi. It seems for them, that you speak with Russian accent! They propose to kill us immediately…» Говорил он это сначала возбужденно, а затем все мрачнее и мрачнее, казалось, что у него просто батарейки садятся.
В моем мозге сразу возникло нехорошее русское слово, созвучное названию полярной лисы. Сам не ожидая от себя такого, я заорал:
– Scheiße! Ich und mein Freund sind aus Deutschland! Aus Deutschland, verstehen Sie mich? Wenn Sie jetzt schießen, haben Sie viele ernste Problemen mit Bundesregierung!
Вышло у меня все спонтанно, но довольно внушительно. Мне прямо самому понравилось. Произношение и голос были точь в точь как у Тила Линдемана, солиста «Rammstein». Повезло, и похоже «Rammstein» слышали даже в Ливии. Спасибо вам, ребята-рокеры из Германии – вы сделали большое дело!
Галдящие революционеры несколько растерялись. Халид, как он мне потом сам в этом признался, на арабском подтвердил, что мы никакие не русские, а самые настоящие немцы… Революционеры недоверчиво отшатнулись, а потом протянули назад документы. Еще более нам повезло, что никому из них не пришло в голову посмотреть наши паспорта или водительские права. Вот тогда всплыла бы наша «файна юкрайна» и как минимум, пришлось бы сидеть в ливийской тюрьме (и это по очень оптимистическим расчетам). Увы, особых надежд на нашу родную дипломатию, не подкрепленную, в отличие от той же американской, барражирующими авианосцами, не было.
Надо сказать, что нас, русских и украинцев, в Ливии недолюбливают. Точнее, не слишком уважают, особенно после революции. Революционеры-повстанцы не любят за то, что мы вроде бы оказывали поддержку режиму Каддафи; каддафисты недолюбливают за то, что мы не оказывали им должную поддержку. Но на самом деле ситуация объясняется довольно просто.
Исламская ментальность такова, что уважения заслуживает лишь сильный: по крайней мере такой, что не спускает обид и не смиряется с выливаемыми на него ушатами грязи. В отличие от нашей культуры, выросшей из христианского смирения и изрядно «облагороженной» западными ценностями, в исламском мире не принято спускать обид. И при этом, если у нас придерживаются принципа «хоть горшком назови, только в печку не ставь» ( в другом, не менее популярном варианте фигурирует представитель нетрадиционной сексуальной ориентации и специфическая поза), то для мусульманина это абсолютно неприемлемо. Тот, кто смиряется с собственным унижением – хуже собаки.
Есть у нас, у славян еще одна дурная привычка, которая кощунственна для мусульман: это привычка за границей восхищаться всем увиденным и хаять собственную Родину. Для мусульманина его дом, каким бы он ни был – святыня; лить грязь на свою Родину, на свой «большой дом» – это святотатство. Тот, кто так делает, презираем… Наших же хлебом не корми, дай позлословить и обгадить «рідну неньку».
Четвертый случай связан с тем, как мы попали под минометный обстрел. В той же самой, злополучной, второй поездке, мы, выгрузив наших тайных пассажиров возле Гарьяна, решили слегка отдохнуть от пережитого стресса на обратном пути. Мы остановили машину на обочине возле развилки Гарьянской дороги (а это широкое такое шоссе на четыре полосы), где со стороны Гарьяна левый поворот на Мизду, а по правую сторону какой-то местный супермаркет вроде нашего «Аверса» с местами для парковки. Супермаркет, как нам показалось, даже работал. Мы спокойно оставили возле него наш грузовичок и пошли к двери. Подойдя, мы к своему неудовольствию убедились, что он закрыт. Но стоило нам повернуться назад и что тут началось! Словами не описать… Но все же попробую.
Сначала раздалось два характерных хлопка, такое далекое-далекое «пух-пух», а затем… как рванет чуть позади стоянки… мы аж присели. Да что там присели, просто упали на задницы там, где стояли. Снова «пух-пух» – и снова короткий рёв, потом «большой бумсик»: тучи пыли, дым, пламя. И два спутника Марса в придачу: Фобос и Деймос, Страх и Ужас. В общем, не так уж ошибались римляне, называя своих богов и размещая их по небосклону.
Сказать, что было страшно – не скажу. Страшно было, когда мы провозили повстанцев через кордоны каддафистов и наоборот. Здесь же было нечто не страшное, а шокирующее. Другого слова я не подберу. Именно шокирующее, только не в том смысле, в котором сейчас употребляется это слово в прессе и Интернете, вроде: «Шокирующие подробности! Голая Наташа Королева оказалась одетой!». Нет, шокирующее именно в том значении, что вызывает шок, как особое состояние человеческой психики.
В ушах стоял такой звон и грохот, что казалось, будто взрываются не мины в паре десятков метров от нас, а сам мир изнутри. Уши заслоняло, и меня чуть не вырвало от этого тяжелого ощущения. Казалось, что через уши с каждым новым взрывом в мозг проталкивается порция тяжелой ртути, а голова готова разорваться, словно переспелый арбуз. Мы забились за угол здания супермаркета, и лежали ничком, пока обстрел не затих. Примерно еще минут пятнадцать после того, как обстрел прекратился, мы просто лежали и дрожали, словно испуганные щенки. Потом медленно поднялись и пошли к машине, готовясь увидеть пылающий металлолом. Но, как не парадоксально, наш «Фиат» был практически абсолютно цел, – если не считать небольшой трещины на лобовом стекле и пары отверстий от осколков на задних дверях будки. Мы завелись и кое-как поехали… немножко рывками и рыская, потому как ноги, так и руки дрожали, словно козий хвостик. Успокоится, более или менее, удалось только уже подъезжая к границе.
Вторая наша поездка была такой, что после нее загнать нас в Ливию мог только один фактор: если мы нарушим контракт, то нам бы аннулировали наши билеты домой. Вот так-то. Мягко и улыбчиво наши наниматели поставили нас в такое положение, что нам некуда было от них деваться. Домой же хотелось жутко.
Дом в подобных условиях вообще романтизируется. О нем вспоминаешь каждую секунду, как о недоступном рае на земле. Полностью согласен с Евгением Гришковцом, который в своей репризе «Как я съел собаку» говорил: «Жили с постоянно звучащим в голове «хочу домой», «хочу домой». Вот как поезд стучит колесами. «Хочу домой, хочу домой, хочу домой…».
Помимо поездок в Ливию нашему «фиату» все так же приходилось работать и по вилайету Татавин. Распорядок был такой: поезка через границу – два дня работы по месту – снова поездка через границу. Выходных нам никто не давал. То есть, их можно было взять, но по контракту все равно нужно было отработать определенное количество дней. Хочешь – хоть неделями отдыхай за свои деньги – никто не запрещает. Мало кто из наших коллег брал выходные – всем хотелось побыстрее уехать оттуда. Да и вообще, что за радость в том выходном – сидеть на базе и бездельничать? А бездельничание в нашем случае – это гораздо хуже, чем работа.
Когда занят работой, катаешь по пыльным дорогам – намного легче. Но стоит остаться в «томной неге безделия», и начинают лезть разные дурные мысли, сводящие с ума. И кажется, что из внутренней «тюрьмы собственного разума» вырваться невозможно. То нападают приступы непонятной паники, то наоборот, как-то все становится безразличным, и чувствуешь, что теряешь всякую осторожность.
Дурные мысли прилипают к праздному человеку, словно пыль к колесам машины. Навязчивыми жирными мухами они кружат над вами, не давая отдохнуть. Каждая мелочь, каждая незначительная деталь раздувается в размерах до неузнаваемости, искажая представления о действительности.
О губительности праздности и безделия в тяжелой обстановке я знаю с тех пор, как в юношестве пережил «любви ужасное крушенье». Такое переживают миллионы людей разного возраста, а уж молодые да влюбленные – им это вообще свойственно. И не будем лицемерить – это очень больно и тяжело.
Знаете что… «А не спеть ли нам песню, о любви?»
И да простит меня всякий читающий эти кропания, но я вновь уйду от описания своих ливийских приключений, чтобы теперь поговорить о любви. Да –да, именно о ней. Почему? Не знаю, просто там, в пустыне около Дахибы нередко думалось об этом, точно так же, как о Боге, о жизни и смерти, о вере и от многих других простых и одновременно бесконечно сложных вещах. Когда возвращаешься после рейса на базу, смываешь с себя горьковато-соленой водой пыль и после душа выходишь в ночную пустыню с небесами из черного хрусталя; когда напряжение разжимает постепенно свои острые когти, именно тогда всплывают откуда-то из глубин бесконечности подобные мысли.
Что есть любовь? Каковы ее обличия? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но не имею любви – то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, но не имею любви – то я ничто…Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». – так говорил апостол Павел. «Вроде того быть или не быть, я хотел бы знать как – вот в чем вопрос, как бы мне бы тебя не убить, не любить, как – вот где ответ, вот как битва покажет где боль, на рану как соль, сука-любовь…» – пели Михей и Джуманджи.
В тысячах произведений искусства, от подлинных откровений до песен-однодневок воспевают страдания неразделенной любви, жгучую боль тупой ревности, колючий холод одиночества, особо ощущаемый на пепелище от горевшего костра.
Когда-то в одном из своих недописанных и неотправленных писем я написал: «Мне кажется, что из всего, что знает человек, более всего трепетная любовь напоминает ядерный реактор. Подобно ядерной реакции, сила любви происходит из внутренней сущности вещей, из законов, стоящих в самой основе мироздания. И мы так же мало знаем о природе полей слабого и сильного взаимодействия, игра которых разогревает ТВЭЛы наших реакторов, как мало мы знаем о любви. Мы просто знаем, что они есть, и немного знакомы с их свойствами.