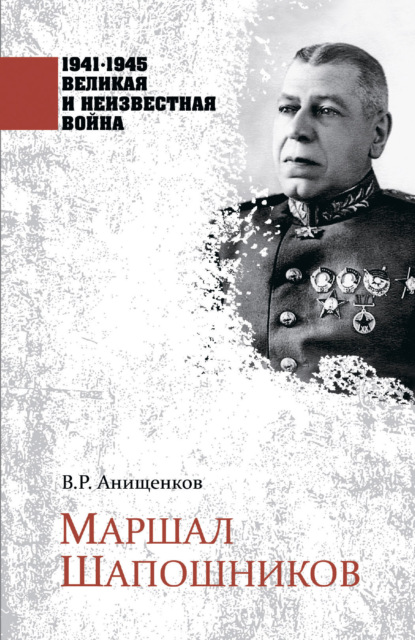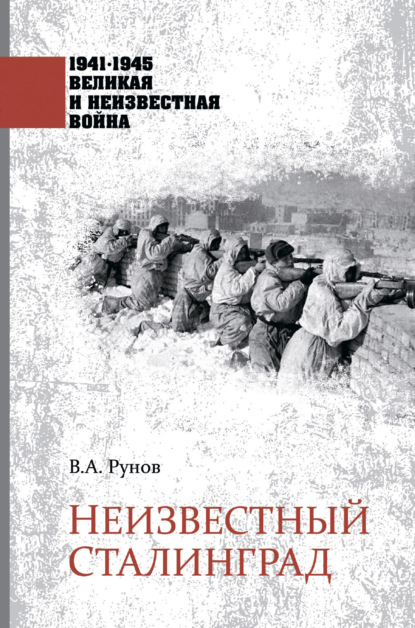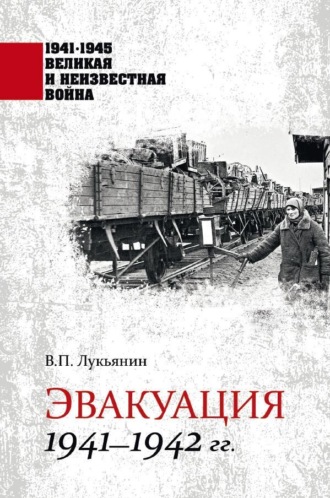
Полная версия
Эвакуация. 1941—1942 гг.
Конечно, не техникой единой определяется боеспособность вооруженных сил: не меньшее (даже и большее) значение имеют выучка солдат, опыт и мастерство командиров, уровень организации войск, моральный дух армии. По этим показателям армия вторжения, безусловно, превосходила силы защитников советской границы. Стремясь представить коллизию более наглядно, М.И. Мельтюхов цитирует своего коллегу А.В. Шубина: дескать, «с Запада на Восток с большой скоростью двигалось плотное тело. С Востока не торопясь выдвигалась более массивная, но более рыхлая глыба, масса которой нарастала, но недостаточно быстрыми темпами».
Что значит «более рыхлая»? Об этом много писали разные авторы: прежде всего – плохая оперативная связь или полное ее отсутствие между воинскими соединениями, частями, даже подразделениями; отсутствие навыка, а в данном случае и технической возможности действовать согласованно: организовать совместную оборону, опираться на взаимную поддержку. Командиры не знали общей обстановки, не располагали сведениями о соседях, не имели возможности координировать боевые действия даже на малых участках фронта. Каждому пришлось воевать, по сути, в одиночку: либо, выражаясь упрощенно, до последнего патрона оборонять свой окоп, чтобы потом и умереть в нем, либо, видя безнадежность ситуации, отступить – без приказа и с непредсказуемыми последствиями. Было и то, и другое; был и третий вариант – плен. Количество красноармейцев, попавших в плен в первые дни войны, ошеломляет. Точной цифры нет, версии предлагаются разные, но во всех случаях цифры семизначные, так что можно предположить, что в плену оказалась половина, а то и больше половины тех, кто был поставлен защищать от вражеского нашествия нашу западную границу. В общем, как и предвидели гитлеровские стратеги, «колосс на глиняных ногах» начал разваливаться уже при первом ударе.
И все-таки – была ли настолько беспомощна Красная армия на рубеже столкновения с вермахтом, как убеждают нас нынешние военные историки? Бессмысленно, по-моему, искать новые цифры и все еще неведомые науке факты из рассекреченных источников: главное уже давно обнародовано и обсуждено; не могу даже представить себе, какие еще невероятные подробности могли бы сколь-нибудь заметно повлиять на общую картину тех событий. Поэтому приведу лишь свидетельство очевидца, в котором тоже нет ничего неожиданного, однако, по-моему, достаточно хорошо просматривается ключ к разгадке.
Василий Ефимович Субботин, писатель-фронтовик, участвовавший в штурме Рейхстага, автор очень знаменитой в свое время книги «Как кончаются войны» (1965), встретил войну двадцатилетним: он служил башенным стрелком среднего танка, и его подразделение в момент начала войны стояло на самой границе.
«В тот день, – вспоминал ветеран десятилетия спустя, – мы стояли тогда на окраине, в казармах города Броды, в которых до нас размещались польские уланы, – утром, когда еще не встало солнце, нас поднял с кроватей возглас дежурного: “Тревога!” Накручивая портянки, еще не проснувшись окончательно, мы никак не могли сообразить, почему нас разбудили так рано, да еще к тому же в воскресенье. Никаких тревог в воскресенье вроде бы не полагалось.
Но когда я выскочил из казармы… я услышал пулеметную очередь и, подняв голову, увидел низко прошедший над самой крышей самолет…
Танки у нас стояли на территории городка, на стояках, и были законсервированы – гусеницы были уложены на броню, а пулеметы вынуты из шаровых установок, перенесены в казармы и тоже были густо покрыты смазкой.
Потом началось отступление»[13].
Можно понять жителей глубокого тыла, которые в погожий воскресный летний денек отправились кто в парк, кто в лес, кто на пляж, а возвратились – и мир уже не тот, жизнь непоправимо раскололась на «до» и «после». Но тут ведь, в приграничных Бродах, – линия соприкосновения с противником, передний край, а у них танки на стояках, гусеницы сняты, пулеметы «густо покрыты смазкой». Разгильдяйство? Можно сказать и так, но очевиднее и важнее другое: войну ждали в принципе, но не в этот же день!
В таком состоянии пребывала тогда вся страна, и что бы изменилось в танковой роте, где служил красноармеец Субботин, если б и какая-то другая часть, направленная к границе из глубокого тыла, не двигалась еще в эшелоне к месту назначения, а уже размещалась рядом? И связь между штабами работала бы исправно? Даже и танки стояли бы на исходной позиции в полной боевой готовности? Да ничего б не изменилось: они просто не имели бы времени на организацию взаимодействия для совместного отпора.
Можно хвалить или критиковать советскую военную технику; можно как угодно оценивать уровень подготовки и моральный дух Красной армии и ее командиров, – в любом варианте первой из причин нашей катастрофы на западной границе следует признать внезапность нападения: никто не сомневался, что оно случится, и, тем не менее, оно произошло, когда его не ждали! Это звучит парадоксально, даже неправдоподобно, но это факт. И с первого дня войны этот факт в общем-то для рядовых граждан страны в то время очевидный, использовался для объяснения разгрома Красной армии в первые часы войны: сокрушительный удар противника застал ее врасплох, она просто не успела вступить в бой.
В радиообращении В.М. Молотова, из которого страна узнала о начале войны, нападение Германии оценено как «беспримерное в истории цивилизованных народов вероломство». В тот же день к «пастве» обратился митрополит Сергий, патриарший местоблюститель, – и он тоже говорил о внезапном нападении «фашиствующих разбойников»[14]. Тот же мотив прозвучал и в радиообращении И.В. Сталина к «братьям и сестрам» двенадцать дней спустя: «Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину…»[15] Такая трактовка начала войны, воспроизведенная на столь авторитетном уровне, стала канонической, усомниться в ней на протяжении десятилетий не решался у нас никто.
Между тем один ее аспект с самого начала должен был вызвать вопрос: почему нападение – «вероломное»? Вероломство (проверьте по любому словарю) – это не просто неожиданность, но нарушение обязательства, клятвы. Какое такое обязательство нарушили гитлеровцы? Конечно, у советских граждан лета 1941 года подобный вопрос не возникал: они-то помнили, что менее чем за два года до рокового дня, 23 августа 1939 года, в Кремле был подписан пакт Молотова – Риббентропа – договор о ненападении между СССР и Германией. Вот то действительно было «вероломство»! Даже Черчилль был поражен неестественностью этого альянса: «Антагонизм между двумя империями и системами был смертельным». А уж каким потрясением стал этот дипломатический кульбит для советских граждан: дружба – подумать только – с фашистами, которых перед тем наша пропаганда подавала не иначе как злейших врагов человечества?! Тем не менее ни Черчилль, ни советские коммунисты не усмотрели в этом дипломатическом акте потрясения неких основ: это была достаточно понятная дипломатическая игра с учетом расстановки фигур в геополитическом пространстве предвоенной (такой она уже тогда ощущалась) Европы. То есть, я имею в виду, всерьез эту противоестественную «дружбу» никто не воспринимал, но, когда нападение совершилось, экспрессивное слово «вероломное» оказалось к месту.
Сталин в радиообращении 3 июля 1941 года даже не пытался оправдываться по этому поводу:
«Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии – если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом»[16].
Звучит вполне убедительно; однако дальше в рассуждении вождя был момент, который сегодня вызывает вопросы: «Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно вероломно нарушила пакт о ненападении… не считаясь с тем, что она будет признана во всем мире стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства». Между строк читается, что нарушение пакта было предопределено, вопрос лишь в том, кто возьмет на себя инициативу, предосудительную с точки зрения мирового общественного мнения. «Неожиданно вероломно» это сделали немцы; но разве могло быть ожидаемо вероломно? А ведь Сталина можно было даже и так понять, что инициативу могла взять на себя и «наша миролюбивая страна».
Коллизия загадочная, и нынешние историки трактуют ее по-разному, причем всегда находят в ней повод для обвинения советского лидера. Наиболее радикальные – вслед за Виктором Суворовым-Резуном – считают, что это Сталину нужна была мировая революция и он собирался напасть, но Гитлер, разгадав коварство своего «двойника»-соперника, нанес превентивный удар. Более умеренные – в их числе цитированный выше М.И. Мельтюхов – намерение напасть приписывают обоим диктаторам, только ни тот, ни другой не хотели «брать на себя инициативу», ожидали оплошного шага от противника.
Самая же лояльная по отношению к Сталину версия заключается в том, что, дескать, вождь трезво оценивал возможности СССР противостоять военной машине Гитлера, самыми жестокими мерами понуждал страну наращивать военный потенциал и считал, что, возможно, к лету 1942 года желанный уровень военной мощи будет достигнут. Поэтому он нападать не собирался и даже стремился во что бы то ни стало отодвинуть начало войны, для того и «сделку с дьяволом» (тот самый пакт) решился заключить. Но при этом настолько уверовал в то, что держит ситуацию в своих руках, что ни о каких фактах, вызывающих сомнение в том, что все идет по его плану, и слышать не хотел. Не верил своим генералам, не верил разведке.
Третью версию подтвердил и В.М. Молотов – самый компетентный свидетель тех событий (но, конечно, не беспристрастный, ибо и сам их направлял), – отвечая на расспросы писателя Ф.И. Чуева тридцать лет спустя: «А с моей точки зрения, другого начала войны и быть не могло. Оттягивали, а в конце концов и прозевали, получилось неожиданно»[17]. Но, в отличие от историков, обвинявших Сталина в патологической подозрительности, – мол, разведка же ему не только о самом факте готовящегося нападения доносила, но и точные сроки сообщала, а он только отмахивался, – верный соратник Сталина и тут встал на сторону вождя: «Я считаю, что на разведчиков положиться нельзя. Надо их слушать, но надо и проверять. Разведчики могут толкнуть на такую опасную позицию, что потом не разберешься. Провокаторов там и тут не счесть <…> Когда я был Предсовнаркома, у меня полдня ежедневно уходило на чтение донесений разведки. Чего там только не было, какие только сроки не назывались! И если бы мы поддались, война могла начаться гораздо раньше»[18].
Резонно! Однако после такого разъяснения проблема не снимается, а даже усугубляется: так тщательно отслеживали события, так взвешенно оценивали информацию, а все ж «прозевали» – почему?!
Кажется, все версии разгадки этой тайны сформулированы и обсуждены, но ни одна не убеждает: все они какие-то зыбкие, основанные на предположениях и допущениях, с которыми можно согласиться, но можно и не согласиться.
Но почему никто не задумывается о том, что внезапность нападения была ключевым моментом стратегии блицкрига, «молниеносной войны», которая, в свою очередь, составляла основу плана «Барбаросса»? Это ж лежит на поверхности!
Возможно, дело в том, что самый этот план в нашей стране всегда и безоговорочно считался авантюрным, а если так – что тут обсуждать? Есть легенда, будто копию этого документа, настолько секретного, что даже не все из ближайшего окружения фюрера были с ним ознакомлены, сумела раздобыть группа Яна Черняка (того самого, что послужил Юлиану Семенову одним из прототипов Исаева-Штирлица), и ее передали Сталину. Очевидно, гитлеровский план показался вождю настолько безумным, что он не принял его всерьез – посчитал, что это очередная провокация.
И даже в энциклопедии «Великая Отечественная война», подытожившей изыскания советских историков о войне к 40‑летию Победы, о пресловутом плане говорится пренебрежительно: «В плане “Б.” наглядно проявился характерный для политич. и воен. руководства фаш. Германии крайний авантюризм, что было подтверждено дальнейшим ходом истории»[19].
И постсоветская историография не проявила особого интереса к этому провалившемуся прожекту зарвавшихся вояк.
Между тем план «Барбаросса», в разработке которого участвовали самые опытные генералы вермахта (Гальдер, Кейтель, Браухич, Паулюс и др.), не был ни безумным, ни авантюрным. Он был, как сказали бы сегодня, креативным, оттого неожиданным, нарушающим канонические представления о правилах ведения войны. И в то же время вызывающе дерзким. Конечно, предполагал долю риска: при проведении беспрецедентной по масштабу операции что-то могло не состыковаться (и отдельные такие случаи, как говорится, имели место). Но кто ж выигрывал сражения и войны, не отваживаясь на риск? Однако безответственной надежды на удачу – русские сказали бы: на авось – в их разработке точно не было: только строгий расчет, только наверняка.
Создатели плана опирались на успешный (если отвлечься от морального аспекта) опыт покорения Европы менее чем за два года (если традиционно вести отсчет от 1 сентября 1939‑го). При этом Польша сопротивлялась 27 дней, Франция – почти полтора месяца, Бельгия – чуть больше половины месяца, а для Дании немцам хватило шести часов. И так далее[20].
Гитлеровские стратеги продуманно готовили армию вторжения, добиваясь ее полного и безоговорочного превосходства по всем параметрам над армией противника. А чтобы ее мощь сработала наверняка и при минимальных потерях, они положили в основу плана «Барбаросса» технологию блицкрига, теоретически обоснованную еще в начале ХХ века прусским фельдмаршалом фон Шлиффеном, но впервые – и с большим успехом! – примененную на практике ими самими при нападении на Польшу в 1939‑м и на Францию в 1940 году.
Причем нет оснований утверждать, что пойти на «авантюру» блицкрига в войне против СССР гитлеровских стратегов побудила пьянящая эйфория только что одержанных побед: это было основательно продуманное решение с учетом особенностей той обстановки, что сложилась вокруг Германии (в первую очередь, конечно, благодаря ее действиям) на втором году Второй мировой войны.
Почему, спросит читатель, я так настойчиво твержу, что к плану «Барбаросса» и блицкригу как способу его осуществления нужно относиться не как к авантюре, а как к неординарному стратегическому решению, достойному высокой репутации немецкой полководческой школы? Сразу подчеркну: разумеется, не для того, чтобы хоть в какой-то мере обелить преступный замысел и его творцов. Я делаю это по иным причинам. Одну из них считаю «попутной» и второстепенной, но все же назову: не много чести одолеть зазнавшегося, зарвавшегося, неадекватного в своем самодовольстве врага, и совсем другое дело – победить умного, расчетливого, изощренного в своем губительном искусстве противника.
И все же главное – в другом: понимание того обстоятельства, что план «Барбаросса» – не авантюра, а тщательно, с учетом всех сложившихся к тому времени в Европе и мире условий, во всеоружии самой продвинутой военной науки разработанная инструкция вермахту и всем завязанным на него службам милитаризованного государства по проведению скоротечной военной кампании против СССР, позволяет, на мой взгляд, иначе, нежели это принято с советских времен, воспринимать и всю историю «дружбы»-вражды Советского Союза с Германией в межвоенный период, и мотивы нападения гитлеровского рейха на нашу страну, и сам ход боевых действий в первые месяцы Великой Отечественной войны. Эти, скажем так, нюансы представляются мне очень важными для понимания той роли, которую сыграла в изменении хода событий от сокрушительного поражения к решительной и безоговорочной победе «операция, равная величайшим битвам» – эвакуация.
Лозунги и прагматика
Сообщение Молотова о нападении гитлеровской Германии на СССР вызвало у советских людей целую гамму сильных чувств, но не было среди этих чувств удивления: репутация разбойного режима была к тому времени всем хорошо известна. Уже на пятый день войны на перроне Белорусского вокзала прозвучала знаменитая песня, где были слова: «Дадим отпор душителям / Всех пламенных идей, / Насильникам, грабителям, / Мучителям людей», – и эти слова можно трактовать как объяснение ситуации, понятное всем.
По сути, такое же объяснение содержалось и в радиообращении Сталина 3 июля 1941 года:
«Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов»[21].
Когда читаешь сейчас этот текст на бумаге, бросаются в глаза полемические вольности, допущенные вождем в духоподъемном обращении к народу. Ну, не было у Гитлера – даже в форме «а что, если бы» – варианта с «восстановлением царизма». И помещиков он не собирался возвращать: как это ни парадоксально, его больше устраивали колхозы. Также не припомню, чтобы он где-то высказывался и по поводу этнического многообразия населения СССР: для него все мы были «русские» – дикие азиаты, претерпевшие некие исторические трансформации, которые он в своем «арийском» высокомерии оценивал очень невысоко[22]. Добавлю, что ни в советско-германских документах, предшествовавших катастрофе, ни в радиообращении фюрера к немецкому народу и своим единомышленникам национал-социалистам в день нападения на СССР не было и намека на те цели, которые советский вождь приписывал агрессору, выступая по радио 3 июля 1941 года.
Но Сталина можно понять: шел всего двенадцатый день войны, а уже далеко «за шеломянем» остались республики советской тогда Прибалтики, 28 июня был сдан Минск, вот-вот волна нашествия должна была докатиться до Смоленска – и никто в мире в тот момент не мог сказать хотя бы предположительно, какая сила и на каком рубеже остановит эту коричневую лаву. Тут логические аргументы отходили на задний план: чтобы заручиться доверием слушателей, Сталину пришлось обращаться не столько к их разуму, сколько к эмоциям и, прежде всего, к стереотипам мироощущения, сформированным отчасти советской пропагандой послереволюционных десятилетий, но имеющим более глубокие исторические корни. Тем объясняется и его апелляция к национальному самосознанию (ведь не объединил он народы одним обобщающим понятием, а уважительно каждый назвал по отдельности!). А четыре месяца спустя – на легендарном параде 7 ноября – он в силу той же логики поименно вспомнил самых известных защитников отечества прошлых столетий: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»
Пожалуй, только насчет «захвата наших земель, политых нашим потом, захвата нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом» Сталин ничего не придумал. Он, конечно, не мог читать дневник Гальдера (он будет издан десятилетия спустя), где на этот счет есть недвусмысленные свидетельства[23], однако маниакальную идею завоевания «Lebensraum» («жизненного пространства») для германцев – «высшей расы» – Гитлер отнюдь не держал в секрете. Она была «обоснована» им еще в «Mein Kampf» (книга впервые издана в 1925 году), вокруг нее сплачивались толпы маргиналов, превратившиеся в результате демократических (!) выборов 1933 года в правящую партию страны великих философов, поэтов и музыкантов.
«Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе, – вещал будущий фюрер в своем программном сочинении.
– Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены.
Сама судьба указует нам перстом»[24].
Это ведь говорилось не в секретных документах, адресованных узкому кругу подельников, а в книге, которая в Германии 1930‑х годов издавалась миллионными тиражами, переводилась на другие языки.
Особо подчеркну, что в этом «священном писании» национал-социализма нашли концентрированное выражение не только безбашенный расизм и оголтелый антисемитизм, но и антибольшевизм похлеще чубайсовского. Уже там утверждался «факт», «что правители современной России это – запятнавшие себя кровью низкие преступники, это – накипь человеческая»; «чтобы провести успешную борьбу против еврейских попыток большевизации всего мира, мы должны…» и т. п. И как эту риторику должен был воспринимать «главный большевик»?
А может, прагматик Сталин воспринимал ее как извинительные «грехи молодости» начинающего политика и не придавал ей значения, общаясь уже не с зачинщиком «пивного путча» в Мюнхене, а с лидером ведущей европейской державы? Нет, заблуждаться настолько он не мог: книга Гитлера, по сути, была изложением его политической программы, с которой нацистская партия прорвалась в рейхстаг, а ее идеолог был продвинут в канцлеры. Миллионные тиражи появились как раз после того (и вследствие того), как канцлер стал «фюрером». Вот тогда книга Гитлера стала политическим бестселлером во всей Европе, а в 1933 году она была переведена и на русский язык и издана, как утверждают державшие в руках то издание историки, в полиграфическом отношении очень хорошо (возможно, ее печатали в Германии), но микроскопическим тиражом – только для партийной верхушки. В личной библиотеке Сталина она, разумеется, была, и пометки на полях свидетельствуют, что советский вождь читал ее с карандашом в руках.
В таком случае, чем объяснить тесное сотрудничество между СССР и гитлеровской Германией, которое вызывает сегодня так много спекуляций? Думаю, ответ на этот вопрос достаточно очевиден: сама международная обстановка того времени принуждала непримиримых врагов искать помощи друг у друга.
Позицию Сталина убедительно, на мой взгляд, объяснил профессор МГИМО(У) А.Ю. Борисов: «Если говорить о сталинской стратегии в межвоенные годы, то она заключалось в одном слове “выжить” во враждебном капиталистическом окружении и обеспечить благоприятные внешние условия для индустриализации страны в кратчайшие исторические сроки ценой напряжения и перенапряжении всех сил народа. Что касается враждебного окружения, то оно не могло быть другим, так как крупнейшая и самодостаточная держава мира с колоссальной ресурсной базой противопоставила себя всем остальным под лозунгом национализации “священной частной собственности” и реорганизации всей социальной и экономической жизни на государственных, антирыночных началах. Выжить и устоять в таких условиях было поистине сверхзадачей, учитывая сложную динамику международной жизни в период после Версальского мирного урегулирования, что предполагало отчаянное дипломатическое маневрирование и рискованную игру на противоречиях империалистических держав»[25].
Что же касается Гитлера, то надо, прежде всего, подчеркнуть, что это не он инициировал налаживание отношений с Москвой и не с ним поначалу имел дело Сталин. Еще в апреле 1926 года между Германией («Веймарской республикой») и СССР был подписан в Берлине договор о том, что две эти страны «будут и впредь поддерживать дружественный контакт с целью достижения согласования всех вопросов политического и экономического свойства, касающихся совместно обеих стран». Пять лет спустя (опять-таки еще до Гитлера) Берлинский договор был пролонгирован. А Гитлер, придя к власти, несмотря на свою агрессивную антибольшевистскую риторику, денонсировать его не стал – из прагматических соображений: на первых порах ему было важно продемонстрировать миролюбие во внешней политике. В то время гитлеровская дипломатия стремилась выстроить на двусторонней основе внешне дружественные отношения как можно с большим количеством стран, не особо заботясь о том, насколько лояльно они относятся к переменам, происходящим в Германии. Для рейха важно было связать их договорными обязательствами с Берлином, чтобы затем, дергая за эти ниточки, не допустить создания альянсов между ними. В результате таких манипуляций[26] Германии быстро удалось достигнуть такого положения, когда она смогла безнаказанно нарушать ограничения, наложенные на нее Версальским договором, а потом и вовсе денонсировать его.