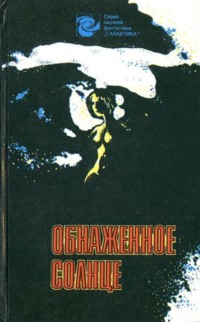Полная версия
Человек с двумя жизнями. 33 мистические, бьющие в самое сердце, истории о войне
Яркая полоса заката, тянувшаяся вдоль гребня дальнего холма, почти догорела. Стволы деревьев стали нежно-серыми; на верхушках их уселись тени, похожие на больших черных птиц. Наступала ночь, а капитана Медуэла отделяло от лагеря несколько миль жуткого леса. А он все стоял около мертвой лошади, совершенно безучастный, казалось, к окружающему. Глаза его были опущены к земле, левая рука бесцельно повисла, правая продолжала держать револьвер. Вдруг он поднял голову, повернул лицо в сторону умирающего друга и быстро направился обратно к нему. Он стал на одно колено, взвел курок, приставил дуло револьвера ко лбу умирающего, отвел глаза в сторону и спустил курок. Выстрела не последовало. Он истратил последний патрон на лошадь. Страдалец застонал, и губы его конвульсивно зашевелились. Показавшаяся на них пена была окрашена кровью.
Капитан Медуэл поднялся на ноги и вынул из ножен саблю. Пальцами левой руки он провел по ней от рукоятки до конца лезвия. Некоторое время он держал ее прямо перед собой, как бы для того, чтобы испытать свои нервы. Не видно было, чтобы клинок дрожал; бледные отблески света отражались в глазах капитана спокойно и ровно. Он наклонился, левой рукой отвел в сторону рубашку умирающего, поднялся и установил кончик лезвия прямо против его сердца. На этот раз он не отвел глаз. Сжимая рукоятку обеими руками, он вонзил саблю, навалившись на нее всем своим весом. Клинок погрузился в тело, пронзил его и вошел в землю.
Капитан Медуэл чуть не упал, надавливая на свое оружие изо всех сил. Умирающий поднял колени и в то же время, подняв правую руку, так крепко ухватился за сталь, что суставы его пальцев заметно побелели. В яром, но тщетном усилии вытащить клинок он расширил рану. Кровь хлынула ручьем, стекая извилистыми струями по разорванному платью. В этот момент три человека молча появились из-за группы молодых деревьев, скрывавших их приближение. Двое из них были санитары с носилками.
Третий был майор Крид Халькро.
Инцидент на мосту через Совиный ручей
I
Это происходило на севере Алабамы.
На железнодорожном мосту стоял человек, опустив глаза к быстрой воде, которая текла в двадцати футах под ним.
Руки его были за спиной связаны за кисти шпагатом. Веревка туго стягивала его шею. Она была пропущена через толстую поперечную балку над головой, а конец ее болтался у колен человека.
Несколько досок, брошенных на перекладины, по которым проходили рельсы, поддерживали человека и его палачей – двух солдат федеральной армии, возглавляемых сержантом, который в гражданском быту, вероятно, служил помощником шерифа.
На некотором расстоянии, на той же платформе стоял офицер в парадной форме, при оружии. Это был капитан. С каждой стороны моста стояло по часовому – ружья на изготовку.
По-видимому, в их обязанности совершенно не входило интересоваться тем, что происходило в центре моста. Им было только приказано не пропускать никого на помост.
За одним из часовых не видно было никого. Виднелась лишь прямая нить дороги; на расстоянии около ста ярдов дорога углублялась в лес, загибалась здесь и исчезала из вида. Несомненно, где-то подальше находились аванпосты.
Другой берег речки был совершенно открытый – легкий подъем, увенчанный палисадом из вертикальных бревен. Между ними виднелись бойницы для стрелков с амбразурой, из которой выступал хобот бронзовой пушки, защищающей мост. На середине подъема, на полпути между мостом и предмостным укреплением, находились зрители – рота пехоты; приклады их ружей упирались в землю, стволы же были наклонены к правому плечу, а руки скрещены над ложами. На правом фланге стоял лейтенант, опираясь обеими руками на саблю, конец которой уходил в землю. За исключением группы из четырех человек на середине моста, никто не двигался. Пехотинцы стояли фронтом к мосту, не отрывая от него глаз, и не шевелились. Часовых, стоявших на концах моста, можно было принять за статуи, поставленные здесь для украшения. Капитан стоял навытяжку со скрещенными на груди руками и молча, без единого жеста, наблюдал за своими подчиненными. Смерть – важная особа. Когда она жалует, в предшествии глашатая, ее надо принимать торжественно и с почетом; она требует этого даже от тех, кто с ней свой человек. В регламенте воинского этикета молчание и неподвижность – формы высокого почтения.
Человеку, которого собирались повесить, было, по-видимому, лет тридцать пять. Это был статский, если судить по его костюму плантатора. У него были красивые черты лица: прямой нос, решительный рот, широкий и открытый лоб. Его длинные темные волосы были зачесаны назад и падали на воротник хорошо сшитого сюртука. Он носил усы и баки. Его глаза, большие и темно-серые, отражали доброту, довольно неожиданную у человека с пеньковым галстуком на шее. Видно было по всему, что это не был обыкновенный убийца. В своей щедрости военный кодекс распространяет повешение на людей всякого рода; джентльмены из них не исключаются.
Закончив все необходимые приготовления, оба солдата отошли в сторону, причем каждый убрал доску, на которой до сих пор стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и стал сзади офицера, который в свою очередь отступил на один шаг. Эти передвижения поставили сержанта и приговоренного к казни на противоположных концах одной и той же доски, которая опиралась на три перекладины моста. Конец, на котором стоял осужденный, почти касался четвертой перекладины. Эта доска удерживалась раньше в равновесии тяжестью тела капитана. Теперь ее уравновешивал сержант. По знаку первого второй должен был сделать шаг в сторону; при этом доска должна была покачнуться, и человек упал бы между двумя стропилами.
Все это было очевидно даже для жертвы. Лицо приговоренного не было закрыто, и глаза его не были завязаны. Человек опустил на мгновение свой взор на непрочную свою опору, а затем перевел его на воду, бурлившую под его ногами. Подпрыгивающая на поверхности щепка привлекла его внимание, и глаза его стали следить за ней по течению. Как медленно движется эта щепка! Какая ленивая эта река!
Он закрыл глаза, чтобы сосредоточить свои последние мысли на жене и детях. Но вода, позолоченная магией утреннего солнца, меланхолический туман, стлавшийся вдоль берега, форт, солдаты, доска – все это отвлекло его внимание в другую сторону. Вдруг он почувствовал новое ощущение. В воспоминания о тех, кто был ему дорог, ворвался вдруг какой-то звук, от которого он не мог избавиться, происхождения которого он не понимал… Это было острое, ясное, металлическое выстукивание, как удары молота по наковальне. Это были определенно те же вибрации. Что это? Бесконечно далеко это или совсем близко? Можно было сказать и так, и иначе. Перебои этого шума были совершенно регулярны и так же медленны, как похоронный звон. Он с нетерпением ждал каждого удара и вместе – не зная почему – со страхом. Интервалы затишья становились все длиннее; это могло довести до безумия. Но, став более редкими, звуки выиграли в силе и четкости. Они ранили его слух, точно удары ножа. Человек боялся, что у него не хватит силы удержаться от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов.
Он открыл глаза и опять увидел под собой воду. «Если бы только мне освободить руки, – думал он, – я бы выскользнул из петли и прыгнул в воду. В воде, может быть, мне удалось бы укрыться от пуль, доплыть до берега, броситься в лес и убежать домой. Слава Создателю, дом мой все еще за неприятельской линией, моя жена и дети еще не во власти завоевателей».
В то время как эти мысли, которые здесь должны быть переведены на язык слов, скорее молниями пронеслись в мозгу осужденного, чем формулировались в нем, – капитан сделал знак сержанту. Сержант шагнул в сторону.
II
Пейтон Фаркуар был богатым плантатором и происходил из старой и почтенной семьи в Алабаме. Владелец рабов и в качестве такового человек определенных политических взглядов, он, естественно, примкнул к сепаратистскому движению с первого же дня и всей душой отдался делу Юга. Некоторые обстоятельства наглухо закрыли ему доступ в состав южной армии, доблестной, но несчастной, действия которой закончились падением Коринфа. Его страшно волновала эта помеха, закрывавшая ему дорогу к славе, и он горел желанием освободить всю свою энергию, найти случай отличиться в карьере воина, дающей для этого много возможностей. Этот случай, чувствовал он, должен представиться, как он представляется всем во время войны. А в ожидании он делал все, что мог. Никакое поручение не казалось ему слишком скромным, если он мог исполнением его оказать помощь Югу. Никакое приключение не казалось ему слишком опасным, если оно было совместимо с достоинством статского человека, который был солдатом в душе и который в простоте сердечной, и не очень углубляясь в разрешение этого вопроса, применял несколько легкомысленную поговорку, утверждающую, что в любви и на войне все дозволено.
Однажды вечером, когда Фаркуар с женой сидели на скамье у ворот своей усадьбы, к забору подъехал всадник в серой форме, весь в пыли, и попросил дать ему напиться. Миссис Фаркуар поднялась, чтобы лично услужить ему. Пока она ходила за водой, муж ее с жадностью расспрашивал всадника о новостях с фронта.
– Янки сейчас исправляют железнодорожные линии, – ответил всадник, – и готовятся опять выступить вперед. Они дошли уже до моста через Совиный ручей, починили мост и устроили заграждение на северном берегу. Командующий издал приказ – он расклеен уже повсюду, – что каждый статский, который будет застигнут на месте за порчей дорог, мостов, туннелей или же поездов, будет повешен без суда и следствия. Я сам читал приказ.
– А как далеко отсюда мост через Совиный ручей?
– Миль тридцать.
– По эту сторону ручья нет никаких войск?
– Только пикет, выдвинутый на полмили дальше, на железнодорожном полотне, да один часовой в конце моста, с нашей стороны.
– Представьте себе, что какому-нибудь статскому кандидату на виселицу удалось бы миновать пикет и – кто знает? – избавиться от часового, – с улыбкой произнес Фаркуар. – Скажите, что, по-вашему, мог бы сделать такой человек?
Солдат задумался.
– Я был там с месяц назад, – ответил он. – Я заметил, что прошлогодний зимний разлив нагромоздил огромное количество плавучего леса, упирающегося в быки с этой стороны моста. Мост сам по себе тоже деревянный. Он высох сейчас и гореть будет, как пакля.
Миссис Фаркуар принесла воду. Солдат напился. Он очень церемонно поблагодарил даму, поклонился ее мужу и ускакал. Через час, уже в темноте, он снова проскакал мимо плантации, направляясь на север, в том направлении, откуда он раньше приехал. Это был шпион федеральной армии.
III
Сброшенный с мостового настила, Пейтон Фаркуар потерял сознание и был как мертвый. Его вывело из этого состояния – через несколько веков, казалось ему, – ощущение боли, которую вызывало сильное давление на горло; за ним последовало ощущение удушья. Он почувствовал в шее живую, кусающую боль, и боль эта устремилась сверху вниз, по всем фибрам его тела. Эти боли вспыхивали, как сполохи света, вдоль определенных разветвлений и пульсировали, как какие-то трепещущие огненные потоки, с отчетливой и неслыханной скоростью. Он ничего не сознавал, кроме разве необычайно сильного прилива крови к мозгу. Ни одно из этих ощущений не сопровождалось мыслью. Интеллектуальная часть его организма была уже разрушена. У него осталась только способность чувствовать, а чувствовать было пыткой. Он осознал, что он двигается. Заключенный в светящееся облако, превратившись сам в его пламенеющий нематериальный центр, он, точно громадный маятник, качался по непостижимой дуге колебаний. Вдруг со страшной неожиданностью обволакивавший его свет ринулся в пространство с шумом, какой производит вырвавшийся на свободу большой поток воды. Страшное рычание наполнило его уши, и все стало черным и холодным… К нему вернулась способность мышления: он понял, что веревка оборвалась, и он упал в воду. Ощущение удушья не усилилось. Узел на шее стягивал ему горло и мешал воде проникнуть в его легкие. Умереть от повешения на дне реки – эта мысль показалась ему забавной. Он раскрыл глаза в темноте и увидел над собой луч света, но так далеко, так недостижимо далеко… Он, очевидно, продолжал опускаться, потому что луч света становился все слабее и превратился, наконец, в слабое мерцание. Но вдруг свет стал усиливаться и оживать, и он понял, что начинает подниматься на поверхность, – понял с неудовольствием, потому что он чувствовал себя очень хорошо. «Быть повешенным и утопленным, – думал он, – это еще не так плохо. Но я не хочу быть еще вдобавок расстрелянным. Нет, я не хочу, чтобы меня расстреляли. Это и не входило в условия игры».
Он не отдавал себе отчета в том, что делает какое-то усилие, но острая боль в кистях рук уведомила его, что он пытается их освободить. Он уделил этой борьбе значительное внимание и следил за ней с любопытством постороннего зрителя или как зевака смотрит на прыжки акробата. Какое великолепное усилие! Какая замечательная сила, почти нечеловеческая! Вот это здорово! Браво! Путы слабеют. Руки освобождаются, отделяются одна от другой и всплывают над его головой. В увеличивающемся свете он еще неясно видит свои руки. Он созерцает их с любопытством, в то время как они цепляются за шею, за петлю на ней. Они срывают ее и с яростью швыряют в сторону, и веревка извивается, как водяная змея. «Верните петлю на место. Верните петлю на место». Ему кажется, что он сам так приказывает своим рукам. Потому что, когда распустилась петля, у него начались муки, которых до сих пор он еще не испытал. В шее дикая боль. Вся голова – в огне. Сердце его, которое билось совсем слабо, вдруг сделало страшный скачок, словно хотело выскочить наружу через горло. Все тело извивается в невыносимых муках. Но непослушные руки не обращают ни малейшего внимания на его приказы. Они быстро, с огромной силой разбивают воду, они работают внизу и заставляют его подниматься на поверхность. Он чувствует, что его голова всплыла. Глаза слепит свет солнца. Грудь его конвульсивно расширяется, и с последней спазмой агонии легкие его вбирают огромное количество воздуха, которое он тотчас же выбрасывает назад в страшном крике.
Он владел теперь всеми своими физическими способностями. И они были теперь сверхъестественно обострены и усилены. Что-то в страшной пертурбации, которую перенес его организм, сделало их до того тонкими и напряженными, что они улавливали теперь детали, которые раньше никогда бы не восприняли. Он ощутил рябь воды на своем лице и слышал звуки, которые производили морщинки воды, ударяя его одна после другой. Он повернул глаза к лесу и ясно различал теперь каждое дерево в отдельности, листья и жилки на каждом листке. Он заметил даже насекомых – кузнечиков, мошек с золотыми спинками, серых пауков, перебрасывающих свою паутину с ветки на ветку. Он видел все цвета спектра на всех капельках росы на миллионах травинок. Гудение мошкары, которая плясала над струей течения, дрожание крыльев стрекоз, звуки, которые производили своими лапками водяные пауки, – все это создавало воспринимаемую им музыку. Рыба проскользнула под его глазами, и он слышал, как она прорезала воду.
Он всплыл на поверхность, лицом к течению. Одно мгновение ему казалось, что весь видимый мир медленно повернулся, а сам он – ось для этого движения. И он увидел мост, форт, солдат на мосту, капитана, сержанта, своих двух палачей. Они обрисовались силуэтами на синем небе. Они кричали, жестикулировали и указывали на него пальцами. Капитан приготовил свой пистолет, но не стрелял. Остальные были безоружны. Их движения казались смешными и в то же время ужасными. Они казались гигантами.
Вдруг он услышал сильный взрыв, и что-то с силой ударилось о воду в нескольких дюймах от его головы и обдало все его лицо водяной пылью. Он услышал второй выстрел и увидел одного из часовых, с ружьем у плеча; легкий дымок кружился у конца ружья. Человек в воде видел глаза человека на мосту, и этот глаз фиксировал его глаза через мушку. Человек заметил, что этот глаз был серый, и вспомнил, как он читал где-то, что серые глаза самые острые и все прославленные стрелки имели серые глаза. Однако этот сероглазый промахнулся.
Встречное течение захватило Фаркуара и заставило его сделать полуоборот. Он снова видел лес на противоположном берегу. Звонкий и певучий голос раздался позади него и перелетел через воду с такой четкостью, что заглушил собой все остальные звуки, даже перезвон водной ряби в его ушах. Хотя он и не был военным, Фаркуар слишком часто бывал в лагерях, чтобы не понять сразу же опасности, которой угрожал ему этот напев. Лейтенант, находящийся на берегу, решил принять участие в этих утренних занятиях. С какой холодностью, с какой беспощадной и суровой интонацией, с каким спокойствием, которое должно было передаться его подчиненным, произнес он эти жестокие слова, которые падали с безупречно правильными интервалами:
– Стройся… готовься… целься… пли!
Фаркуар нырнул – нырнул насколько мог глубоко. Вода заревела у его ушей голосом Ниагары. Все-таки он услышал заглушенный гром залпа и, поднявшись снова на поверхность, увидел блестящие кусочки металла, как-то странно сплющившиеся, медленно и извилистой линией спускавшиеся на дно. Некоторые кусочки коснулись его лица и рук и проскользнули, продолжая свое падение. Один осколок попал ему за воротник; было щекотно. Фаркуар вытащил его.
Снова вынырнув на поверхность, с открытым ртом, чтобы надышаться, он заметил, что долго оставался в воде. Течение унесло его далеко вперед, и он был гораздо ближе к спасению. Солдаты перестали заряжать. Металлические шомполы одновременно сверкнули на солнце, когда их выдернули из ружейных стволов, повернули в воздухе и вставили в гнезда. Оба часовых выстрелили еще по разу, отдельно и без результата.
Изнемогавший человек видел все это через плечо. Он мощно плыл теперь по течению. Его мозг был сейчас так силен, как его руки и ноги; он мыслил с быстротой молнии.
«Офицер, – рассуждал он, – не повторит больше этой ошибки, на которую способен только молокосос. От залпа уклониться не труднее, чем от одиночного выстрела. Вероятно, теперь он отдал приказ стрелять без команды, по усмотрению. Да поможет мне Господь! От всех не увернешься».
В двух шагах от него вдруг вздыбилась вода, и тотчас же раздался сильный, бесформенный, понижающийся шум; этот шум, казалось, снова вернулся в форт и растворился там во взрыве, от которого была потрясена вся река до самых недр ее. Поднялась волна, изогнулась над Фаркуаром, упала на него, ослепила и оглушила его. В партию вступила пушка. Отряхивая после контузии голову, человек слышал, как мимо его ушей с пением пронеслось, задевая воду, ядро, промчалось дальше и ударило по ветвям в лесу.
«Этого они больше не повторят, – подумал Фаркуар, – в следующий раз они будут стрелять картечью. Мне надо смотреть на пушку. Дым предупредит меня – выстрел следует позже. Он всегда тянется за ядром. Это – хорошая пушка».
Вдруг он почувствовал, что завертелся кругом, как волчок. Вода, берега, лес, мост, форт, люди, теперь уже отдаленные, – все смешалось и стушевалось. Вещи сделались представленными только своим цветом. Горизонтальные цветные полосы – вот все, что он видел теперь. Он попал в течение и понесся вперед во вращательном движении, которое причиняло ему головокружение и от которого его тошнило. Через несколько минут он был выброшен волной на песок, на южном берегу ручья, за мыс, который скрывал его от палачей. Резкая остановка и боль в расцарапанной острым камешком руке скоро вернули ему сознание, и он заплакал от радости. Он погрузил обе руки в песок, стал бросать его на себя целыми пригоршнями и громко благословлять его. Ему казалось, что этот песок состоит из бриллиантов, рубинов и изумрудов. Он не мог представить себе ничего более прекрасного. Деревья в лесу казались ему гигантскими оранжерейными растениями. Ему казалось, что он видит определенный план, по которому они посажены, и он вдыхал их аромат. Странный розоватый свет блестел между стволами, а ветер играл в листве, как на эоловой арфе. У него не было никакого желания продолжать бегство. Здесь, в этом райском уголке, он останется до тех пор, пока не придут за ним и не возьмут его…
Свист, хрип картечи в высоких ветвях над его головой пробудили его от мечтательности. Разозленный канонир послал ему в сердцах последний привет. Он вскочил на ноги, поднялся по крутому берегу и скрылся в лесу.
Он шел весь день, руководствуясь в пути дугой, которую описывало солнце. Лесу, казалось, не будет конца. За все время он не увидел ни одной просеки, ни одной тропинки дровосека. Он удивлялся. Неужели он жил до сих пор в такой дикой стране? В этом открытии было что-то зловещее…
К вечеру он устал и проголодался. Ноги его были в крови. Но воспоминание о жене и детях подстегнуло его, и он двинулся дальше. Наконец он выбрался на дорогу: она приведет его куда надо; он знал это. Эта дорога была пряма и широка, как городская улица, и все-таки казалось, что никто по ней никогда не ездил. По бокам ее не было полей, не было строений. Ни разу он не слышал лая собаки, который указал бы на близость человеческого жилья. Черные стволы деревьев образовали с обеих сторон суровую ограду, которая сходилась под углом на горизонте, как на перспективном чертеже. Над головой сверкали большие золотые незнаемые звезды, сочетавшиеся в загадочные созвездия. Он был уверен в том, что это расположение звезд имеет таинственное и коварное значение. Лес был полон необыкновенных звуков, среди которых – один раз, два раза, много раз! – он ясно слышал шепоты на непонятном наречии.
Шея у него болела; он поднес к ней руку и нашел, что она ужасно вздулась. Он угадал черный круг, который оставила на его шее врезавшаяся в нее веревка. Ему казалось еще, что глаза его выпучились; он не мог закрыть их. Язык распух от жажды, и он умерял лихорадочный жар, высовывая его изо рта на холодный воздух. Какой нежный зеленый ковер под ногами на этой неисследованной просеке! Он не чувствовал больше дороги под ногами…
Конечно, несмотря на страдания, он заснул на ходу, потому что присутствовал сейчас при совершенно неожиданном зрелище. А может быть, он просто бредит? Он стоит у ограды своего дома. Все там так, как он оставил, когда уходил. Все сверкает в свете утра. Очевидно, он пространствовал всю ночь.
Он толкает калитку и входит в широкую белую аллею. Вот мелькает женское платье. Его жена, нежная и свежая, со спокойным лицом, спускается с веранды и идет к нему навстречу. У подножки ступенек она ждет его с улыбкой невозмутимой радости… Как она прекрасна! Он бросается к ней с раскрытыми объятиями. Но вдруг получает ошеломляющий удар по затылку. Ослепительный белый свет вспыхивает вокруг него. Раздается звук, похожий на пушечный выстрел. Потом все становится мраком и молчанием.
Пейтон Фаркуар был мертв. Его тело, со сломанными шейными позвонками, тихо покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей.
Паркер Аддерсон, философ
– Военнопленный, как ваше имя?
– Так как завтра с рассветом я все равно утрачу его, едва ли стоит его скрывать: Паркер Аддерсон.
– Ваш чин?
– Скромный. Офицеры слишком драгоценный материал, чтобы подвергать их опасностям шпионского ремесла. Я сержант.
– Какого полка?
– Вы должны извинить меня. Если я вам отвечу, это даст вам, поскольку я понимаю, возможность узнать, какие силы находятся против вас. А ведь я пробрался на ваши позиции, чтобы получить эти сведения, а не для того, чтобы сообщить их.
– Вы не лишены остроумия.
– Если у вас хватит терпения подождать, то завтра утром вы найдете меня тупым.
– Откуда вы знаете, что должны умереть завтра утром?
– Таков уж обычай у шпионов, пойманных ночью. Это одна из приятных сторон профессии.
Генерал до такой степени забыл о своем достоинстве южанина, о своем высоком чине и своей громкой славе, что даже улыбнулся. Но никто из людей, находящихся в его власти и не пользующихся его расположением, не истолковал бы эту улыбку в свою пользу. Эта улыбка не была ни искренней, ни заразительной, и она не вызвала реакции ни у пойманного шпиона, ни у конвойного, который привел его в палатку и теперь стоял в стороне, рассматривая своего пленника при желтом свете свечи. Улыбаться не входило в обязанности этого воина; да он и был командирован сюда для другой цели. Разговор возобновился. Фактически это был допрос.
– Значит, вы сознаетесь, что вы шпион? Что вы проникли в наш лагерь переодетым – вот, на вас форма нижнего чина армии Конфедерации, – чтобы получить сведения о количестве и расположении моих войск?
– Главным образом об их количестве. Их расположение было мне известно заранее. Они расположены к отступлению.
Генерал опять просиял. Конвойный, сильнее почувствовав свою ответственность, принял еще более суровый вид и еще больше выпрямился.