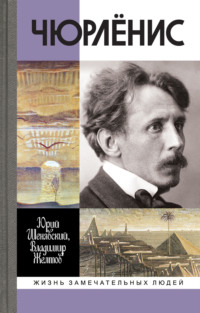Полная версия
Удивительные – рядом! Книга 1
Борис Васильевич участник обороны Ленинграда, герой Невского пятачка.
– Мне бы хотелось, чтобы вы в своей публикации не обошли вниманием и моих боевых товарищей по 134-му полку 45-й гвардейской дивизии, – предупредил Голицын, когда мы заговорили о легендарном Невском пятачке. (Перечень имен и фамилий сослуживцев Бориса Васильевича, даже если бы жанр моего повествования и позволил бы привести, сделать сейчас это я не смог бы – он не сохранился. ВЖ.). Среди нас были и женщины. Минометчицы. Кочнева, например, такая. Она тоже из дворян. Дом Кочневой – Фонтанка, 41, знаете? Представьте себе, каково было женщинам? Одна только станина миномета весила около трехсот килограммов, и каждая мина – по семь.
На Невском пятачке Борис Васильевич участвовал в шести штыковых атаках. (Мало кто, как говорит он, в двух-трех!) Одна из них вошла в учебный фильм для спецназа. Тогда Тимофееву миной сорвало верхнюю часть правой руки, мясо с кожей, от кисти до локтя. Мышцы еще держались на связках, и он эти связки порвал зубами. – Потом мне говорили, что надо было оторванное прибинтовать, может быть, и приросло бы…
– Борис Васильевич, Евгений Алексеевич говорил, что до Невского пятачка был блокадный Ленинград…
– Война меня застала в летних лагерях между Левашово и Песочной, куда я выехал в составе полкового духового оркестра – как воспитанник. Полк спешно перебросили под Выборг, где я и принял боевое крещение, подтаскивая к орудиям снаряды. А вот повоевать не дали. Подростков – воспитанников – отправили подальше от войны. В Ленинград. Из огня да в полымя.
Первую блокадную, самую суровую зиму проработал я токарем на заводе музыкальных инструментов, на Лиговке, рядом с домом. Вытачивал корпуса снарядов, мин.
В мае 42-го свалила дистрофия. Когда из квартир выносили трупы, вынесли и меня. Без каких-либо признаков жизни. Положили на лестничной площадке. Я очнулся и пополз вниз. Я всего этого не помню. Пришел в себя на диване, рядом с буржуйкой, с кружкой морковного чая в руке… Где бы вы думали? В военкомате. Стал проситься на фронт. «Давай документы». – «Они в жилконторе… наверно». – «Сходи принеси». В жилконторе заглянули в домовую книгу и ахнули: «Тимофеев же… умер!»
О том, что творилось в осажденном городе и в «невском аду», Борис Васильевич говорить не любит. Он охотнее рассказывает о Петербурге прошлого, рассказывает как талантливый мемуарист, обладающий фотографической памятью. Рассказывает так, словно жил в любимом городе сто, двести лет назад. Безгранична и любовь Голицына к поэзии.
Его участие в создании музея Анны Ахматовой в селе Слободка-Шелеховская Хмельницкой области, на Украине, случайным не назовешь. Если Тимофеев взялся за дело, то отдается ему самозабвенно. Вот факт его биографии, достойный стать легендой.
Когда возникли непредвиденные сложности с транспортом при отправке экспонатов на Украину (опоздать на поезд, значило сорвать открытие музея) Борис Васильевич вошел в автобус 22-го маршрута и обратился к водителю и пассажирам: «Товарищи, кто из вас любит Ахматову?»
Объяснил ситуацию – и автобус сошел с 22-го маршрута, а пассажиры помогли грузить ящики и коробки…
Я своими глазами видел документы, собственноручно подписанные Государем императором… Николаем Третьим Алексеевичем – Грамоту о жаловании Борису Голицыну титула светлейшего князя и Указ о назначении его генерал-губернатором Санкт-Петербурга и предводителем Российского дворянства.
(Уважаемые Борис Николаевич (Ельцин) и Владимир Анатольевич (Яковлев) могут не беспокоиться: дворянские игры – не закулисные и для них не опасные.)
Видел фотографии, где Борис Васильевич с монаршими особами; оттиск герба с автографом американского архиепископа Василия Родзянко: «…дорогому родственнику Борису Васильевичу Голицыну. Храни Господь». Я подержал в руках увесистую кубачинскую саблю – дар великой княгини Волконской, князей Афасижевых и Черкасских.
(О князе Афасижеве я, честно говоря, прежде не слышал.) И, наконец, стрелял из винтовки системы Браунинг, оснащенной приспособлениями из «ларца голицынских секретов», повышающих прицельность и удобство в обращении с оружием.
Князь Голицын нынче нарасхват. Как хранителя родового стиля боевых искусств его эксплуатируют нещадно. Когда в качестве члена жюри, когда, как «наглядное пособие». ОМОН, Спецназ, погранвойска, соревнования «Бои без правил», «Сибирский кулачный турнир» – кажется, так называются эти соревнования, – везде и всеми он востребован.
На I Международном семинаре по возрождению русского штыкового боя Борис Васильевич успешно отбивался от трех-четырех нападающих одновременно. И это при том, что ключ в дверной скважине поврежденной рукой поворачивает он с трудом!
Борис Васильевич демонстрирует афишу показательных выступлений по самообороне в екатеринбургском Доме офицеров, заявлен и он, князь (уже князь!) Голицын.
– Выхожу, – рассказывает Борис Васильевич, – из зала чуть ли не насмешки: «Эй, князь! Вы то что можете!». Со мной мои ребята, они знают, что и как делать. Но на сцену поднимаются здоровенные мужики – это программой не предусмотрено. Силой пришли помериться, себя показать. «Как бы мне вас, ребятушки, не покалечить», – говорю. Посмеиваются. Семеро их, обступили – меня и не видно: я – маленький, щупленький. Держат мои руки-ноги, вцепились кто во что сумел… И, как говорится, одно, неосторожное для них движение и..! В общем, рассыпались здоровяки по сцене – как горох! В том, что я не вру, можете убедиться сами – все зафиксировано на видео.
Евгений Линд не на шутку встревожен подобными «экспериментами»:
– Боря хочет продемонстрировать приемы, а с ним часто лезут биться на полном серьезе. Ни возраста человека не учитывают, ни перенесенных микроинфаркта и инсульта, ни недавних полостных операций.
С моей подачи в доме Евгения Линда стал бывать художник Игорь Сафронов. Однажды я не удержался и попросил Бориса Васильевича показать приеы – не рукопашного боя, а «родового стиля» самообороны. Игорь вызвался быть «наглядным пособием». Я фотографировал.
О князе Голицыне уже слагаются легенды. Знаю несколько – расскажу одну.
В «Железнодорожных кассах» на канале Грибоедова без очереди полез двухметроворостый верзила:
– Я опаздываю на первенство мира!
Борис Васильевич, как всегда был вежлив:
– Вы меня простите, но мы с другом спешим по не менее важным делам, и, к тому же, мы инвалиды.
– Что?! – взревел великовозрастный детина, он хотел было пустить в ход кулаки, но… шмякнулся на пол. Голицын сделал шаг к кассе и при этом проявил «невоспитанность» – демонстративно переступил через поверженного противника. Тот, обалдевший, вскочил на ноги:
– Дед, а дед, покажи еще раз, как это ты меня?
– Показать? Пожалуйста.
Одно неуловимое глазом движение – и тот опять на полу. Поднимается:
– Ну, ты дед – Евпатий Коловрат!
– Нашему боевому искусству более тысячи лет, – говорит Голицын. – А вообще-то, насколько мне известно, корни его нужно искать в Древнем Египте.
Борис Васильевич протянул мне раскрытый журнал:
– Прочтите.
Читаю: «…Родовой стиль князей Голицыных (…) поможет вам отстоять свою жизнь, защитить свою семью. Представитель этого древнейшего княжеского рода Борис Голицын делится уникальными приемами рукопашного боя: работа против ножа, защита всевозможными подручными средствами, неповторимая техника «волчка», позволяющая освободиться от захвата нескольких нападающих…»
– Вы обратили внимание: речь идет не о нападении. Только защита! Мы, русские, – народ православный. Убивать – великий грех, допустимый разве что в делах праведных, как то защита Отечества. А вообще-то голицынский арсенал насчитывает 24 вида оружия. Вам говорят что-нибудь слова «упокой», «грива», «ширяло», «жихарка», «наддай»?
Приезжает ко мне краевед из Белоруссии – проконсультироваться. В подвале какого-то древнего монастыря отыскал он рукописную книгу, в которой прочитал о раздваивающихся в бою воинах.
– Не иначе – инопланетяне! – сделал вывод.
– Нет, дорогой мой, это всего лишь «наддай».
При «наддае» главное органичная синхронность действий, как… в танцах на воде. Ее добивались годами. Два воина. У одного, что ростом пониже, в левой руке щит, в правой большой меч или большой топор. У того, что за ним стоит (а они могут и шагать, как одно целое), – свое оружие, им он орудует самостоятельно. При необходимости воины объединяются. «Наддай!» – и задний вкладывает в удар большим мечом и свою силу. Располовинить человека – делать нечего! «Наддай» – что-то вроде призывного клича.
В старые времена дворяне воинами воспитывались сызмальства. Обучали боевым приемам, учили владеть оружием. Если не было войны, мальчиков водили на скотобойню, чтобы психология была правильной.
Владели приемами и женщины. Мама моя владела. Как дворянка, представитель чуждого советской власти класса, она угодила в Гулаг. Там на нее попытались напасть здоровенные зеки, не трудно догадаться с какой целью. Видя, как ловко она скрутила одного в бараний рог, остальные ретировались.
Расскажу известную вам детскую сказку «Репка». Помните, как она начинается? Посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая. Стал тянуть дед репку, тянет-потянет – вытянуть не может. Позвал на подмогу бабку. Тянут-потянут – вытянуть не могут. Позвали они на подмогу внучку, потом – кошку, мышку. Вытянули репку! Мораль сказки вроде бы проста: любое дело можно осилить, если действовать не в одиночку, гуртом, дружно. Голицыны это не оспаривают, но есть у нас и еще одно толкование. Дед, мужчина, посадил репку, а вытащить смог только с женской помощью – бабка, внучка, кошка, мышка.
Борис Тимофеев дважды защищал свою честь в дуэльных поединках. В 1942-м дрался на штыках, в 1960-м стрелялся, в геологической партии. В первом случае умело обезоружил противника, во втором, с назидательной целью деликатно прострелил ему меховую куртку. «Не убивать же их было…»
– За годы советской власти мы подзабыли о таком понятии, как честь. Кто сейчас помнит о том, что офицерский погон – часть знамени?
Мой дядя Витя Жихарев («жихарка», станция «Жихарево» – знаете, да?) в середине 30-х по окончании военно-морского училища прибыл на Дальний Восток, принял под команду корабль.
Сидит он как-то на берегу бухты Золотой Рог. Вдруг, сзади бьют его по плечу.
– Эй, ты! Дай прикурить.
Поворачивается Витенька – капитан первого ранга. Ничего умней не придумал он, как достать пистолет, отщелкнуть патрон, вставить в ствол вынутую изо рта папироску.
– На, прикуривай.
Нажимать на курок, понятное дело, он и не собирался. С капитаном и без того плохо стало.
В одной из публикаций обо мне я неосторожно заявил, что я – живой экспонат музея дуэлей. Евгений Алексеевич упрекнул меня, сказал, что он создает Музей Чести, и я – живой экспонат Музея Чести. Так, наверное, будет правильнее.
Историческая справедливость восторжествовала. Путем безболезненных, но затяжных бюрократических операций Борис Тимофеев превратился в князя Голицына. А если быть точным, в Тимофеева-Голицына. На двойную фамилию потребовалось специальное (!) разрешение. Аргументация Бориса Васильевича в инстанциях оказалась убедительной:
– Когда началась «Октябрьская эпопея», князь Львов, бывший министром внутренних дел у Николая II, выправил моему отцу документы на имя Василия Тимофеева. Был такой человек, служил в первом флотском экипаже, на «Гангуте», на «Андрее Первозванном». Дальнейшая его судьба мне неизвестна. А фамилия Тимофеев спасла жизнь и моим родителям и мне… Разве я мог от нее отказаться?
1997 (?)
Всеволод Инчик
«Музей не кормит!»
В Петербурге свыше ста музеев. Но нет ни музея Петра Ильича Чайковского, ни музея Николая Васильевича Гоголя, ни Музея декабристов. Ни Музея открытки. Хотя крупнейший российский филокартист Николай Тагрин завещал свою известную во всем мире коллекцию городу…
Другой известный петербургский собиратель – Всеволод Инчик, доктор технических наук, профессор кафедры химии СПбГАСУ (Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета), не надеясь ни на городское правительство, ни на «общественность», по собственной инициативе, на собственные средства при «полном одобрении и активном участии» жены Татьяны в собственной квартире создал музей «Блокадная комната артистки». Музей находится в глубине дома № 4 по улице Гороховой.
В настоящее время этот уникальный музей по указанному адресу не существует. Он передан Всеволодом Инчиком Патриотическому объединению «Ленрезерв», общественной некоммерческой организации, которой собраны и экспонируются – в районе Полюстрово – «коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времен Второй Мировой войны».
С Всеволодом Инчиком и его супругой Татьяной, певицей известной под псевдонимом Балета (ударение на последний слог), у нас многолетние добрые отношения, но здесь я привожу свой первый материал о музее «Блокадная комната певицы» и о его создателе Всеволоде Инчике как наиболее полный.
Дом был спроектирован и построен для страхового общества «Саламандра» в начале ХХ века. Вскоре после Октябрьской революции он оказался в ведении ВЧК, «центральная резиденция» которой располагалась рядом, в доме 2. После того, как в начале 30-х, «правопреемник» ВЧК – НКВД, ленинградское его управление, перебралось в специально построенное на Литейном проспекте здание, вошедшее в историю, как Большой дом, комнаты и квартиры в доме на Гороховой, 4 стали предоставлять элитным жильцам. Сейчас его фасад украшают четыре мемориальные доски: Софье Преображенской, Агриппине Вагановой, Исааку Дунаевскому, Ивану Ершову. А еще здесь жили Галина Уланова*, Надежда Вельтер… И солистка Малого оперного театра Вера Шестакова, с довоенных времен и до самой смерти; умерла Вера Ивановна в 1996 году в возрасте 92 лет. Всеволод Инчик – ее племянник.
Всеволод Инчик:
– В российских семьях свою предысторию не изучают. К этому нас в советское время приучали. «Какие корни?! Вы о чем?!..» Если бы я, например, когда-то сказал, что мой отец, Владимир Феликсович, из дворян, а его дедушка Феликс Александрович – крупнейший нефтехимик, фамилия которого есть в энциклопедиях, и что он имел свой заводик нефтяной, – все, папу забрали бы, куда не следует! Но, замысливая экспозицию, я не ставил своей целью культивировать Веру Ивановну как свою родственницу. Напротив, я все время подчеркиваю: экспозиция посвящается всем деятелям культуры блокадного Ленинграда. Хотя, не скрою, мне приятно обозначить роль и значение Веры Ивановны: во время блокады она была заметной личностью, но я не могу игнорировать ее коллег – Софью Петровну Преображенскую, Надежду Львовну Вельтер, Нечаеву, Легкову, Болотина, Андреева. Они были вместе.
О великолепном голосе и виртуозном исполнительском мастерстве Веры Шестаковой можно судить по тем двум чудом сохранившимся пластинкам и откликам слушателей и поклонников ее таланта. У нее был богатый репертуар: «Царская невеста», «Травиата», «Снегурочка»… Сорок семь партий Шестакова исполнила в Малом оперном с 1931 по 1958 год. Но званиями оказалась «обнесенной». Даже заслуженной артистки России «не заслужила». (Вера Ивановна объясняла это так: «Когда мне во время войны предложили сотрудничать с Большим домом, я отказалась».) И в то же время среди немногочисленных наград актрисы – орден Боевого Красного Знамени.
Войдя в комнату, сразу понимаешь: здесь жила актриса. На стенах – афиши, многочисленные фотографии как самой Веры Шестаковой (в ролях и в быту), так и ее коллег. На вешалке – сценические костюмы, у зеркала – грим, другие театральные косметические принадлежности.
Сразу понимаешь и другое: так жили во время блокады. Окна заклеены крест-накрест полосками, нарезанными из газеты «Правда» (можно номер примерно датировать – осень 1941-го).
Всеволод Инчик:
– Вначале ленинградцы добросовестно наклеивали бумагу – верили, что стекла не полопаются. Но, конечно же, бумага не способна была стать преградой для разрушительной силы взрывных волн. Приходилось окна забивать фанерой, досками, картоном, завешивать одеялами, потому что температура в комнате приближалась к нулю градусов.
Во время блокады здесь ютилась вся наша семья, состоящая из пяти взрослых и одного младенца – он умер в самое тяжелое время, зимой 42-го. В том же году от голода умерли: бабушка – в январе, папа – в марте, в возрасте 56 лет. Отец был специалистом по мостам и тоннелям, и, кстати, пионером ленинградского метрополитена, к строительству которого его привлекли за год до начала войны.
Тепло было только в этой комнате – здесь стояла буржуйка; в других комнатах в морозы невозможно было находиться.
Буржуйку Инчик обнаружил после смерти тетушки – она лежала на антресолях, полностью укомплектованная – с трубами, отводами и даже с кочергой.
В основном в комнате-музее мебель и предметы Веры Шестаковой – диван (на котором умерла и сама Вера Ивановна, и ее мама), буфет, книжный шкаф, патефон, этажерка… Рояль; на подставке для нот – клавир одной из первых опер «на тему блокады» «Надежда Светлова», написанной Иваном Дзержинским, но так никогда и не поставленной. На шкафу – черная тарелка репродуктора…
На обеденном столе (он уже из мебели Инчиков), покрытом кружевной довоенной скатертью, дореволюционная керосиновая лампа.
Всеволод Инчик:
– В начале войны, пока был керосин, мы пользовались этой лампой. Потом брали стопочку, наливали масло – получалось что-то вроде лампадки. Потом не стало никакого масла. Жгли лучину, но и она была дефицитом. Сворачивали жгут из бумаги, зажигали. Открытый огонь очень опасен. Статистики нет, но огромное количество домов во время блокады горели из-за неправильного обращения с открытым огнем. Недосмотрел – уголек из буржуйки выпал… А гасить-то нечем! Электрический свет вновь появился только в конце 42-го, в 43-м. Тогда уже стало и менее голодно… А в январе 42-го смертность достигла пикового уровня. По самым скромным подсчетам, от голода умерли 96 тысяч человек. А по неофициальным, наверное, больше раза в полтора.
На обеденном столе рядом с «осветительными приборами» – доска для резки хлеба с вырезанной надписью «Хлеб наш насущный дашь нам днесь».
Всеволод Инчик:
– Когда начались хлебные нормы, отец сделал весы, вроде аптечных, только с чашечками побольше – он многое умел делать руками, достал где-то разновесы (гири. ВЖ.) и говорит: «Раз такое дело, надо очень скрупулезно нарезать хлеб». И один раз мы хлеб вывешивали. А потом мама сказала: «Не надо нам такой скрупулезности, детям мы должны на глаз нарезать, побольше нормы, а все остальное – нам, взрослым. Володя, убери, пожалуйста, свои весы». Папа последовал маминому совету – весы убрал. Они, к сожалению, не сохранились.
В экспозиции – не только хлебные карточки, но и деньги. Почему-то блокадники не говорят о деньгах. Только о продуктовых карточках. А ведь, чтобы получить «125 блокадных грамм», нужно было еще и заплатить.
Всеволод Инчик:
– Буханка стоила рублей семьсот, может, быть даже больше, где-то у меня записано. Но сумма была незначительная. Поэтому никто и не вспоминает.
Мама вставала в четыре утра и шла занимать очередь. Люди стояли на морозе, и не знали: хватит – не хватит. Могли простоять целый день и остаться без хлеба. Мама ждала хлеб, а мы с сестрой ждали маму и не знали, вернется – не вернется. В 41-м мне было двенадцать, сестре – восемь.
Иногда мама ходила на «черный рынок», где можно было что-то купить «из-под полы» – буханку хлеба, кусок масла, кулечек сахарного песку. Это было опасно для той и другой стороны. Того, кто продал, могли взять – и в тюрьму. Кто купил – тоже. Мама боялась покупать. Зато сама, случалось, что-то продавала или меняла на продукты. Водку, например. Водку давали по карточкам – раз в декаду поллитра. Мама ее всегда или продавала или меняла.
Драгоценностей у нас особых не было. Ну, серебряные ложки – мама их выменяла на что-то. Золотые часы отца – тоже на какие-то, казалось бы, пустяки. На килограмм крупы что ли. И то с большими трудностями.
Когда бабушка уже умерла, а отец еще умирал, и мы все качались от голода, мама привела домой какую-то бабу. Откуда она была, я даже не знаю – то ли из какого-то магазина, то ли из «нарпита». «Возьмите, что посчитаете нужным, и дайте нам каких-нибудь продуктов». Баба, здоровая такая, розовощекая, посмотрела по сторонам. «Да ничего мне у вас не надо! Ничего!» Мама: «Вот трюмо, оно старинное, из красного дерева…» – «Ну что, трюмо! Как его нести?!» Мама говорит: «Дайте за него хоть что-нибудь!» – «Ладно. Может быть, я вернусь. Могу дать… Крупы-то я вам не дам, а гороху, может быть, дам». Ушла. Мы сидели, ждали, можно сказать, молились, чтобы вернулась. Потому что есть вообще нечего было. Баба через какое-то время вернулась. С двумя крепкими мужиками. «Трюмо беру за полкило гороха!» Мужики подняли трюмо и унесли. Вот такой был обмен. Мама: «Может быть, еще что-нибудь?» – «А что еще вы можете предложить? Бриллианты? Золото?» – «Нет». – «Все!»
Однажды мама вернулась домой счастливая (это было в 43-м году, вскоре после того, как блокаду прорвали): «Дети, у меня такая удача! Ко мне подошел военный в полувоенной форме, видимо, раненый, или отставной, и продал мне нахально на улице 250 граммов песочку. Сегодня попьем чайку с сахаром». Я никогда не забуду: кулек был такой длинненький, хорошо завернутый. Развернули: слой сахарного песка, а под ним – песок речной. Сколько заплатила мама, я не помню, но – много.
На письменном столе – настольная лампа под желтым абажуром, чернильный прибор, пресс-папье и – осколок снаряда.
Всеволод Инчик:
– Когда начали бомбить Ленинград, я стал собирать осколки снарядов, у меня набралась целая коробка. Мы даже с мальчишками соревновались: у кого больше. Потом все эти осколки куда-то подевались. А этот подобрала Вера Ивановна в 41-м году. Во время дежурства. Все ленинградцы обязаны были дежурить, и в дневное, и особенно в ночное время у ворот дома. По два часа. Параллельно с дворником. С противогазом через плечо, обязательно с карманным фонариком. И мы с отцом дежурили. И Вера Ивановна. Во время ее дежурства разорвался снаряд около Александровского сада. «Осколки прямо у ног моих упали, – рассказывала Вера Ивановна, вернувшись домой. – Этот я подняла, он был горячий». «Только не выбрасывайте, – взмолился я, – оставьте на память». Вот она и оставила. А ведь осколок этот мог оборвать ее жизнь…
Концертная деятельность в блокированном городе не прекращалась. Вот афиши – «Концерт Симфонического оркестра радиокомитета «Работники искусств города Ленина – Фонду обороны» (дирижер Карл Элиасберг) – 12 октября 1941 года, «Праздничные концерты в филиале Театра оперы и балета им. С. М. Кирова» – 6–9 ноября 1941 года, спектакль «Кармен» в Большом зале Филармонии – 19 июля 1942 года… Или еще: «Полгода Великой Отечественной войны» в Капелле, 11 января 1942-го. На афише – крупным шрифтом: «Весь сбор поступит в Фонд обороны». В «литературно-художественном утреннике» (так был определен жанр концерта) приняли участие литераторы Всеволод Вишневский, Александр Прокофьев, Николай Тихонов, Виссарион Саянов, композиторы Борис Асафьев и Владимир Софроницкий, певицы Ольга Иордан, Вера Шестакова… Это был, пожалуй, единственный концерт, когда зал оказался неполон, и в котором приняли участие далеко не все заявленные в афише исполнители.
Очевидец писал:
«Арию Антониды (опера «Иван Сусанин». ВЖ.) «Налетели злые коршуны…» ведет хрупкая молодая певица, вложившая в нее всю силу гнева, горечи и боли русской женщины. Прошлой ночью эта артистка, стоящая сейчас на эстраде в изящном черном платье, в час налета вражеских самолетов тушила зажигательные бомбы…»
Артистов ждали – на фабриках, на заводах, в войсковых частях, на кораблях, в госпиталях и больницах. Сценическими площадками становились производственные помещения, больничные палаты, палубы и грузовики с откинутыми бортами.
В простенке у двери на гвоздике – офицерская шинель.
Однажды Вера Шестакова в составе фронтовой бригады приехала с концертом на передовую. В репертуаре певицы была незамысловатая песенка о фронтовой санитарке «Маленькая Валенька» (музыка Николая Леви, слова Владимира Дыховичного): «Маленькая Валенька, чуть побольше валенка, но зато удаленька… Не берет ее шрапнель – слишком маленькая цель…» Военные перед концертом предложили Вере Ивановне: «Мы дадим вам шинель, санитарную сумку – предстанете перед зрителями в роли санитарки». А после концерта говорят: «Забирайте шинель себе и дальше в ней выступайте». Шестакова привезла шинель домой, но больше в ней не выступала – слишком обременительно было таскать ее с собой. Забросила в диван, обсыпала нафталином. Там и обнаружил ее Всеволод Инчик – уже после смерти Веры Ивановны. Жена и верный помощник во всех его начинаниях Татьяна Викторовна привела шинель в порядок. Она реставрировала все носильные вещи, находящиеся в комнате-музее.