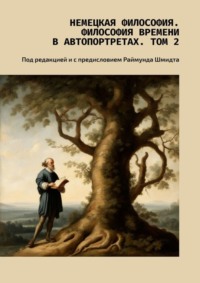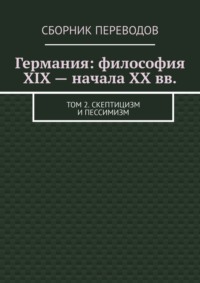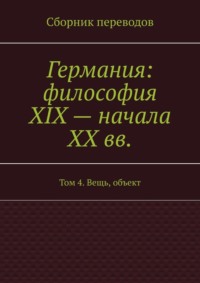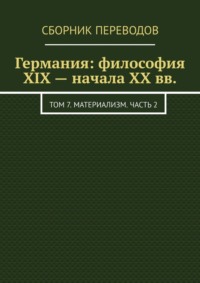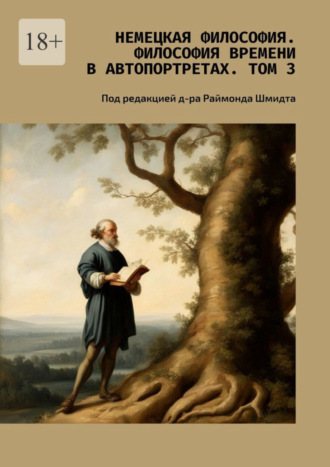
Полная версия
Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 3. Под редакцией д-ра Раймонда Шмидта
Ситуация в арифметике схожа и в то же время несколько отличается от ситуации в логике. Сходство заключается в том, что и в арифметических пропозициях не (как учил, в частности, Милль) различные явления, а различные способы представления идентичных явлений представлены как обязательно связанные; различие же состоит в том, что возможность этих различных способов представления не основана, как там, на данном и неизменном устройстве мысли, а скорее на существовании намеренно введенного, но затем общепринятого и предположенного средства счета, а именно числовой линии. Эта числовая линия (как и ее предшественники и заменители: пальцы рук, палочка с зазубринами и т. д.) – не что иное, как мерило, с помощью которого мы измеряем и сравниваем различные группы явлений по их количеству точно так же, как мы измеряем и сравниваем другие объекты по их длине или весу с помощью метра или килограмма. Утверждение: здесь десять книг, следовательно, означает лишь то, что число этих книг равно числу звуков от «один» до «десять», или (согласно Фреге): эти книги могут быть попарно соединены с этими звуками без избытка; так же как утверждение: эта комната имеет длину iо метров, означает лишь то, что ее длина равна длине iо метровых палок, положенных друг на друга, и может быть приведена к совпадению с ними без избытка. Из этого положения вещей, однако, очень просто объясняется и оправдывается тот факт, что – и в какой степени мы приписываем необходимую и точную обоснованность предложениям чистой и прикладной арифметики. Ибо всякий раз, когда мы применяем произвольно определенный эталон к какому-либо объекту, мы можем аналитически и априорно судить о свойствах этого эталона самого по себе, но только синтетически и апостериорно о свойствах данных объектов, которые мы измеряем с его помощью, и снова аналитически и априорно об отношениях между различными способами выражения этих свойств в этом эталоне: Что нечто 1 м = 10 дм, мы знаем совершенно точно и с совершенной уверенностью; что данный предмет имеет длину 1 м, мы знаем только приблизительно; но что все предметы, имеющие длину i м, измеряются также io дм, мы опять-таки можем знать с совершенной точностью. Точно так же обстоит дело и с арифметикой. Чистая арифметика имеет дело исключительно со шкалой, то есть с рядом чисел как таковым; если она говорит, например, что 7 +5 = 12, то это означает только то, что звуков один, … семь, один, … пять столько же, сколько звуков один, … двенадцать, и она может быть совершенно уверена в этом, потому что это аналитически следует из расположения самосозданного, то есть совершенно известного и неизменного ряда чисел. Но если Кант полагал, что сталкивается здесь с синтетическим суждением, то он забыл включить универсально предполагаемый ряд чисел в понятия отдельных чисел.
В отличие от этой чистой арифметики, прикладная арифметика обращается к эмпирическим явлениям, причем делает это двумя способами. Во-первых, подсчитывая их, то есть соизмеряя их количество со шкалой, присутствующей в числовом ряду; при этом получается («это семь книг») синтетически-апостериорное суждение, претендующее лишь на фактическую обоснованность. И, во-вторых, применяя к опыту не только арифметические понятия, но и арифметические пропозиции, заключая, например, что поскольку 7 +5 = 12, то 7 +5 книг (или что-то еще) также должны быть = 12 книг. Здесь сознание аподиктичности вновь проявляется с полной очевидностью, но опять-таки мы имеем дело лишь с различными способами выражения идентичного факта в одной и той же шкале. Это одни и те же книги, которые мы можем считать как 7 +5 и как 12, то есть которые мы можем суммировать попарно с числовыми звуками один… семь, один… пять и с числовыми звуками один… двенадцать; но сосуществование этих двух возможностей аналитически вытекает из соответствующей чисто арифметической пропозиции и, таким образом, имеет то же доказательство, что и последняя. Это, как мне кажется, в основном решает проблему арифметической определенности; только расширение числового ряда путем введения отрицательных, дробных, иррациональных и мнимых чисел требует краткого комментария. Здесь, после признания неудовлетворительного характера логистического объяснения (стр. 9), будет трудно избежать отвлечений через геометрию; однако эти отвлечения можно критиковать только по эстетическим, но не по логическим соображениям. Ведь если уравнение действительно в чисто арифметическом смысле, то оно действительно, согласно сказанному выше, для любого объекта, а значит, и для отрезков абсцисс; но если оно действительно для них, то все, что можно вывести из него путем геометрических рассуждений, также действительно; и в той мере, в какой это опять-таки происходит в виде уравнений, приравнивающих друг к другу две числовые величины, оно может снова претендовать на чисто арифметическую действительность. Поэтому, при условии более тщательного изучения этих геометрических доказательств, арифметика должна быть признана аналитической наукой.
Если мы теперь обратимся к геометрии, то обнаружим ситуацию, которая в некоторых отношениях похожа на ту, что сложилась для логики и арифметики. Однако важное отличие состоит в том, что здесь в нашем распоряжении для объяснения нет «verae causae», таких как заданное устройство мысли или произвольно введенный стандарт, который мы применяем к опыту, но нам необходимо гипотетическое предположение о психологическом происхождении концепции пространства. Геометрия – это, в конце концов, наука о пространстве: чтобы понять, как возможны суждения об отношениях в этом пространстве, которые делаются с претензией на необходимую и точную обоснованность, мы должны прежде всего знать, что мы на самом деле подразумеваем под этим пространством и как мы приходим к знанию о нем. На эти вопросы, однако, непосредственное самовосприятие дает лишь неопределенный ответ; поэтому оно должно быть дополнено гипотезами, и я полагал (главным образом по психологическим причинам), что должен принять гипотезу Риля, согласно которой наше представление о пространстве изначально основано не более чем на опыте троякого качественного определения наших ощущений движения, которые могут быть произведены произвольно в любой степени (ограничиваясь лишь внешними запретами).
Вопрос о том, являются ли эти ощущения движения центральными или периферическими и вызываются ли они в последнем случае стимуляцией мышц, полукружных каналов или других органов, остается открытым; важно лишь то, что мы чувствуем что-то разное в зависимости от того, приводим ли мы наши конечности в движение вперед или назад, влево или вправо, наконец, вверх или вниз. Но если теперь встать на точку зрения этой гипотезы, то на факты геометрического мышления проливается удивительный свет. Прежде всего становится ясно, что (подобно тому как мы сводим множественность звуков в двухмерную систему, упорядоченную по высоте и силе) мы можем также прийти к упорядочению множественности ощущений движения в трехмерную систему, которую мы называем пространством и в которой каждое различие в составе комплекса ощущений движения представляется различием направления, каждое различие в мере того же самого – различием расстояния. Затем, однако, расчет показывает, что евклидовы аксиомы (дополненные и уточненные исследованиями Гельмгольца и Римана) могут быть выведены в целом (с учетом отдельных вопросов, еще требующих уточнения) как необходимые выводы из фактов, предположенных в этой гипотезе. В самом деле, можно показать, что везде, где n независимых переменных могут быть связаны совершенно свободно, т.е. в любых измерениях и любых соотношениях, обязательно возникают отношения, аналогичные тем, на которых Евклид основывает геометрию. Так, например, для двумерного множества тонов можно привести следующий аналог аксиомы прямой линии: если из тона, определяемого высотой и интенсивностью, получить две серии тонов постоянно возрастающей высоты и интенсивности таким образом, что отношение между увеличением числа колебаний в секунду и увеличением интенсивности колебаний в обоих случаях различно, но постоянно в каждом из них, то ни один тон первой серии не будет равен по высоте и интенсивности тону второй серии. Или для n-кратного определенного многообразия смеси n различных веществ следующий аналог той же аксиомы: Если к количественно определенной смеси n веществ постепенно добавлять из другой смеси, в которой те же вещества содержатся в определенной пропорции, и если в другой раз к той же исходной смеси постепенно добавлять из смеси, состоящей из тех же веществ в другой пропорции, то результат первого процесса ни в один момент времени не будет состоять в той же пропорции, в какой состоит результат второго процесса в любой момент времени.
Все такие предложения имеют аподиктическую и точную определенность; но если полагать, особенно в отношении пространства, что евклидова геометрия должна быть поставлена в один ряд с другими (сферической, псевдосферической и т. д.) как равно мыслимыми, то это предполагает повсюду отсутствие свободы в порождении ощущений движения, ограничение или руководство ими со стороны внешних объектов (как, например, когда человек может только двигать рукой вперед-назад по кривой поверхности). Однако с незапамятных времен геометрия стремилась быть наукой только о пространстве, оставляя внешние объекты физике. Конечно, от геометрии зависит, захочет ли она отказаться от этой точки зрения, исследовать, что измерять вместо шкалы, и таким образом слиться с физикой; эпистемологии остается только установить, что до тех пор, пока она позволяла своим предложениям применяться только к абстрактному пространству, она имела полное право основывать их на априорной определенности евклидовых аксиом.
На данный момент мало что можно сказать о кинематике. Помимо основных понятий арифметики и геометрии, она также использует понятие времени и делает предположения о нем, которые, так же как и те, что относятся к последнему, претендуют на аподиктичность и совершенную точность. Но пока психологическое происхождение понятия времени остается неясным, по вопросу о том, как можно объяснить доказательства этих предпосылок, можно сделать лишь общие предположения. Эти предположения основаны на строгой аналогии, существующей по форме и содержанию между нашими знаниями о пространстве и нашими знаниями о времени. Единственное различие состоит в том, что мы признаем пространство трехмерной величиной, тогда как время – одномерной; в остальном, однако, свойства бесконечности, однородности, непрерывности и постоянства направления присущи обоим в одинаковом смысле, поэтому мы можем сказать о времени то же самое, что и о прямой линии. И поскольку эти утверждения в одном случае также появляются с той же претензией на необходимость и точность, что и в другом, можно с большой долей вероятности сказать, что здесь, как и там, они относятся к субъективному стандарту, который мы не берем из явлений, а применяем к ним. Но наполнить это смутное предположение мыслимым содержанием можно будет только в том случае, если нам удастся сделать данные чувства времени доступными для более точного определения, подобно данным чувства пространства как ощущения движения.
И наконец, эмпирическое естествознание с его основной предпосылкой: причинность. В отношении этой фундаментальной предпосылки мне не удалось продвинуться дальше ответа на вопрос о том, что мы, собственно, понимаем под причинно-следственной связью; другой вопрос, по какой причине и по какому праву мы предполагаем, что такая связь должна присутствовать в каждом изменении, я вынужден был пока оставить нерешенным. Но что касается первого вопроса, то, как уже отмечалось выше, ошибочно полагали, что мы можем обойтись теми фактами мышления, которые играют роль в установлении эмпирических* законов в науке и из которых следует только, что под причинно-следственной связью в любом случае подразумевается регулярная последовательность. Ибо, помимо этих фактов, не следует пренебрегать и другими, которые особенно ярко проявляются при формулировании объяснительных гипотез; но они учат тому, что в науке никогда не довольствуются такими отношениями регулярной последовательности, а стараются повсюду дополнить или истолковать их гипотетически таким образом, чтобы они полностью или, по крайней мере, как можно ближе соответствовали определенным предпосылкам, которые разум делает в отношении причинного отношения. Этими предпосылками являются временной и пространственный контакт причины и следствия, эквивалентность между ними и логическое возникновение следствия из причины в целом (по этой самой причине дополненное на данный момент понятием «природная сила»). И теперь оказывается, что все эти факты каузального рассуждения, как и индуктивного рассуждения в целом, могут быть полностью подчинены гипотезе, выдвинутой сэром У. Гамильтоном, согласно которой под каузальным отношением в основном понимается отношение тождества между предыдущим и последующим. То, что это должно быть именно так, можно было бы предсказать из того простого соображения, что мы требуем причинного объяснения для каждого изменения; ведь если каждое изменение как таковое требует объяснения, то уже сказано, что это объяснение может быть дано в конечном счете только путем устранения изменения, то есть путем отнесения его к чему-то постоянному и неизменному. И это согласуется с тем, что от Фалеса до наших дней все философы и естествоиспытатели исходили из предположения, что в основе изменения явлений лежит постоянная и неизменная субстанция. Однако гипотеза Гамильтона проливает желательный свет не только на процедуру естественных наук в целом, но и на особый характер механики, которая занимает «своеобразное положение между математикой и естествознанием». Невозможно распознать особый характер этой механики, если определить ее просто как науку о движениях и силах; ведь учение о тяготении и учение о магнетизме также имеют дело с движениями и силами, тогда как эти два понятия всегда относились к физике, а не к механике.
С другой стороны, механика всегда ставила перед собой задачу установить общие условия, которым должно удовлетворять любое движение, чтобы подчиняться принципу Гамильтона. Принцип инерции, принцип параллелограмма сил и принцип равенства действия и противодействия гласят лишь о том, что движение без воздействия остается неизменным, что обстоятельства, вызывающие изменение состояния движения, должны быть в состоянии дать полный и точный отчет об этом изменении и что существующий объем движения не может быть ни увеличен, ни уменьшен. Однако предполагается, что не изменение места, а только изменение состояния движения должно рассматриваться как реальное изменение, требующее объяснения, и основания для этого предположения берутся из опыта; но то, что эти результаты опыта обладают степенью доказательности, приближающейся к априорным наукам, но отсутствующей везде в эмпирических науках, может быть удовлетворительно объяснено только тем, что они так точно соответствуют принципу Гамильтона. – Но если после всего этого признать доказательство принципа Гамильтона следующей причиной для научных методов, то проблема, содержащаяся в последних, лишь упрощается и откладывается, но не решается. Ведь именно та основная предпосылка каузального мышления, продемонстрированная Гамильтоном, что во всех изменениях нам открывается неизменное, вновь предстает как синтетическое суждение a priori и как таковое требует объяснения и обоснования. Такое объяснение и обоснование еще предстоит найти, как, например, в случае с нашими априорными представлениями о времени. Можно предположить, что эти две проблемы так же тесно связаны между собой, как и понятия времени и изменения в целом, и что если бы мы знали, что такое время, то знали бы и то, почему все, что происходит в этом времени, должно быть связано с неизменной сущностью. Однако, как бы то ни было, мы можем с уверенностью надеяться, что, подобно рассмотренным ранее проблемам, они тоже окажутся доступными для решения, которое подтвердит уверенность разума, то есть докажет, что то, что представляется нам очевидным, на самом деле не имеет достаточных оснований.
Нет нужды говорить, что все предыдущие рассуждения, несмотря на многочисленные и значительные отклонения в отдельных случаях, в целом движутся в направлении, намеченном Кантом. Это относится как к постановке вопроса и методу, так и к результатам. То, о чем я спрашиваю повсюду, вряд ли можно выразить лучше, чем словами Канта: «Существует чистая (математика и) естествознание: как это возможно?» Чтобы найти или подготовить ответ на этот вопрос, я повсюду старался развивать эмпирико-аналитический метод, который рекомендовал и применял по крайней мере младший Кант (в «Прейссшрифте», в «Диссертации», в «Трансцендентальной эстетике»). И этот метод везде приводил меня к результатам, которые согласуются с результатами Канта в той мере, в какой они приписывают независимое от опыта знание некоторым субъективным факторам, которые, сочетаясь с объективными, накладывают на них свой характер и тем самым делают возможными аподиктические высказывания о них.
Этика 2допускает и требует такого же отношения к себе, как и эпистемология, но с одним отличием. Согласие состоит в том, что, подобно тому как эпистемология должна собрать и упорядочить факты теоретического мышления, этика сначала должна собрать и упорядочить факты морального суждения и проследить их до их общих предпосылок; однако после того, как это сделано, обе науки имеют не одинаковые, а различные дальнейшие задачи.
Факты мысли, как они даны, относятся к независимой от них реальности; каждое суждение утверждает, что содержащиеся в нем идеи или ассоциации идей соответствуют реальности, и поэтому, если в этих идеях или ассоциациях идей есть нечто большее, чем в нашем опыте, связанном с этой реальностью, это требует объяснения и оправдания. Моральные суждения, с другой стороны, оставляют совершенно неопределенным вопрос о том, как устроена реальность; они лишь утверждают, что в той мере, в какой определенные действия, отношения или характеры присутствуют в реальности, они должны оцениваться как морально добрые или злые. Таким образом, проблемы эпистемологии не существуют для этики; и наоборот, этика сталкивается с проблемой, которая не существует для эпистемологии, а именно с проблемой точного определения своего объекта. Ведь если в жизни и в науке мы можем точно сказать, что мы понимаем под словом «истинный» (с. 5), то слово «хороший» мы употребляем с такой же уверенностью, но не так легко можем довести до нашего ясного сознания содержание связанного с ним понятия. Поэтому после того, как установлено, что признается истинным или хорошим в различных областях с осознанием доказательств, эпистемологии остается только исследовать, как то, что признается истинным, может быть подчинено данному общему понятию истинного, тогда как этика может лишь надеяться вывести понятие добра, которое предполагается везде, но остается неясным, из того, что признается хорошим. Но это различие чисто методологическое; если бы обе науки были полными, они одинаково исходили бы из непосредственно очевидного высшего принципа и объясняли бы обилие частных случаев как необходимые выводы из него, или же они исходили бы из частных случаев и могли бы доказать действенность высшего принципа повсюду в них.
Вот и все вступление. Что касается объектов и условий морального суждения вообще, то я думал, что смогу доказать, что в последней инстанции оно никогда не направлено на действия, но всегда только на характер, лежащий в основе этих действий и выводимый из них, принимая во внимание существующие мотивы; и, кроме того, оно не предполагает «свободы воли» в смысле индетерминизма, но, наоборот, весьма решительно детерминизма. Первое особенно ясно из того, что моральная (как и уголовная) ответственность считается приостановленной или уменьшенной везде и только там, где по какой-либо причине (физическое или психическое принуждение, юный возраст, невежество или глупость, одностороннее направление внимания, психические расстройства) умозаключение от действий и мотивов к характеру становится невозможным или ненадежным. И второе можно вывести из первого без лишних слов, поскольку такой вывод, очевидно, может быть сделан только в том случае, если действия, мотивы и характер юридически связаны между собой. Но даже в отдельных случаях мы обнаруживаем, что наша моральная похвала и наше моральное порицание выражаются тем решительнее, чем увереннее мы полагаем на основании поступков данного человека, что в его характере есть сильное преобладание высших или низших наклонностей. Напротив, если определенный поступок не согласуется с тем, что мы знаем или думаем, что знаем о характере агента, мы не приписываем ему этот поступок как неопределенный и «свободный», а считаем его загадочным и требующим объяснения, предполагаем скрытые мотивы и пока воздерживаемся от морального осуждения. Если, таким образом, логическая детерминация поступков характером и мотивами никогда не воспринимается как препятствие в практике морального суждения, а скорее всегда как неизбежное условие возможности этого суждения, то теоретические возражения, которые постоянно выдвигаются против совместимости морального суждения с детерминизмом, вряд ли можно объяснить как-то иначе, чем непониманием смысла этого детерминизма. И действительно, при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что в этих возражениях детерминизм везде путают с отдельными его формами, предполагая, например, что согласно ему все действия вынуждены, или определяются односторонне данными мотивами, или даже просто случайными ассоциациями, а волевая личность не играет в них никакой роли, или только роль праздного зрителя. Но если понять, что именно эта волевая личность, в силу своей природы, обозначаемой именем характера, придает мотивам различный вес, так что один будет придавать большее значение собственной выгоде, другой – долгу, – становится ясно, что детерминизм, отнюдь не устраняя волевой личности, должен скорее признать ее существенным фактором в детерминации действия, единственным, который сохраняется при смене мотивов.
Труднее, чем установить эти общие отношения, определить с достоверностью, что мы, собственно, понимаем под словами «добро» и «зло», т. е. найти тот конечный критерий, которым мы руководствуемся в наших моральных суждениях. Ибо здесь нам предстоит не просто устранить некоторые недоразумения, которые сравнительно легко преодолеть, а выделить из множества и разнообразия моральных суждений, возникающих в разных областях, у разных людей, в разное время и у разных народов, общий принцип, которого непосредственно придерживается каждый проницательный человек и из применения которого к конкретным обстоятельствам и условиям могут быть полностью объяснены производные доказательства этих различных суждений. Чтобы действительно решить эту задачу, потребовался бы огромный психологический, исторический и этнологический материал, из которого в настоящее время нам доступна лишь ничтожная часть; поэтому то, что я выдвинул, – не более чем гипотеза, которая, хотя и оказалась удовлетворительной в некоторых этических обобщениях, уже предпринятых естественной мыслью (понятия «главных добродетелей»), все еще нуждается в срочном подробном изучении повсюду.
Но эта гипотеза (я называю ее теорией объективности) сводится к тому, что чем больше в характере человека проявляется тенденция занимать во всех решениях максимально объективную, надличностную позицию, то есть позволять всем имеющимся данным и интересам высказываться в одинаковой степени, не считаясь с личными желаниями или симпатиями. Согласно краткому выражению Штумпфа, этическое убеждение, таким образом, было бы не более чем объективным убеждением; и ему мог бы противостоять только эгоизм во всех его формах и степенях как радикальное зло, т. е. ограничение воли собственным «я» и тем, что с ним связано. С одной стороны, эту теорию можно найти в древней восточной и греческой философии (Анаксимандр), у Малебранша и многих мистиков, а с другой – у многочисленных философов от Сократа до Канта, признававших определенную связь между рациональным мышлением и моральным действием, которую они сами вряд ли осознавали. Если, с другой стороны, иногда спрашивают, что общего между волевым актом отказа от своей выгоды ради выгоды другого или общества и способностью сделать вывод из определенных предпосылок, то ответ теории объективности заключается именно в этом: достоверность вывода и моральность поступка обусловлены тем, что все имеющиеся данные были приняты во внимание. Теперь возникает вопрос, удовлетворяет ли эта теория, насколько мы можем судить, предъявляемым к ней требованиям; и я полагал, что могу ответить на этот вопрос утвердительно. Ибо, во-первых, мне кажется, что понимание того, что во всех конфликтах более широкая, более всеобъемлющая точка зрения заслуживает предпочтения перед более узкой, то есть что конкретные индивидуальные интересы имеют столь же мало права превалировать над объективными фактами в практических действиях, как и в теоретических суждениях, может, однако, претендовать на непосредственное доказательство, которое не только не может быть доказано, но и не нуждается в дальнейших доказательствах. И во-вторых, как уже отмечалось выше, из этого доказательства можно, по крайней мере в принципе, с условиями и ограничениями, которые будут разъяснены более подробно, без принуждения вывести общепризнанные основные программы действий. Что касается правдивости, то ее можно кратко описать как объективность по отношению к вещам и отношениям в целом; помимо правдивости в речи, она также включает в себя правдивость в мыслях, то есть правдивость по отношению к самому себе, а также пунктуальность в выполнении обещаний, надежность в денежных делах, честность, прямоту и подлинность во всех отношениях. Согласно данной теории, все эти добродетели имеют моральную ценность не как средство достижения цели, лежащей вне их самих, а сами по себе, поскольку свидетельствуют об отношении, для которого мотивы, вытекающие из дела, имеют более весомое значение, чем те, которые относятся только к личности.