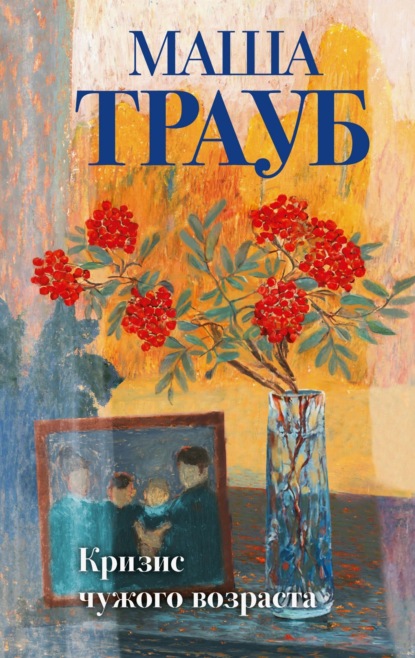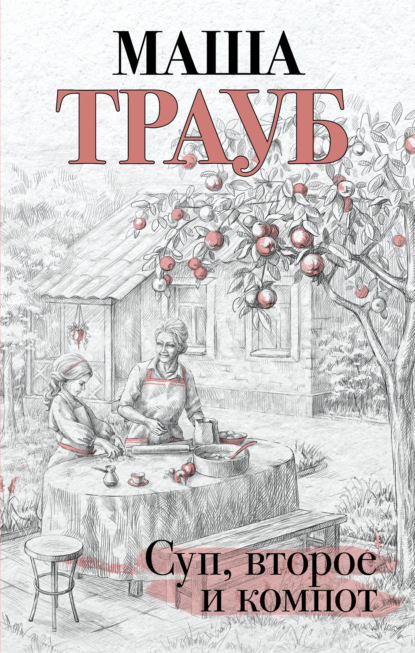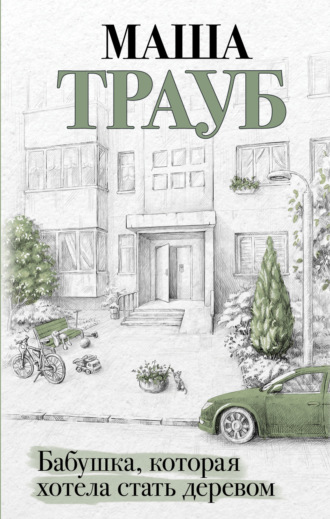
Полная версия
Бабушка, которая хотела стать деревом

Маша Трауб
Бабушка, которая хотела стать деревом
© Трауб М., 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Одна живая девочка
Моей дочери два года. Маленькая девочка с косичками. Она стояла в прихожей и смотрела на меня очень внимательно, строго, не улыбаясь. Указательный и средний пальчики на правой руке переплела. И поджала пальчики на ногах, как птичка на веточке, – это у нее такая привычка. Я вдруг вспомнила. Хотя что значит – вспомнила? Я и не забывала ту ночь. И вряд ли когда-нибудь забуду.
Необязательно находиться на краю гибели, чтобы вся жизнь промелькнула перед глазами. Для этого достаточно носить ребенка.
Мы с мужем очень хотели эту девочку. Она была нам очень нужна. Я все делала для того, чтобы она родилась здоровой. Страхи беременной женщины – это что-то чудовищное. Они идут изнутри, из утробы, и с ними ничего нельзя поделать. Потому что невозможно заглянуть внутрь живота и посмотреть в глазки – больные? Невозможно потрогать лобик и ручку – горячие? Меня мучили два страха – гипоксия и резус-конфликт. Так было с сыном, которого я сохраняла всеми возможными и невозможными способами: мальчику не хватало воздуха, он задыхался, а мой организм не хотел его принимать, считал чужим. Я и мозгами, и душой отказывалась понимать, как такое вообще может быть. И почему это случилось именно со мной? Сына я выносила, вылежала, выпросила у всех богов, в которых готова была в тот момент поверить.
С девочкой – а я уже знала, что это девочка, – все складывалось хорошо: ни гипоксии, ни резус-конфликта благодаря появившейся за минувшие годы вакцине. Ей было хорошо, она росла и развивалась. Сосала пальчик, била ногой мне в ребра, выставляла пятку, которая просвечивала сквозь живот. Или это была не пятка, а голова или попа?
Я поехала на очередное обследование – плановое УЗИ. Врач водила по животу, размазывая холодный гель, и хмурилась.
– Что там? – замерла я.
– Все хорошо, – ответила она таким тоном, каким врачи говорят «хорошо», когда очень-очень плохо. Она ушла и вернулась с коллегой. Коллега смотрел в монитор и хмурился. Я запомнила, что у него на пальце был перстень. Большой золотой перстень, который мне совсем не понравился. Даже раздражал.
– Да? – спросила его врач, которая вела мою беременность.
– Угу. – Доктор без тени сомнения ткнул пальцем в экран.
– Что там? – повторила я.
Доктор с перстнем вышел – мол, объясняйся со своей беременной сама. Я в тот момент почему-то сосредоточилась на деталях, совершенно неважных и ненужных. Моя врач младше меня на несколько лет, у нее рыжие волосы, она красивая молодая женщина и так посмотрела на своего коллегу, что у них наверняка мог бы случиться роман. Или уже случился. Почему-то тогда я думала не о себе, не о том, что они увидели на мониторе, а о том, как она снимает халат, надевает джинсы и идет в кафе с этим доктором – смеется его шуткам, улыбается собственным мыслям и строит планы на будущее. И почему-то тогда мне совсем не хотелось, чтобы она шла с ним в кафе и строила планы – он слишком категоричный, жесткий, властный. И еще этот дурацкий перстень. Этот мужчина ей совершенно не подходит. Она добрая, нежная, не растерявшая эмпатию. А еще умная.
– Завтра утром приезжайте еще раз. К восьми утра. Здесь будет врач, которая на этом специализируется. У нее глаза хорошие. Она видит то, чего никто не видит, – услышала я голос своего врача.
– Что там? Мне нужно знать, – настаивала я.
– Давайте завтра еще раз посмотрим… – Она не хотела мне говорить.
Я молчала и не вставала с кушетки. Из скупых медицинских терминов, которые я бы никогда не смогла повторить, поняла, что у моей девочки что-то с головой. С мозгом. И возможно, она не родится. А если и родится, то больной. Умственно отсталой.
– Пожалуйста, только не залезайте в интернет. Не надо ничего читать. Приедете домой, погуляйте и ложитесь спать. Утром все будет понятно. Не опаздывайте, – сказала врач, и я еще раз убедилась, что эмпатия все же свойственна умным людям. Дураки на это не способны.
До дома я ехала с включенной аварийкой в крайнем правом ряду. Боялась, что вообще не доеду.
Мужу я сказала, что завтра нужно съездить к другому врачу, убедиться, что все хорошо. Я знаю, когда он волнуется за меня, начинает потирать ребра под сердцем. И в этот момент я понимаю, насколько сильно он меня любит. Иногда я прошу его сказать мне «хоть что-нибудь». Он не понимает, что говорить, когда вон там, под ребрами, начинает ныть. И сердце колотится как молот. И вдохнуть тяжело. Зачем нужны слова? Я знаю, что он отдаст руку, ногу, почку, всего себя, лишь бы были здоровы я и дети – сын, который никак не мог осознать, что в животе у его мамы сидит еще один человечек, и эта маленькая девочка уже все умела: и улыбаться, и хмуриться, и чувствовать.
Я не стала включать компьютер. Как велела врач, погуляла и рано легла, будто от четкого соблюдения рекомендаций могло что-то измениться. Уснуть не получалось. У меня оставалась ночь, чтобы принять решение. Вариантов было два – если диагноз подтвердится, беременность нужно прерывать. Если нет – пить витамины, читать журналы про материнство и кормить белочек в парке. Имелся еще один вариант – не верить врачам, аппаратуре и надеяться на чудо. Почему-то мне казалось важным принять решение именно в тот вечер, в ту ночь. И быть готовой ко всему. Проблема была в том, что я не верю в чудеса. В достижения науки, в квалификацию врача верю, а в чудеса… Не знаю. Мне всегда хочется найти рациональное объяснение.
Сначала я мысленно разговаривала с мамой, советовалась. Почему-то в трудные моменты мы друг другу не звоним, а предпочитаем общаться мысленно. Мама до сих пор разговаривает с бабушкой, спрашивает совета. Бабушки давно нет в живых, а мама каждый вечер говорит ей: «Добрый вечер, мама. Как ты? Как твое здоровье?» И дальше рассказывает о делах – что посадила ромашки, что внук приедет на каникулы, что нужно дом покрасить.
«Мама, что мне делать?» – спросила я, глядя в потолок. «Не знаю, Манечка, не знаю, – ответила мама. – Ты уже большая, умная, ты все правильно решишь». – «Ты тоже через это прошла!» – «Что ты, совсем другое время было».
Мама ходила беременная, ждала меня. И вдруг днем на работе сорвалась с места, никого не предупредив, и поехала в Институт акушерства и гинекологии, который находился в двух автобусных остановках от ее работы.
– Мне нужно, – заявила она в регистратуре.
– Женщина, у нас с улицы не принимают! – воскликнула медсестра.
– Меня примете, – оборвала ее мама.
У нее есть уникальные способности, мне они не передались. Мама чувствует и умеет убеждать людей. Она всегда добивается того, что ей нужно в конкретный момент. Может, это разновидность гипноза, может, ей попадаются внушаемые люди, может, это от нее исходят такие импульсы, что проще согласиться.
Мама вдруг почувствовала, что я не шевелюсь. Прислушалась, подумала и поехала в этот институт. Она знала одно – только там есть специальный прибор, который приставляют к животу, и он транслирует удары сердца. Передает звук. В трубку, которой ее прослушивала врач, мама не верила, а этому почти мифическому аппарату – верила. Ей казалось, что она непременно должна услышать, как бьется мое сердце. Своими ушами, а не ушами доктора.
Ее действительно приняли, и она услышала, как бьется мое сердце.
– Все равно что-то не так, – не успокаивалась она.
Профессор, которая подключала к ее животу аппарат, оказавшийся обычной черной коробочкой, уверяла, что «все так». Но мама не верила. Наверное, ей коробочка не понравилась. Я ведь тому доктору с перстнем тоже не поверила. Исключительно из-за перстня.
Через два дня мама ехала из библиотеки в автобусе, с книжками, перевязанными бечевкой, – она писала диссертацию. Автобус шел мимо роддома.
– Остановите, остановите! – закричала она водителю.
– Не положено, – ответил тот.
– Мне положено, – проговорила мама твердо и посмотрела ему в глаза. Он нажал на тормоз, так что все стоящие люди чуть не попадали. Только мама стояла как вкопанная. Она вышла и направилась в роддом.
– Сейчас я буду рожать. За книжками моими присмотрите. Они библиотечные, – велела она медсестре.
Та посмотрела на нее как на сумасшедшую и возмущенно затараторила:
– Женщина, вы вообще из какого района? Где ваша карта? Какой срок?
– Я вообще к вам, идите за врачом. – Мама зыркнула на медсестру так, что она побежала туда, куда ее послали.
Я родилась через полтора часа. Восьмимесячная. Недоношенная. Доктор смотрел на маму с интересом, а медсестра прижимала к груди стопочку ее книжек.
– Если возьмет грудь – выживет, – сказал маме врач. – А пока в кювез.
В этот момент я открыла глаза и посмотрела на маму, а она на меня.
– Грудь возьмет. Выживет, – пообещала то ли мне, то ли врачу мама.
И опять оказалась права.
Пока я была в кювезе, мама сцеживалась. Молока оказалось много, грудь наливалась и болела. У маминой соседки по палате не было молока, и ее ребенок, мальчик, плакал, а женщина, тоже заливаясь слезами, терзала свою пустую грудь. Мама встала, подошла к ней, забрала ребенка, он жадно присосался к огромной груди и зачмокал. Его мать продолжала плакать. Мама кормила ее сына все положенные часы кормления. Все дни, что они провели в роддоме. Медсестра приносила сверточек и сразу отдавала его маме. Она заранее мыла грудь над раковиной, вытирала полотенцем и прикладывала чужого ребенка. Малыш разъел соски, и после кормления мама мазала грудь зеленкой – тогдашним средством «от всего». После кормления отдавала ребенка его матери, и та качала спящего сытого сына, капая на пеленку слезами.
При этом мама со своей соседкой по палате почти не разговаривали. Даже совсем не разговаривали. Мама всегда так себя ведет, когда думает или очень волнуется – замолкает, немеет. Женщина приняла это молчание и не лезла с разговорами. Со стороны это, конечно, смотрелось странно – молчаливое кормление, передача ребенка, слезы у одной и плотно сжатые губы у другой. Но им было наплевать на всех остальных мамочек, которые болтали, обсуждали мужей и свекровей, перебирали имена для новорожденных. Мама и ее соседка по палате понимали друг друга без слов и вели молчаливый диалог. Соседку выписывали раньше. Мама нацедила для нее две бутылочки «в дорогу», и еще несколько пакетиков лежали замороженные в холодильнике в коридоре. Должно было хватить, пока не купят смесь.
Муж соседки привез на выписку конфеты, коньяк и цветы для медсестер и врачей.
– Скажи – что? – спросила женщина у мамы, потому что уже поняла, что деньги, духи и все остальное она не возьмет.
– Билет в СВ, – ответила мама. Билеты тогда можно было только «достать», а об СВ – только мечтать.
– Куда? – уточнила женщина.
Мама назвала место, которое было отмечено не на каждой карте.
– Будет, – пообещала женщина.
Мама кивнула и передала ей сына, которого покормила в последний раз.
Через неделю она проснулась, посмотрела в больничное окно, потом на тумбочку, где лежал билет, и решила, что нам пора. Она пошла к врачу и сказала, что забирает дочь и едет домой. Врач отвлекся от бесконечной писанины и снял очки.
– Ну знаете… – развел он руками. – Таких рожениц в моей практике еще не было. Вы хоть понимаете, что рискуете здоровьем своего ребенка? Что у нас температурный режим, что она на капельнице? Не пущу.
– Пстите. Под расписку обязаны. – Мама была непреклонна. Врач с ней не спорил. Тоже, кстати, удивительный факт. Впрочем, они друг друга поняли еще в тот момент, когда она меня рожала. Маме понравились очки доктора, перевязанные в том месте, где дужка, веревочкой.
– Почему вы новые очки себе не купите? – спросила она между схватками.
– Не хочу. Мне эти нравятся, – ответил врач.
Мама всегда вспоминала, что у того доктора были очень красивые морщины, круги под глазами, которые ему удивительно шли, и теплые руки.
– Он тебя так держал, когда ты родилась, будто сокровище, – рассказывала она мне. – Было видно, что ты ему нравишься. Он тебя рассматривал, как картину.
– Девочка красавица, как мама. И характер такой же, – объявил он, кладя меня ей на живот. – Очень своевольная девочка.
– Доктор, а у вас есть дети? – спросила мама.
– И дети, и внуки. Только я им не нужен. Они уже взрослые. А вот этим, – он одним пальцем погладил меня по голове, – нужен.
Мама написала расписку: «Получила одну живую девочку. Дата, подпись» – именно в такой чудовищной формулировке – и поехала домой. Из дома она позвонила своей маме, моей бабушке, которая жила далеко, в северокавказском селе, и сказала, что приедет. Не одна, с внучкой. Бабушка, которая собиралась к маме на роды через месяц, упала в обморок рядом с телефоном.
В селе все новости разлетаются быстро. К тому моменту, когда мама вышла из вагона – поезд стоял две минуты, – все было готово к ее приезду. Меня положили в узенькую деревянную люльку с прорезью, куда вставлялась баночка для мочи. Люлька была выложена овечьими шкурками для тепла.
Дома у бабушки, помимо люльки, лежали выстиранные и выглаженные пеленки. На столе горой – погремушки, рукавички, чепчики, одеяла. Отдельной стопочкой сложены ползунки и распашонки. Все принесли соседи.
Рождение ребенка… То, что может сделать маленький человечек, не может сделать никто. Когда мама зашла в дом, там сидела бабушкина двоюродная сестра – тетя Варя. Они с бабушкой не разговаривали десять лет, хотя жили в пяти минутах ходьбы друг от друга. Это была давняя обида, о причине которой никто не помнил. В памяти остались какие-то дурные, глупые обвинения, слова, сказанные в запале. На самом деле они любили друг друга, только не знали, как помириться. Каждая боялась, что сестра не примет, не простит.
Все двое суток, пока мама ехала в поезде, тетя Варя мыла, стирала, гладила. Она пришла к бабушке, кивнула ей, повязала фартук и начала готовить дом. Она же принесла огромную, набитую пухом подушку для меня. Подушку сшила заранее: перебирала пух, сушила, встряхивала, строчила наволочку. Хотела подарить бабушке сначала на день рождения, потом на Новый год, но все не решалась. Она так и пришла – с подушкой в обнимку.
На этой подушке я засыпала мгновенно, после чего меня перекладывали в люльку.
Тетя Варя приносила отвары и собранные в пакетик ромашку и череду – чтобы купать, чтобы не было опрелостей, чтобы животик не болел, чтобы сон был спокойным. Только тетя Варя умела иглой так дырявить соски, чтобы ребенок наедался и не захлебывался. Только она, бездетная, умела туго пеленать, превращая пеленочный кокон в аккуратную гусеничку – в селе считали, если девочку правильно пеленать, ножки будут ровненькие. Тетя Варя знала немыслимое количество колыбельных. И она же принесла здоровенный рулон марли – сумасшедшая, немыслимая роскошь, – чтобы накрывать коляску от комаров, процеживать отвары, подкладывать под пеленку. Подгузников, как и прокладок, тампонов, бандажей для беременных, компрессионных чулок, тогда не существовало. Сейчас я удивляюсь специальным курткам-трансформерам для беременных с подстежкой для растущего живота, отдельным конвертам для ребенка, который находится у груди – и маме, и ребенку тепло и спокойно. Муфтам на колясках я особенно завидую – везешь коляску, и руки остаются в тепле.
Тогда же тетя Варя отрезала кусок марли и стирала его в десяти водах, пока ткань не становилась мягкой, как шелк, если такое вообще возможно представить.
Приходила бабушкина старая подруга – известная на всю округу гадалка Варжетхан. Она бросала бобы и читала заговоры. Она же повязала мне на руку красную шерстяную ниточку – от сглаза. И она же положила под подушку ножницы – чтобы отгонять злых духов. Ни бабушка, ни мама, ни тетя Варя не верили в эти заговоры и приметы, но молчали, не вмешивались. Даже когда Варжетхан велела маме сидеть над кроваткой и повторять фразы – банальные, простые, даже примитивные: чтобы дочка росла здоровой, чтобы была счастливой, чтобы хорошо росла и спала, чтобы зубки не мучили, – мама слушалась. Сидела и повторяла. И прибавляла: «Я тебя люблю, очень люблю». Варжетхан – старая усатая гадалка с больными ногами – знала про материнское биополе, силу материнской мысли. И это заклинание, что удивительно, работало.
Маму эти три женщины укладывали спать, напоив успокоительным отваром. Кормили творогом и заваривали чай с травами, чтобы молоко не убывало. Но главное – они оградили ее от всех забот. И это главная помощь молодой маме – хотя бы на время позволить ей не думать о быте, готовке, уборке. Дать возможность думать только о себе и ребенке.
Через полгода я ела пюре из абрикосов, которые бабушка срывала с дерева, а тетя Варя терла на самой мелкой терке, ела кашу на молоке от соседской козы и пила колодезную воду, которую грели на солнце.
Мама вернулась со мной в Москву, когда я уже вовсю бегала. Она приехала в роддом и попросила вызвать врача. Еще издалека заметила, что тот очень постарел за этот год. Шел тяжело. Морщин стало больше, но они ему по-прежнему очень шли. Очки были новые, и доктор все время поправлял их пальцем, будто хотел смахнуть, как соринку, попавшую в глаз.
Мама поздоровалась, но он на нее даже не посмотрел. Присел на корточки и смотрел только на меня.
– А я тебя знаю, – сказал он мне.
Я насупилась и спряталась за мамину ногу.
– Иди ко мне, девочка, – позвал доктор.
И я пошла к нему. Он поднял меня на руки – мама видела, что ему тяжело – и пощекотал.
– Девочка… – ласково пропел доктор, – ты красавица. Спасибо вам. Спасибо, что приехали, – обратился он наконец к маме. – Я о вас не забывал. И знаете что? Вы меня не подвели. Я знал, сразу понял, что вы очень необычная женщина.
– Вы болеете? – спросила вдруг мама.
– Да, немного. – Доктор улыбнулся. – Деточка, я старый человек, у меня должно быть много болячек.
– Не волнуйтесь, вы не умрете, проживете еще много лет. Работать не будете, но жить будете, – сказала мама, взяла меня за руку и ушла, не прощаясь.
Доктор стоял и смотрел ей вслед. Он улыбался и даже забыл про свои новые очки.
– За тот год, твой первый год, я прожила целую жизнь, – рассказывала мама. – В ней было все – и горе, от которого останавливается сердце, и счастье, от которого сердце опять перестает биться. Ребенок – это твоя жизнь. Ты – моя жизнь.
…Врач с уникальными глазами оказалась пожилой. Я опять лежала на кушетке и рассматривала ее седину – белые до рези в глазах полосы на черных волосах. У нее было красивое имя – Гелена, Гелена Ивановна. Я запомнила не потому, что от нее зависели моя жизнь и судьба моего ребенка, а потому, что удивилась: надо же – Гелена Ивановна. Наверное, в детстве ее звали Геля, а в школе и институте всегда путали, называя Еленой.
– Все хорошо, – удивленно обратилась она не ко мне, а к моему врачу, которая стояла рядом. – Ничего такого не вижу.
– Я знаю, – отозвалась я.
В эту ночь, точнее в те два часа, на которые мне удалось задремать, я увидела во сне девочку, которая стояла и внимательно на меня смотрела. Она переплела пальчики на руке и поджала губки. Во сне я знала, что это моя дочь, она обязательно родится и будет именно такой – с кудрявыми волосиками, пухлыми губками и карими глазками. А еще тогда я услышала мамин голос: «Варжетхан говорила, что у меня будет двое внуков».
– У вас есть дети? – спросила я вдруг у Гелены Ивановны.
– И дети, и внуки, – улыбнулась она.
– Это хорошо, – сказала я.
– И у тебя будут и дети, и внуки.
– Обещаете? – рассмеялась я.
– Обещаю, – ответила ласково врач.
И я ей поверила. Сразу. Наверное, потому, что мне понравилась ее седина. Мне захотелось стареть так же – чтобы была такая же красивая белая проседь, такие же невероятно красивые морщины и непременно работать, пока есть силы. Дарить счастье, которое совершенно невозможно измерить ни по какой шкале, вычислить математически. Знать, что у твоего ребенка все хорошо, – это счастье абсолютное. Мгновение, за которое можно отдать целую жизнь.
В роддоме перед выпиской я под диктовку медсестры писала расписку: «Получила одну живую девочку. Дата. Подпись». Писала и вспоминала маму, теперь дважды бабушку. А моя девочка, как будто в подтверждение того, что она живая, орала на весь роддом.
Жизнь в аренду
Как же я хотела домой. Последние дни были совсем невыносимы, до слез. Казалось бы, ну что плохого? Вокруг красота, виды, все удобства. Живи и радуйся. Но вдруг организм дает понять, что подушка – не твоя и на ней лежало бог знает сколько голов. Кондиционер установлен так, что дует прямо в шею, отчего та болит уже неделю. Продуло. Выключишь кондиционер – вообще не уснешь. Жарко, влажно, душно.
О, нашла на что жаловаться! Кондиционер ее не устраивает. Ну поставь вентилятор. Поставила. Гудит, тарахтит. Не сон, а кошмары из детства. В моем детстве, когда слова «кондиционер» никто не слышал, гудели вентиляторы. Маленькие, бессмысленные, на массивной подставке, отчаянно ревущие, как машина с барахлящим глушителем. Или чудо из чудес – вентилятор на потолке, часть люстры – огромной, массивной. Лопасти большие, как и плафоны. У кого какие фобии, а я всегда боялась, что эта люстра однажды упадет мне на голову, потому что ее не выдержит потолок. Люстра с вентилятором подразумевала высокие потолки, с лепниной, что-то фундаментальное, а не хлипкие конструкции панельной пятиэтажки. Чтобы включить вентилятор, надо дернуть за шнур. Дергать аккуратно, нежно, столько раз уже обрывали! Шнур, в отличие от люстры, так себе – шнурок с пластмассовой пимпочкой на конце. Совсем непрезентабельный. Будто фантазия дизайнеров закончилась на плафонах в виде цветов ужасающих размеров, а шнурок приделали абы как. Если шнур рвался в середине, его аккуратно связывали и дергали непременно над узлом. Нижняя часть становилась декоративной, как и пимпочка, не пойми зачем нужная. Находились хозяйки-умелицы, которые шнур не связывали, а сшивали, чтобы было незаметно. Но все равно на всякий случай дергали выше шва. Иногда, точнее очень часто, эти люстры вышибали пробки. Но пробки поменять проще, чем люстру, доставшуюся за огромные деньги и благодаря знакомству с директором магазина.
Потолочный вентилятор тоже гудит. Лопасти крутятся вяло, нехотя, будто делая одолжение. На этой же люстре висит липкая лента от мух, которую давно стоило бы сменить. Заснуть опять не получается – лежишь и смотришь на медленно вращающиеся лопасти и трупы насекомых, густо прилепленных к ленте. И ведь можно встать, сорвать ленту, выключить вентилятор, дернув сильно, чтобы непременно сорвать шнур, открыть окно, но сил нет, да и желания тоже. От жары чувствуешь вялость, одурь, которую даже холодный душ смывает лишь на короткое время. Жара отупляет, ничего не хочется, становишься безвольным. Любое действие, движение требует усилий и договоренностей с самим собой. Проще не начинать – внутренний голос молчит, как и здравый смысл и инстинкт выживания. Вставать не хочется, снимать мокрую ночнушку тоже – ведь в недрах шкафа придется искать чистую, свежую. Какой смысл, если все равно надевать на мокрое от пота тело? Опять же, завтра стирать две ночнушки, а не одну. И не в стиральной машине, а на руках хозяйственным мылом. Надо, кстати, купить новое. Лучше доспать уже в этой, мокрой. Приготовить поесть? От одной мысли становится нехорошо – стоять у плиты в такую жару. Лучше не есть, да и не хочется. Попить воды? Опять нет сил. Надо дойти до кухни. Несколько шагов, которые кажутся невыносимыми. Заставить себя, пойти взять стакан, поставить на тумбочку… Нет, лучше дождаться утренней прохлады.
Уже утром, в пять часов, выскочить из ночной одури в прилипшей к телу ночнушке, уже почти высохшей, с пересохшим ртом побежать на кухню, чтобы наконец напиться. Потом долго лежать без сна и провалиться в дремоту ближе к семи утра. А в восемь в окно начинает бить солнце. От него не скроешься ни за какими занавесками, так что приходится вставать, вяло тащиться на кухню, пить вчерашний кефир или жарить яйцо. Побыстрее, не дожидаясь, когда прожарится, потому что сил нет никаких. И так каждый день. Вечером, вместе с вечерней прохладой, наступает эйфория – хочется жить, есть, пить, гулять. Но не хватает ума поставить стакан воды на тумбочку, занавесить окна, набросив на карниз одеяло, выключить вентилятор, открыть форточки во всей квартире, протереть полы мокрой тряпкой, дав им высохнуть. Наконец, намочить простыни и развесить мокрыми в спальне – чтобы появилось хоть подобие влажности. И очередная ночь становится кошмаром с приступами удушья, часами бессонницы.
Считается, что дети, устав от жары, дневной беготни, засыпают как убитые. Я в детстве спала урывками, по несколько часов. Приткнувшись днем на диване на кухне, где вдруг ветер начал сдувать занавеску. Или засыпала ближе к утру, когда на некоторое время тягучая духота сменялась прохладой. Или вечером на раскладушке, стоявшей на улице, под деревом, что всегда плохо для меня кончалось – я просыпалась от жуткого зуда по всему телу, покусанная комарами. Фумигаторы, кремы от зуда? Никаких фумигаторов тогда не было. Послюнявь палец и помажь место укуса – великий рецепт моего детства. А еще в памяти осталась присказка, мол, комары любят кусать детей, потому что у тех кровь сладкая и чистая. Взрослых кому хочется кусать? К счастью, про вампиров тогда дети не знали, но комары вполне заменяли этих персонажей в кошмарных снах.