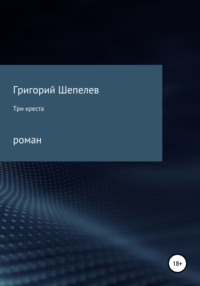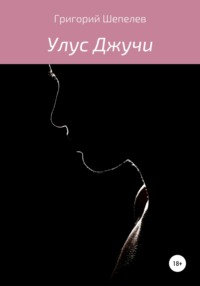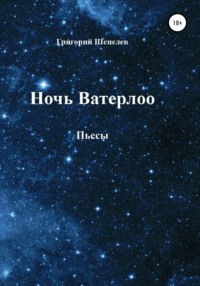полная версия
полная версияПолная версия
Холодная комната
Подплывая к плёсу, она увидела человека и двух собак, идущих к реке от хутора. Человек хромал. Это был Микитка со своей домрой. Обрадовавшись, Ребекка свернула к берегу. Девка и пономарь, заметив Микитку, остановились. Микитка, наоборот, ускорил шаги, увидав Ребекку. Он сразу понял, что с ней случилась беда.
Выбравшись на берег, Ребекка стала отжимать платье. Борзые к ней подбежали с радостным тявканьем. За пять дней, проведённых в хуторе, она крепко с ними сдружилась.
– Ты что, упала с обрыва? – спросил Микитка, приковыляв. Ребекка ответила утвердительно, наблюдая за теми, кто собирался её зарезать. Они не двигались с места. Однако, когда Микитка взглянул на них, пошли к хутору.
– Натрави-ка на них собак, – сказала Ребекка. Микитка был удивлён.
– Ты это серьёзно?
– Нет, пошутила. Микитка, слушай! Ты не дойдёшь со мной до обрыва?
– Могу дойти. А зачем?
– Да скрипку я там оставила со смычком!
Побрели к обрыву. Девка и пономарь шли по луговине, не оборачиваясь, и вскоре достигли хутора. Солнце село. Микитке было трудно идти. Он волочил ногу и опирался на руку своей попутчицы.
– А зачем пошёл ты к реке, если у тебя нога так болит? – спросила Ребекка.
– Люблю играть около реки. Никто не мешает.
– Так ведь никто и не слушает!
– Иногда играешь не для того, чтоб слушали.
Тут Ребекка спорить не стала. Скрипка, не пострадавшая от удара о лицо девки, грустно лежала среди ромашек. А вот смычка видно не было. Он, должно быть, полетел в омут вслед за Ребеккой.
– Да я другой тебе сделаю, – посулил Микитка, – скрипку не смог бы сделать, а смычок сделаю.
Они сели на край обрыва, свесив ноги к реке. Сумерки сгущались. Микитка нежно перебирал тугие и звонкие струны домры. Его собаки сидели рядом, нюхая ветер.
– Прости, что я тебя слушаю, – с грустью глядя на Днепр, ставший свинцовым, проговорила Ребекка, – но мне нельзя одной идти в хутор.
– Это я уже понял.
Больше они ни единым словом не обменялись, пока не поднялись на ноги. А сидели они до глубокой ночи. Микитка тихо играл. Ребекка смотрела в страшную глубину степей, подёрнутую туманом, синим от света месяца, и с тоской вспоминала всю свою жизнь. Ей было что вспомнить. Собаки не шевелились, также храня безмолвие. В их глазах, казалось, было целое море чувств – и к Микитке, и к той, которая с ним сидела, и к необъятной, безмолвной красоте ночи.
Идя обратно, замёрзли – ветер дул с севера. Псарь довёл спасённую им скрипачку до дверей панской хаты, хоть каждый шаг давался ему с трудом.
– Спасибо, Микитка, – сказала ему Ребекка, прощаясь с ним. Он молча кивнул и зашагал к псарне, рядом с которой жил. Оба его друга, прежде чем побежать за ним, старательно облизали руки Ребекки.
На другой день Ребекка и панночки пошли в баню, прихватив карты, горилку и натопившего баню хлопца, хоть тот был против. Он, впрочем, вырвался, когда они стали силой снимать с него шаровары, и убежал с такой быстротой, что даже Ребекка сочла погоню лишённой смысла, тем более что она уже была голая.
– Леший с ним, – сказала она, закрывая дверь, – пускай идёт к дьяволу, если дурень!
Вдоволь напарившись и хлебнув по чарке горилки, девицы сели за карты.
– Поп приказал Ивасю засечь тебя завтра до смерти, – сообщила Ребекке Лиза, кроя её туза козырной шестёркою, – но не бойся. Мы, пока ты утром спала, сказали Ивасю, что если хоть одна капля крови из тебя вытечет, ему будет от нас большой мордобой.
– Кого ж он послушает?
– Да неужто попа? – вскричала Маришка, – дурак он будет, если его послушает!
– Значит, если Ивась дурак, то мне – смерть?
– Да не бойся ты, – махнула рукою Лиза, – я буду рядом стоять и глядеть, чтоб он не перестарался. А ты, знай, ори как резаная!
– А главное – хорошенько на ночь нажрись гороху, – дала совет и Маришка, – тогда Ивась не захочет долго тебя пороть.
Ребекка осталась дурой, чего ни разу доселе не было. В соответствии с уговором, панночки стали проделывать с нею то, что она сто раз вытворяла с ними, когда выигрывала. Теперь ей пришлось несладко. Она протяжно стонала, смертно закатывая глаза. Маришка и Лиза были в восторге.
– Вот это да! – визжала Маришка, – вот это да!
– Давай жеребца сюда приведём! – предложила Лиза, сидя на корточках.
– Испугается жеребец!
Ребекка осталась дурой трижды ещё, и всякий раз Лизе было всё неприятнее наблюдать за своей сестрой. Когда наступала очередь её, Лизы, Маришка не отходила, а начинала лезть с другой стороны, притом так, что Ребекка тотчас переводила внимание на ту сторону. Наконец, Лиза не стерпела – взяла ушат ледяной воды и вылила сестре на спину. Подрались.
Очень любопытная вещь вечером случилась и в хате. Ясина не сала ужинать. Вместо этого она бухнулась на колени перед иконостасом, в центре которого был Никола-угодник, и начала отбивать земные поклоны, шепча молитвы распухшими после сеновала губами. Длилось всё это час, и никогда прежде такого не было. А на ужин подали борщ, большой пирог с курицей и вареники со сметаной. Ребекка и госпожи, сидя за столом, всё это сожрали, внимательно наблюдая за новой выходкой буйной вдовушки. На ночь та решила остаться с ними. Она легла, по обыкновению, в спальне сотника. Ей там нравилось спать одной – рядом с приоткрытым окном, за запертой дверью, не пропускавшей шорохи, и она ничего не имела против того, что трём буйным барышням очень нравится спать втроём. Ребекка, прежде чем лечь, подпёрла дверь хаты печным ухватом и сунула под подушку нож.
Наступила ночь, а за ней – суббота. Три барышни пробудились от запаха блинов с творогом, за которые сразу же и взялись, как будто неделю их не кормили. Потом оделись, не обменявшись ни словом. За ночь успели они два раза поссориться. На конюшню Ребекка пошла с Маришкой. Младшая панночка, у которой под глазом стоял синяк от давешней драки в бане, осталась дома. Ясина, вставшая раньше всех, была уже на конюшне, прежде успев куда-то ещё сходить. День выдался пасмурный. Из степи, волнуемой ветром, тянуло сочным чернобылем (полынь). Приближаясь к конюшне, старшая панночка и Ребекка увидели полтора десятка мальчишек, приникших к окнам её. Когда подошли, дверь вдруг распахнулась. Навстречу им вышла девка с красивым, наглым лицом и в одной рубашке. Это была прислужница попадьи, пытавшаяся в четверг Ребекку зарезать. Теперь из глаз её текли слёзы, а губы были искусаны. Бросив взгляд на Ребекку, но будто и не узнав её, служанка бегом кинулась к поповским воротам. Рубашка ниже спины у неё пропиталась кровью и липла к телу. Ребекка знала, за что эту здоровенную девку, которую звали Улька, высекли так безжалостно. Поглядев ей вслед, она и Маришка вошли в конюшню.
Немалая её часть была занята толпой баб и хлопцев, явившихся насладиться зрелищем долгожданной порки панской любовницы. Среди них была попадья со своей кумой, сестрой и подругой. Они вполголоса обсуждали виновницу торжества, разглядывая её со спины, и перехихикивались. Ясина – босая и с голой задницей, неподвижно стояла перед столбом, подняв руки, примотанные к нему. На ней, как и на поповской служанке, была одна лишь рубашка, туго завязанная повыше пупка. Стояла Ясина так уже второй час, на потеху всем. Сперва она дожидалась прибытия попадьи, потом попадьёва Улька влезла без очереди на порку, а вот теперь нужно было ждать, когда попадья соизволит распорядиться её, Ясину, пороть. Та не торопилась, по доброте душевной хотела дать всему хутору поглядеть на свою противницу без штанов. Несмотря на это, Ясине как будто не было грустно. Перед ней также стояли её подруги, и она ровным тоном болтала с ними, выказывая тем самым своё презрение к попадье. Взирая на сотникову любимицу, безмятежно белевшую голым задом, все думали, что Ивась не станет слишком усердно её наказывать. Да, конечно, панский приказ получен, но конюх ведь не дурак, чтоб не понимать, как надо его исполнить! Сам же Ивась прохаживался, стоял, помахивал розгой, вынутой из корыта с водой. Он не удивлялся ни попадье, ни Ясине. Та и другая имела с ним накануне ласковый разговор. Ясина ему всучила червонец, а попадья – целых два.
Тут вошли Маришка с Ребеккой. Все их, конечно, сразу заметили. По конюшне пробежал шёпот.
– Ивась, секи сначала жидовку! – крикнула попадья, прервав разговор с кумой, – не выбьешь из неё мерзость, если устанешь!
– Вот это верно, – послышалось из толпы, и вся она одобрительно загудела. Ребекка, уже давно ко всему готовая, всё-таки ощутила краем души самое плохое, с чем только может встретиться человек – холодную пустоту. Чувствуя, как сердце её звенит крошечной монеткой, упавшей на пол, она с тоской огляделась по сторонам. Панночка легонько стиснула её руку – дескать, я тут, ничего не бойся!
– Мне всё равно, – заявил Ивась, – жидовка, спускай штаны! Столб госпожой занят, так что на четвереньки вставай, как Улька сейчас стояла.
Ясина бросила на своих подруг такой бодрый взгляд, что можно было подумать – её от порки вовсе избавили и всерьёз госпожой назвали. Подруги дали понять, что очень обрадованы. Потом они отошли, дабы поглядеть на Ребекку сзади – точно ли хвост у неё имеется или поп опять набрехал?
Дабы не испачкать белые панталоны о грязный пол, Ребекка сняла их с себя совсем, дала держать панночке. Так же поступила она и с юбкой. На ней осталась только одна сорочка. С кротким достоинством повернувшись к толпе спиною, встала Ребекка так, как ей было велено, задрала сорочку почти до плеч. Хвоста даже самые зоркие не увидели. Тем не менее, шум поднялся неимоверный. Бабы ругались, хлопцы с мальчишками выражали дикий восторг. Но вскоре все стихли, так как Ивась занёс розгу. Ребекка крепко зажмурилась, и сейчас же сзади раздался свист. Длинный и упругий лозовый прут прошёлся по ней с потягом, сдирая кожу с обеих ягодиц сразу. Брызнула кровь. Ребекка завыла. Из её рта потекла слюна, глаза закатились. Никогда прежде её не драли так больно. Розга опять поднялась, опять просвистела, потом – ещё и ещё. Ребекка визжала страшно. После десяти розог случилось то, чего она опасалась больше всего на свете.
– Хватит, Ивась! – вскричала Маришка, ударив в пол каблучком. Конюх поглядел на неё и опустил прут. Затем покосился на попадью. Ребекка, уткнувшись в пол своим длинным носом, громко заплакала от стыда.
– Нет-нет, продолжай! – с привизгом затявкала попадья, – жидовку надо пороть долго и старательно, а иначе мы с нею хлебнём беды! Жидовские бесы – самые мерзкие и греховные!
– Я сказала, хватит! – выкрикнула Маришка, взглянув на жену попа такими глазами, что та попятилась. Постояв немного, она свирепо вздохнула, и, растолкав толпу, вышла вон. Подруги последовали за нею. Ивась позволил Ребекке встать. Та молча вскочила, глотая слёзы. То место, где все до сих пор пытались разглядеть хвост, у неё горело, будто она сидела на углях. Маришка ей протянула вещи. Взяв их, Ребекка скоренько вышла и побежала, сверкая пятками, через хутор и луг к Днепру, чтобы чисто вымыться.
В отсутствие попадьи привязанная к столбу Ясина куражиться перестала. Взглянув на пономаря, стоявшего слева, она воскликнула:
– Чёрт!
– Да уж полно вам, госпожа Ясина, – кротко вздохнул пономарь, – вы бы сейчас лучше Бога призвали!
Пользуясь тем, что попадьи нет, Ивась для Ясины взял вместо розги вожжи – предмет менее болезненный. Ими было удобнее пороть сбоку. И он стал пороть нещадно. Хлопки ремня по голой, широкой заднице заставляли вздрагивать лошадей. Удары отсчитывал пономарь. Прочие собравшиеся притихли. Ясина не извивалась, смирно стояла во весь свой немалый рост, но кричала так, что в конюшню сунулся поросёнок, похожий на одного из мужей Ребекки. Увидев, что не свинья орёт, он ушёл. Дав двадцать ударов, Ивась опустил ремень и сказал:
– Часок отдохни. Горилки хлебнёшь?
Ясина не отказалась. Она наклонила голову, чтобы слёзы не текли в рот, потом опять вскинула. Чарка с водкой стояла на сундуке. Ивась её взял, поднёс к дрожащим губам Ясины и наклонил. Ясина пила большими глотками. Выпила всё. Бессильно прижавшись грудью к столбу, она попросила на час её отвязать. Швырнув чарку в угол, молодой конюх выполнил эту просьбу. Он также помог наказанной дотащиться до лавки и лечь на неё ничком. Потом он ушёл. Бабы и ребята последовали за ним. Осталась одна Маришка. Она ходила взад и вперёд, оглядывая коней.
– Панночка, вступись! – взмолилась Ясина, приподняв голову и огромным усилием убрав с глаз спутанные пряди волос, мокрые от пота, – больше не выдержу!
– Нашла дуру, – фыркнула панночка, гладя белого жеребца, – ты меня больнее секла! И чаще, чем Лизу. Так что – терпи, терпи.
Ясина хотела продолжить свои мольбы еле шевелящимся языком, но тут дверь открылась вдруг. Вошёл тот, кого все считали пономарём. Увидев его глаза, Ясина вся будто окаменела. Он, между тем, подошёл к ней сзади, и, наклонившись, поцеловал сперва одну её пятку, затем – другую. Выпрямившись, взглянул на Маришку. Та улыбнулась и развязала тесёмки юбки.
Лжепономарь ушёл через полчаса. Маришка, очень довольная, одевалась под неподвижным, чёрным взглядом Ясины. Ещё через полчаса вернулся Ивась с толпой хуторян. Так как у Ясины не было сил подойти к столбу, он стал её пороть розгой прямо на лавке, крепко к ней привязав за руки и за ноги. Ему нужно было иметь хорошие отношения с попадьёй. На сей раз несчастная не кричала, даже не вздрагивала во время ударов, хотя с прута при каждом замахе слетали липкие брызги. Белое и заплаканное лицо Ясины также хранило странную неподвижность. После двадцати розог она опустила голову.
– Ивась, хватит! – опять вмешалась Маришка. Но Ивась сам уж видел, что хватит. Он отвязал Ясину и выплеснул на неё ведро холодной воды. Ясина очнулась и попыталась встать, но сил у неё хватило только на то, чтоб перевернуться с живота на бок. Прижав коленки к груди, она зарыдала. Это уж было неинтересно, и все опять разошлись.
Глава двенадцатая
Домой пришла Ребекка под вечер, чистая и спокойная. Обе панночки спали в одной постели, обвив друг дружку ногами. От старшей сильно несло горилкой. Взяв со своей кровати подушку, Ребекка вернулась в горницу. Там она положила подушку эту на лавку, уселась сверху за стол и стала задумчиво барабанить по нему пальцами. Грусть-тоска нашла на неё. Жизнь вдруг показалась пустой, бессмысленной. Это было необъяснимо. Ведь она с детства хотела играть на скрипке, и научилась – да так, что недавно в Вене один молодой господин, который назвался Вольфгангом, за её выступление возле театра дал ей два талера и оставил свой адрес, сказав, что он формирует струнный квартет и нужен скрипач. Она не любила мужчин, особенно тех, которые ей не нравились, и огромное их число обобрала дочиста. Так что, жизнь вполне удалась. Откуда ж взялась тоска, грызущая сердце, как ненасытная крыса с длинным хвостом?
Думая над этим вопросом, Ребекка выпила ковш горилки. Вдруг дверь открылась. Вошёл Грицко – причёсанный и обутый, что крайне редко бывало. Он нёс икону.
– Здравствуй, Грицко, – сказала Ребекка. Грицко кивнул и поставил свою работу на стол, прислонив к корчаге. Сам сел напротив Ребекки.
Та вмиг забыла про всё на свете. Рыжеволосая и зеленоглазая Лиза с родинкой на щеке разглядывала её с доски, как живая. Но то была не она.
– Грицко! Скажи мне, кого ты нарисовал? – сдавленно спросила Ребекка, не отрывая глаз от иконы.
– Как – кого? Панночку! Сама видишь.
Ребекка дико взглянула на живописца.
– Лиза – дитя! У неё глаза, как у кролика! А у этой… она опять глядит, как из ада! Грицко, скажи – это кто?
Грицко огляделся, и, помолчав, произнёс:
– Я виделся позапрошлою ночью с ней. С Настей. Она такими глазищами и глядела! Я изменил лишь цвет их.
– Но почему ты не мог изменить и их выражение?
– Я не знаю! Просто не знаю.
Долго молчали. Ребекка жадно разглядывала икону. Грицко, тем временем, чуть-чуть выпил и поел сала. Потом сказал:
– Я хочу уйти.
– Далеко? – спросила Ребекка, сразу поняв, о чём идёт речь.
– Очень далеко. Чем дальше, тем лучше. Может быть, во Владимир. Я слышал, там есть большая иконописная школа при Боголюбском монастыре. Поступлю туда.
– Разве тебе нужно учиться чему-то у монастырских художников? – удивилась Ребекка, – ты ведь нарисовал её, как живую!
– Но ты сама сказала, что она смотрит, как из геенны огненной. По-другому я рисовать не могу. А нужно уметь.
– Не нужно! Зачем? Что может быть лучше смерти? Такой вот вечной, тоскливой, ледяной смерти? Все идут к ней, и вовсе не потому, что к ней ведут все дороги, а потому, что она – желанна! Разве не так?
– Не знаю, – сказал Грицко, – я не хочу думать, что это так. Хочу по-другому думать. Но не умею. Может быть, где-нибудь научусь.
– Да вздор это всё.
– Не вздор.
– Хорошо, иди, – сказала Ребекка, с каждой секундой всё сокрушительнее, всё глубже осознавая, откуда взялась та крыса с длинным хвостом. И стало ещё грустнее. И захотелось смотреть на всех точно так же, как на неё смотрело изображение бледной женщины с ярко-рыжими волосами. Смотреть вовеки веков.
– Но не говори никому, – попросил Грицко.
– Мой сладенький! Ты ещё не родился, когда я уже умела играть на скрипке, врать и молчать. Не скажу, не дура!
Грицко ещё посидел, а потом простились – сухо и коротко, как прощаются никогда не видевшие друг друга и встретившиеся на похоронах общего знакомого люди. Они жмут руки и говорят: «До встречи», хотя и знают, что никогда более не встретятся. После этих слов Грицко взял икону и вышел, опустив голову.
А Ребекка осталась, чтобы продолжить смотреть на стену и пить. Через час из спальни вышла Маришка. Она была вся зелёная.
– Ты куда? – спросила Ребекка, с трудом ворочая языком.
– Куда, куда! В сад! Гляжу, нажралась, уродина?
Выходя, Маришка так захлопнула дверь, что в ковше плеснулась горилка. Ребекка глянула на качнувшееся в ней своё отражение, засмеялась и стала пить его, мысленно твердя: «Сдохни, сука-жидовка! Сдохни!» Потом её стало рвать. Она не успела высунуться в окно. И хорошо сделала, потому что иначе её добил бы раздавшийся из глубины сада Маришкин вопль. На него сбежался весь хутор.
Глава тринадцатая
Ясину вынули из петли уже ледяную. Яблоню, на которой она повесилась, решено было выкорчевать и сжечь. А вот закопать любовницу пана поп разрешил на кладбище, объяснив всем, что не она виновна в своей погибели, а жидовка. Ребекка, это услышав, полезла на попа драться. Её стали бить толпой. Если бы на место события не примчалась Лиза, то и убили бы. Двое суток Ребекка не могла встать с постели и не хотела ничего есть, кроме небольшого крыжовника. На соседней кровати хрипло дышала Маришка, впавшая в молчаливое, вялое, ужасающее безумие. Лоб её был горяч, как печной кирпич после топки. Бабки поили её отварами из каких-то трав, а поп причащал, соборовал и святой водой окроплял. Само собой разумеется, каждый день служили молебны. Однако, через неделю старшая панночка умерла, не дождавшись лекаря, за которым послали в Киев, что вызвало гнев попа, потому что лекарь был немец. Отпев и похоронив панночку, пришли с вилами за жидовкой. Лиза, встав на пороге, предупредила, что если с Ребеккиной головы упадёт хоть волос, отец, вернувшись, со всех тут кожу сдерёт живьём, так как она, Лиза, сделает всё для того, чтоб это произошло. Слова, а также и грозное лицо панночки охладили пыл хуторян. Что-то проворчав в захлопнувшуюся дверь, они разбрелись по хатам.
Уже смеркалось. Две горничные девки ушли в свою половину. Панночка стала зажигать свечи по всем углам. Ребекка, сидя на лавке, курила старую трубку сотника. Под рукой у неё лежала его же старая шпага с толедским лезвием. Восемнадцатый муж – французский виконт, все четыре дня супружеской жизни только и делал, что обучал Ребекку владеть холодным оружием, и она достигла некоторых успехов. Стол, как обычно, не пустовал. Наполнив дом светом, панночка села помянуть мёртвую. Протянула ковш и Ребекке. Та, собираясь с духом, чтоб осушить ковш до дна, спросила:
– А интересно, они и Деву Марию жидовкой кличут, когда ей молятся? Или думают, что она из Киева родом?
– Да что ты хочешь от смердов? – взмахнула панночка тонкой, гибкой рукою, – я уж сама не помню, где она родилась – в Москве или в Петербурге. Давай помянем новопреставленную Маришку!
Выпили. Помолчали, глядя в окно. За ним шумел ветер и отражались в Днепре зарницы, вспыхивающие на чёрном, глубоком небе. Стоял уже конец лета.
– Около хутора бродит чёрт, – сказала Ребекка, пососав трубку. Панночка подавилась салом. С трудом откашлялась.
– Какой чёрт?
– Дьявол.
Возле стола прошмыгнула крыса. Панночка, взвизгнув, задрала ноги, хоть никогда не боялась крыс. Ребекка, неуловимым движением схватив шпагу, взмахнула ею. Однако, крыса бежала чересчур быстро, и клинок шпаги расщепил надвое половицу. От взмаха пламя лампады перед иконой заколебалось. Иисус взглянул страшно.
– И где ты видела чёрта? – спросила панночка, опуская ноги.
– На кладбище. Прошлой ночью, когда ты уже спала, я пошла туда поглядеть на вырытую могилу. Перед ней стоял чёрт.
– С рогами?
– Нет, без рогов. Но это был он. Я его узнала. Его нельзя не узнать.
Тут Ребекка смолкла, прислушиваясь. Её красивые пальцы, сжимавшие эфес шпаги, были белы, как мел. Навострила уши и Лиза, но ничего не услышала сквозь вой ветра.
– Ну, и что было дальше?
– Я попыталась к нему приблизиться. Он взглянул на меня, и мои колени вдруг подогнулись. Я упала на землю и ударилась так, что лишилась чувств. Очнулась уже при свете зари, от холода. Около могилы никого не было.
– А зачем тебе вдруг понадобилось смотреть на эту могилу?
– А я люблю глядеть на вырытые могилы ночью. И вряд ли это только из-за того, что я – просто дура. Ведь получается, и чёрт любит смотреть на них! У Шекспира в «Гамлете» есть строка про тайну, всплывающую со дна могилы. Едва ли те, кто выкапывал ту могилу, предполагали, что из неё когда-нибудь всплывёт тайна. Стало быть, тайна может всплыть из любой могилы. Разве неинтересно смотреть туда, откуда может всплыть тайна?
– Дура ты, дура, – вздохнула Лиза и повела плечом. Выпили ещё. Поев холодца, Ребекка зевнула и положила голые ноги на бёдра панночки. Та, начав их гладить, спросила:
– А почему вас, жидов, не любят?
– Да будет кровь Его на нас и на детях наших, – произнесла Ребекка зловещим голосом.
– Это что?
– Евангелие.
– Ага, – промолвила панночка и задумалась. У Ребекки возникло твёрдое ощущение, что раздумье это – не над её ответом. И она не ошиблась.
– А разве в Библии не написано, что нельзя делать то, чем мы с тобой занимаемся иногда?
– Нет, там не написано, что нельзя это делать. Апостол Павел как-то издалека, с какими-то оговорками намекает, что это, дескать, не очень-то ему нравится. Вот и всё.
– А почему это ему не нравилось? Какой вред от этого?
– Так обидно ведь мужикам.
– А женщинам не обидно ложиться с теми, кто им противен?
– А кто мешает искать хорошеньких?
– Кто мешает? – вскричала панночка, – кто мешает? Совсем ты, что ли, сдурела? Мы себе разве женихов ищем?
– Да, – хмыкнула Ребекка, с досадой вынув изо рта трубку, – на это уж сказать нечего.
– Вот и дура ты! – с торжеством воскликнула панночка. Хотела что-то ещё прибавить, но тут раздался стук в дверь. Панночка вскочила. Рука Ребекки опять легла на эфес.
– Кого чёрт принёс? – заорала панночка.
– Это я, Микитка, – сказали из-за двери.
– Ты один?
– Один.
– Чего тебе надо?
– Я поросёнка принёс с поминок!
– Это другое дело, – произнесла Ребекка, не убирая, однако, руку со шпаги, – впусти его, госпожа!
Панночка сняла стальную щеколду. Микитка робко вошёл. Он, точно, нёс блюдо с весьма большим поросёнком, покрытым нежной розовой кожицей. За псарём, как обычно, шли две борзые.
– Поставь на стол, – приказала панночка, отпихнув ногою одну из них, полезшую к ней, – да попробуй только хоть что-нибудь уронить!
Микитка смущённо двинулся, как по струнке, прямо к столу. Он уже давно не хромал.
– Ну что, разве плох? – спросила Ребекка.
– Слишком уж тощий, – сказала Лиза. Поставив блюдо на стол, Микитка взглянул на них с удивлением.
– Он не тощий!
– Мы про тебя, дурак, – объяснила панночка. У Микитки дрогнули губы. Он опустил глаза и начал краснеть. Панночка спросила:
– Ну, что там, пьют холопы мои?
– Да, пьют.
– Ну, иди скажи им: если у них опять потянутся руки к вилам, пусть их берут и приходят. Нам одного поросёнка мало!
Микитка вышел. Борзые, с тоскою глянув на поросёнка и с неприязнью – на панночку, вышли следом. Заперев дверь, панночка вернулась за стол и взялась с Ребеккой за поросёнка. Он был напичкан хреном и очень сочен.
– Хорош, – хвалила его Ребекка с набитым ртом, – ой, хорош!