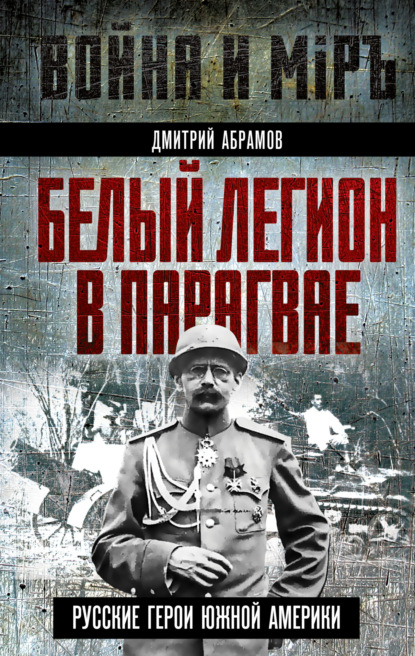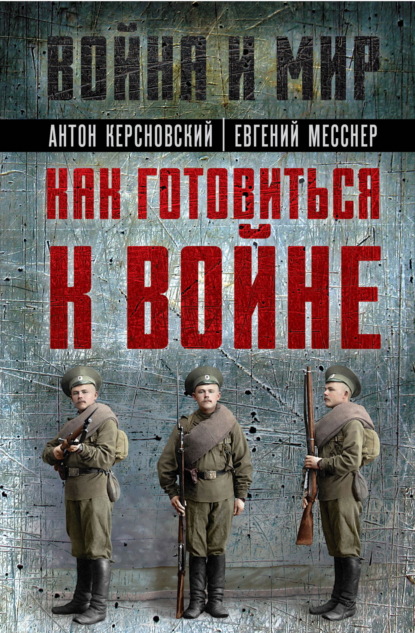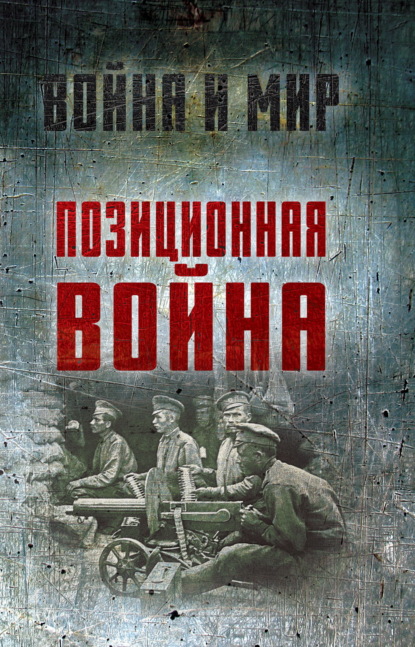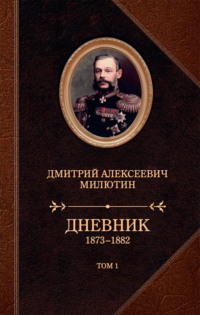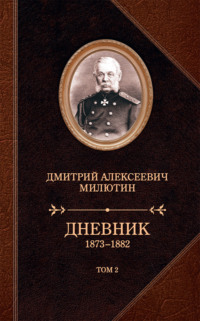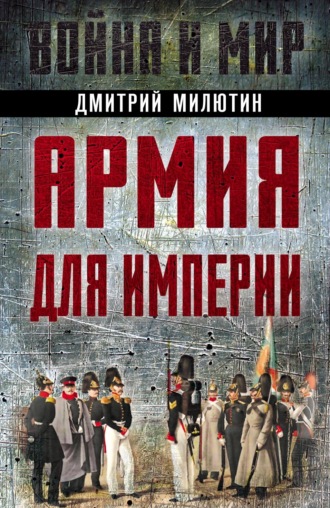
Полная версия
Армия для империи
Прибытие Суворова в Петербург и свидания его с государем, как кажется, рассеяли совершенно прежние опасения императора и внушили ему полное доверие к вождю «поседевшему под лаврами». Суворов прискакал прямо к Зимнему дворцу, немедленно же был принят государем, кинулся к его ногам и слезами выражал всю признательность свою за великодушие царское. Император Павел I поднял старика, обнял его, и все прошлое было забыто. В тот же день Суворов был зачислен опять на службу прежним чином фельдмаршала, но без объявления о том в приказе. Император сам возложил на него орден Св. Иоанна Иерусалимского. Рассказывают, что при этом Суворов упал на колени и произнес: «Боже, спаси Царя!» – а Государь отвечал ему: «Да спасет Бог тебя, для спасения царей!..». (см. прилож. XXV).
Корпуса Розенберга и Германа были подчинены в полное распоряжение Суворова; им повелено было во всем относиться к фельдмаршалу, а не прямо к государю, как было прежде постановлено. «Распоряжайтесь сами войсками к пользе общей, – писал император в рескрипте к Суворову от 1 марта. – Мы же молим Господа Бога нашего, да благословит ополчение Наше, даруя победу на враги веры христианской и власти, от Всевышнего постановленной, и да пребудут воины российские словом, делом и помышлением истинными сынами отечеству и нам верноподданными…». (см. прилож. XXVI).
В Петербурге прибытие Суворова и милости к нему государя произвели всеобщий восторг. И войско, и народ видели в этом событии несомненное предзнаменование новых побед и новой славы. Толпы теснились везде, где можно было увидеть знаменитого героя; замолили злословия и козни; прежние враги и завистники кланялись низко перед тем, который так немилосердно бичевал их едкими своими сарказмами. Суворов по-прежнему был оригинален, шутлив и весел; везде пересказывались бесчисленные анекдоты о его проказах. Счастье оживило семидесятилетнего старика, возвратило ему всю энергию и бодрость молодости. Замечательно притом, что Суворов в этот раз держал себя перед государем совсем иначе, чем в первый свой приезд: уже не старался он выказывать свое неведение в новых уставах и формах; и шпага уже не беспокоила его, и шляпу снимал он без затруднения, и на разводе находил дорогу, не перебегая между взводами. Он вел себя совершенно прилично, как будто желая показать, что сумеет, когда захочет, не хуже другого соблюсти все мелочные требования службы мирного времени, которыми он обыкновенно пренебрегал, не признавая в них сущности военного дела. Такую резкую перемену в образе действий Суворова князь Горчаков в своем рассказе, объяснял таким образом: прежде фельдмаршал не хотел идти в службу, пока не видел в ней ничего другого, кроме формальностей плац-парада; теперь же он являлся на службу военачальником, которому вверялась судьба целой Европы; ничего более не оставалось ему желать; «баталия была выиграна», прибавил простодушно князь Горчаков.

А. Шарлемань. А.В. Суворов в Милане
С другой стороны, не менее замечательно обращение государя с фельдмаршалом: император осыпал его почестями, оказывал ему всякие знаки внимания; не было границ милостям царским. Некоторые случаи, рассказанные по этому поводу тем же свидетелем, князем Андреем Ивановичем Горчаковым, представляют истинно изумительные примеры снисходительности и великодушия со стороны Павла I.
Пробыв около двух недель в Петербурге, Суворов в первых числах марта отправился через Вену в Италию. Там ожидала его новая слава, которой суждено было ему увенчать конец многолетнего и блестящего своего поприща.
ПРИЛОЖЕНИЯI. См. Собрание писем и анекдотов, относящихся до Суворова. Автор этой книги (Левшин) ссылается на показание самого графа Ростопчина.
II. Несмотря на множество жизнеописаний Суворова, до сих пор остаются темными некоторые из главнейших фактов его жизни; так например: встречается противоречие даже в годах его рождения и поступления на службу. В большей части биографий повторяется после Антинга, что Суворов родился в 1730 году, а в полк поступил 12 лет, т. е. в 1742 году. В собственноручной же записке, поданной самим Суворовым в московское депутатское собрание в 1786 году, показано, что поступил он в службу мушкетером 1742 года на пятнадцатилетнем возрасте, – из чего следовало бы заключить, что родился он в 1727 году. То же самое можно заключить и по летам, показанным в Формулярном списке. Производство в офицеры везде показывается в 1754 году; следовательно, служба его в нижних чинах продолжалась бы всего 12 лет. Наконец, есть некоторые темные показания, будто Суворов учился некоторое время в сухопутном кадетском корпусе; но когда именно – неизвестно, а сам Суворов, в означенной собственноручной записке своей, вовсе об этом не упоминает. Если принять за достовернейший год рождения тот, который показан на надгробном камне, т. е. 1729 г. (13 ноября), то можно предполагать, что в 1742 году, имея всего 12 лет, Суворов был только записан в полк, а пятнадцати лет поступил на действительную службу, т. е. уже в 1745 году, – и в таком случае продолжительность действительной солдатской его службы была бы 9 лет.
III. Суворов сам очертил себя в следующем письме к князю Потемкину от 10 декабря 1784 года из с. Ундалова:
«Служу я, М. Г., больше 40 лет и почти 60-летний; одно мое желание, чтоб кончить Высочайшую службу с оружием в руках. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей; препроводя мою жизнь в поле, поздно мне к ним привыкать. Наука просветила меня в добродетели; я лгу как Эпаминонд, бегаю как Цесарь, постоянен как Тюрень и праводушен как Аристид. Не разумея изгибов лести и ласкательств, моим сверстникам часто неугоден. Не изменил я моего слова ни одному из неприятелей; был счастлив, потому что я повелеваю счастьем…».
В этой выписке сохранены с буквальной точностью все ошибки правописания подлинника, который находится у кн. А. А. Суворова. Письмо это напечатано было в Оренбургских Губернских Ведомостях 1852 г.
IV. Уже впоследствии, по смерти Потемкина, императрица предоставила Суворову войти с дополнительным представлением о награждении отличившихся при штурме Измаила. См. Высочайший рескрипт на имя Суворова от 31 марта 1792 года. (Рескрипт этот напечатан в «Собрании писем и анекдотов, относящихся…» и проч. Левшина).
V. Несколько писем по этому предмету помещено С. Глинкой в «Жизни Суворова, им самим описанной», часть II, стр. 10–21; но, к сожалению, с значительным отступлением от подлинника и с пропусками. Письма Суворова любопытны не только потому, что выражают собственный его взгляд на вещи, но и в том отношении, что обнаруживают, как вкрались в то время злоупотребления в военном управлении. Вот несколько образчиков:
«Гофспитали оздоровивши в Тавриде, подрядчики мне давали задатку 7000 рублей на разведение больных – и вышли мы оттуда на «Днепр не оставя там ни одного больного, ниже взявши к тому у обывателей повозку…».
«З-н, что вы бежите в роту? Разве у меня вам худо? Скажите „по совести“. – „Мне там на прожиток в год тысяча рублей“. – „Откуда“? – „От мертвых солдат…“
В письмах своих к Д. И. Хвостову Суворов выражал не раз негодование свое на клеветы: „Я чист душою и сердцем перед Богом и моей великой Императрицей, в чем моя совесть никогда не упрекает… Но как партикулярный человек отвечаю всякому партикулярному человеку как равный ему, кто бы он ни был, и в малейшем предосуждении моей чести буду всегда требовать удовольствия (т. е. удовлетворения). И чтоб то не было одно угрожение, то я и ныне желаю знать, кто на меня дерзнул клеветать…“ (См. Сбор. кн. А. А. Су вор. кн. 5).
VI. В собственноручной биографической записке, представленной Суворовым в московское дворянское собрание в 1786 году, он сам, говоря о первоначальных успехах, одержанных в Польше Огинским над русским отрядом, прибавляет:
„Я напоминаю молодым вождям, что только один глубокий в практике военачальник может строить редко неприятелю золотой мост, как и чинить хитрые маневры. При вышесказанном происшествии под Ландскроном победа произошла не от чего иного, как от оных французской запутанностью, которой российское войско пользовалось; они наклоняют пустые марши больше к изнурению войска, к обленению оного и роскоши; хороши для красоты в реляциях; неприятелю время давать не должно; пользоваться сколько можно его наималейшей ошибкой и брать его всегда смело с слабейшей стороны; но надлежит, чтоб войска предводителя своего разумели“.
VII. Вместе с этим прошением на Высочайшее имя Суворов отправил письмо к гр. Пл. Ал. Зубову:
„Милостивый государь мой граф Платон Александрович!
Великой Монархини я всеподданнейше прошу о увольнении меня на сию продолжительную кампанию к немецким и союзным войскам, с нынешним содержанием, т. е. жалованьем и рационами, с моим стабом и получаемыми столовыми на месяц по 500 руб. К сему потребен мне паспорт с обычным отношением. Ваше Сиятельство покорнейше прошу вспомоществования в снабжении оными меня, здесь в Херсоне, где ныне тишина. Я ж давно без практики“.
Пребываю с совершенным почтением и преданностью, Милостивый государь мой,
Ваше Сиятельство,
Покорнейший слуга
Граф Александр Суворов-Рымникский».
VIII. Поучение это напечатано было несколько раз, но под различными названиями, и со многими вариантами: Вахт-парад и разговор с солдатами – в «Собрании писем и анекдотов», изд. Левшиным; Учение разводное и словесное поучение солдатам – в «Жизни Суворова, им самим описанной», изд. С. Глинкой; Наука побеждать – в «Истории Суворова» Е Фукса; наконец, отдельной брошюрой (в 1848 году) под заглавием: Уменье побеждать.
IX. В донесении императрице от 12 августа 1796 г. из Тульчина Суворов отдает отчет о состоянии своих войск, и в заключение присовокупляет:
«Карманьольцы по знатным их успехам могут простирать свой шаг и на Вислу. Союзный король прусский, примирившийся с ними против трактата 1792 года, для своих выгод им туда особливо чрез Саксонию может быть препятствовать не будет. Всемилостивейшая Государыня! Я готов с победоносными войсками Вашего Императорского Величества их предварить. Турки еще частью спят и прежде полного лета нечего от них ожидать». (См. Сб. князя А. А. Сувор. кн. 3.).
В одном письме своем к Д. И. Хвостову (от 29 августа 1796) Суворов между прочим пишет:
«…Турецкая ваша война… нет, а приняться за корень, бить Французов… от них она родится. Когда она будет в Польше, тогда они будут только 200, 300. Варшавой дали хлыст в руки прусскому королю. У него тысяч 100. Сочтите Турок… России выходит иметь до полумиллиона. Ныне же когда Французов искать в немецкой земле, надобно на все сии войска только половину сего… Публика меня посылает с 50–60 т. против Французов; вы один молчите…»
Суворова весьма тревожили слухи о том, будто бы не ему предназначается начальство над войсками, отправленными против Франции: говорили о Дерфельдене, о гр. Валериане Зубове, отличившемся тогда в Дагестане. Суворов уже замышлял об удалении «в хижину», в Кобринское свое имение. Хвостов успокаивал фельдмаршала: «Император (германский) требует именно вас и настоит на посылке войск ваших…» (Письмо Д. И. Хвостова в октябре 1796 г.; см. также письма самого Суворова, Мандрыкина и кн. Алексея Ив. Горчакова к Хвостову, в августе 1796 г., в Сб. князя А. А. Сув. кн. 3).
X. Не раз уже описано было, как Суворов получил горестное известие о кончине своей благодетельницы; но самая достоверная и любопытная статья, написанная Столыпиным, адъютантом Суворова, напечатана в Москвитянине 1845 г. часть III N 5. В первое время по воцарении нового монарха Суворову служило некоторым утешением падение прежних его врагов. «С одной стороны я плачу, с другой возношу хвалу Всевышнему, что повалил кумиров. Великому государю я верен полвека!»… Так писал Суворов Д. И. Хвостову от 18 ноября 1796 (Сб. кн. А. А. Сув. кн. 3).
В другом письме также к Д. И. Хвостову читаем: «Вы меня восхищаете милосердым нашим государем. Бог вам даруй его благоволение, для себя я начинаю забывать, но не как неблагодарный, – невозвратную потерю…»
Но в том же письме фельдмаршал отзывался с сожалением о перемене политики в отношении к Франции: «Уклон от войны с Французами наклонит вятщую войну: мне полно; но кровь лить не для славолюбия, – что мне не знакомо, а для пользы великого Монарха. Воля Божия определения и Его!»… (Сборн. кн. А. А. Суворова кн. 5).
24 ноября, в день тезоименитства покойной государыни, Суворов писал к Хвостову:
«Сей день печальный! Я отправлял… после заутрени без собрания один в алтаре, на коленях с слезами. Неблагодарный усопшему государю будет неблагодарен царствующему. Среди гонения кн. Платона (Зубова), в Херсоне я ходил на гробь кн. Г. А. Потемкина, помня его одни благодеяния… Ныне у меня в торжественные дни пушки не стреляют. Как-то в Петербурге? – Для восшествия на престол великого государя подарите моим русским крестьянам всем по рублю из оброков». (Сб. кн. А. А. Сув. кн. 3).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.