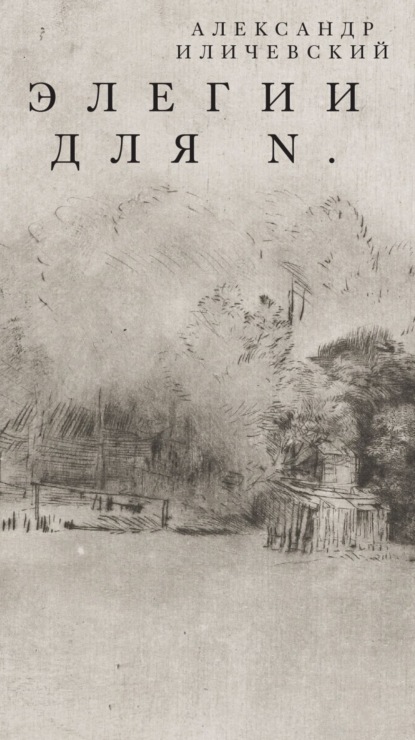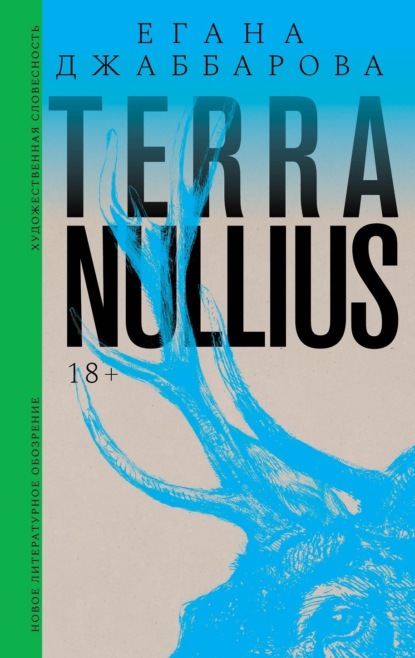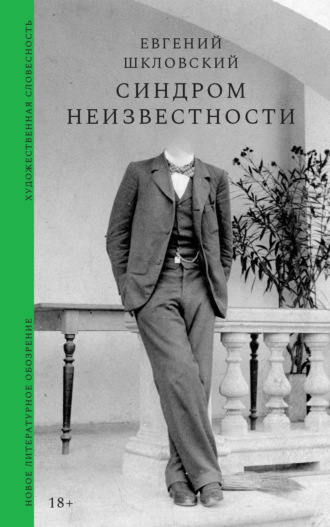
Полная версия
Синдром неизвестности. Рассказы
Ничего особенного, человек отдыхал. Однако спустя какое-то время, день или два, ему вдруг вспомнились и комнатка, и сидящая на табуретке Эн, но теперь выражение ее лица показалось ему очень усталым, грустным, почти печальным.
Собственно, ничего удивительного – было от чего загрустить.
Ему было неизвестно, на какой срок заключают контракт с мастерами, наверно, на год, но год совсем в другой стране, с совершенно другой культурой и другим климатом – это ведь очень-очень долго. Тут и развлечься им, без языка, негде, только работа с утра до вечера, а еще и холодная, пасмурная, дождливая осень, когда топить начинают только в октябре, морозная зима, слякотная весна – в общем, не позавидуешь. Однако они сюда все-таки приезжали, понятно, что для заработка, потому как должны были кормить оставшихся дома родственников – родителей или детей, в общем, не столько на себя работали, сколько на семью, как и мигранты из ближнего зарубежья.
И ему вдруг тоже стало грустно, потому что у Эн определенно был особый дар, какая-то исключительная энергетика. Либо просто совпало, что именно на него так сильно действовало. Инопланетянка или нет, но она все-таки была человек, какие-то проблемы и у нее, наверно, были, переживания, желания, разочарования, господи, да мало ли в нашей душе всяких сквозняков… И, несмотря на это, она, как и другие ее коллеги, непременно улыбалась.
Странно, что он вдруг об этом задумался. На Тенерифе не должно быть проблем, там царствовали экзотика и релакс, забытье и улет. А тут его тормознуло.
Ну и что дальше?
Дальше надо было решаться: то ли поставить точку, потому что он уже мог подсесть на это состояние, как на сильный наркотик, либо… Нужно было идти и там уже на месте попытаться его найти решение. Может, он все преувеличил и вообще ничего не нужно – просто благодарно принимать то, что так счастливо выпало ему по какому-то таинственному жребию.
Он и пошел. И все замечательно, дивно повторилось.
…Ступеньки, теплый сладковатый цветочный аромат, смешная и неудобная коричневая одежда типа кимоно, в которую надо было переодеться и в которой он всегда путался, особенно в длиннющих поясных тесемках, пришитых позади непомерно широких штанов и постоянно ускользавших из рук. Потому он всякий раз спешил, волнуясь, что не успеет завязать тесемки и штаны непременно соскользнут, поставив его и мастера в неловкое положение.
На этот раз все сошло благополучно, он успешно справился с завязками и вскоре увидел перед собой обычную приветливую улыбку и темные, почти черные глаза Эн. И тут он вспомнил еще одно ее имя, которым она однажды почему-то назвала себя. Или это было не имя, а еще что-то, похожее, может, название чего-то: Нанг Май, кажется, так. Случалось, что она в процессе процедуры произносила какие-то слова на своем языке, обращаясь то ли к нему, то ли к самой себе, то ли вообще неизвестно к кому. А бывало, что очень тихо, почти неслышно что-то мурлыкала себе под нос.
Покачивающие волны растяжек, надавливаний, поворотов… Восточная медитативная музыка из черных колонок. Теплые, почти горячие ладони, касающиеся его головы, полусон, забытье… Полное погружение.
Хорошо ему было. И еще он чувствовал, что в мозг вливается какая-то информация, закрепляемая однообразными движениями рук мастера. Как будто что-то ему внушали, втолковывали, на чем-то даже настаивали…
Очнулся он, когда потрепали за плечо, открыл глаза. Он и раньше подозревал, что с прикосновениями к голове не все так просто, что в это время туда закрадываются какие-то странные, непривычные мысли, как бы не совсем его. Нечто вроде гипноза.
Он сидел в позе полулотоса, медленно приходя в себя. Эн ласково приобняла его и что-то тихо произнесла своим низким грудным голосом.
Ну да, рейки, хотя при чем тут? И потом совсем уж ни к чему: Тенерифе…
Планета, остров, страна?
А она добавила уже без улыбки, вполне отчетливо:
– Tomorrow i’m leaving for Thailand.
Через два месяца у него был запланирован отпуск, и он, ни минуты не сомневаясь, заказал авиабилет в Таиланд. Адреса Эн у него не было, но почему-то теплилась надежда, что, оказавшись там, в совершенно неведомой ему стране, которая почему-то казалась ему такой же уютной, как хорошо знакомый подвальчик, он непременно ее встретит. Да, непременно встретит. И будут жаркое солнце, буддийские храмы, ровный плеск морских волн, бархатное небо и горячий песок…
И может быть, он снова сможет летать.
Красная линия
Майор частенько вспоминал тот эпизод из прежней жизни. Парням было приказано собирать на территории шишки. Лагерь располагался в еловом лесу, шишек полно, похрустывали под подошвами сапог, мешали ходить, пружинили и крошились. Парни сонливо бродили вокруг, вяло склонялись к земле, лениво тянулись рукой к очередной шишке и так же заторможенно выпрямлялись. Видно было, что мучительно скучно, что все телодвижения заторможенны, да и что веселого могло быть в этом дебильном занятии? Но приказ есть приказ – надо очистить.
Только ведь всегда найдется способ развлечься.
Среди новобранцев был музыкант, вроде бы даже после консерватории, тонкие, натренированные для клавиш холеные пальцы. Вскрик, стон, рука отдергивалась к груди, другая судорожно терла пострадавшую, а вокруг раздавался довольный раскатистый хохот. Как ни странно, эту глумливую шутку удавалось повторить не один раз, так как музыкант отчего-то быстро забывал происшедшее, снова погружался в дрему, тем самым давая повод для новой диверсии, что веселило еще больше.
Потом Федосов догадался, что мешало музыканту внять печальному опыту и больше не подставляться. Просто тот быстро отключался от реальности, потому что внутри себя слушал музыку, все остальное отодвигалось на край сознания и становилось неактуальным. Но главным было даже не это, а то, что заставляло его отключаться, – скука. Серая удушливая дымка, в какое-то мгновение начинавшая сжимать горло и постепенно становившаяся непереносимой. Она была хуже, чем боль, потому что боль – это жизнь, а скука – как смерть. Эта дошлая и липкая пелена понуждала солдат, а иногда и офицеров к неожиданным эскападам. Сапог, как бы случайно ткнувшийся жесткой подошвой в пальцы руки, – это еще пустяк. Бывало и похуже, о чем лучше не помнить.
Руки у музыкантов действительно специфические, особенно у тех, кто играет на фортепьяно. Он в этом потом не раз убеждался. Узкие запястья и длинные розоватые пальцы. Могло показаться даже, что это женские руки. Как того музыканта звали? Впрочем, какая разница? Имя не играло никакой роли. Федосов тогда был еще лейтенантом. Знал, что в армии всякое бывает, особых иллюзий не питал и ничего не идеализировал. А тут будто самому наступили на пальцы. Хотя мужик, тем более военный, должен оставаться мужиком. Без сантиментов.
Время от времени он рассматривал свои собственные руки – сильные широкие запястья, узловатые толстые пальцы с коротко остриженными желтоватыми ногтями, такие могли быть у слесаря, грузчика, дворника, да у кого угодно, но только не у музыканта. Такие руки могли вызывать уважение – настоящие мужские, даже можно сказать, мужицкие рабочие руки, которым что с лопатой, что с отбойным молотком, что с граблями – милое дело. Если сжимал пальцы в кулак, то и кулак вызывал уважение – крупный, увесистый, с грозно выпирающими красноватыми костяшками пальцев. Бойцовский, если угодно, кулак.
Нет, не то чтобы свои не нравились, какие есть, такие есть, но, если честно, некоторое отторжение он все-таки чувствовал, будто его слегка надули, всучили некачественный товар. Впрочем, не так чтобы постоянно. Вероятно, это и комплексом нельзя было назвать.
Самое интересное, что они пытались жить отдельно, руки имеется в виду. Если Федосов обменивался с кем-то рукопожатием, то слегка задерживал чужую ладонь в своей, как бы поймав ее и не отпуская. Это происходило непроизвольно, так что заподозрить его в какой-то умышленности было трудно. А еще оно было очень дружелюбным: такое рукопожатие обычно располагает к человеку, который тем самым демонстрирует свои открытость и симпатию.
Рука как бы сама устанавливала стиль общения, отчасти даже диктуя свою волю, причем не только другому, но и самому майору. Однако не всем это нравилось, иногда руку пытались отдернуть, извлечь, только куда там? Если он сам не отпускал, то вырваться было невозможно, прихват был настолько же крепким, насколько и мягким.
А некоторые подавали руку, словно делая одолжение, складывали ладонь лодочкой, вяло и как бы нехотя, и потом сразу ее отнимали, другие вытягивали ее перед собой вроде бы для рукопожатия, но только это превращалось в своего рода заградительный заслон, не подпуская ближе, даже как бы отстраняя или отталкивая.
Майора такие недорукопожатия обижали, он воспринимал их как затаенную неприязнь к себе, хотя и понимал, что на самом деле, скорее всего, ничего это вовсе не значит. И тем не менее старался такого рода знакомых обходить, чтобы лишний раз не ощутить неприязненного чувства. Но главное – почему-то невольно вспоминались пальцы того музыкантишки, как если бы это его собственные, Федосова, и именно на них наступали сапоги.
Проблемы были и с женщинами. Известно, что в женщинах мужчин может привлекать самое разное: кто-то зацикливается на ногах, коленках там или лодыжках, кого-то завораживает лицо или изгиб бедра, кого-то походка, ну и так далее, вплоть до самых сокровенных местечек, а вот майора волновали только руки, если еще конкретней – женские пальцы. Стоило руке какой-нибудь барышни оказаться достаточно близко в поле его зрения, как взгляд майора тут же фиксировался на ней, и он, загипнотизированный, уже не в силах был оторваться. А если вдруг удавалось взять эту руку, то он держал ее, словно это была не рука, а живое трогательное существо вроде котенка или неоперившегося птенца. Странно, но женщин это почему-то настораживало и даже пугало, как будто за такой вовсе не показной нежностью могла скрываться порочная необузданность.
В амурных делах майору, надо сказать, катастрофически не везло, и кто знает, не потому ли? Если вас берут за руку и дальше ничего не происходит, а человек ведет себя почти как зомби, бережно, словно драгоценные бусинки, перебирает ваши пальцы, трогает ногти, гладит кожу, рассматривает, низко наклонив лицо, линии на ладони, ну и так далее, то тут действительно могут закрасться всякие подозрения. Так, вероятно, и было.
Кстати, о линиях. Некая женщина по имени Наталья, парикмахерша, чья рука однажды в знак благодарности была нежно взята майором, как бы взвешена и оценена, с интересом спросила:
– Вы, случайно, не хиромант?
Майор озадаченно поднял серые грустные глаза.
– Как вы сказали? – смущенно переспросил он.
Слово вроде знакомое.
Женщина отважно повторила.
– Возможно, – сказал майор задумчиво, хотя такое ему в голову никогда не приходило. И тут же неожиданно сообразил, что хиромант – это вроде черноглазой цыганки в яркой пестрой юбке на привокзальной площади, эй, молодой, дай погадаю, всю судьбу тебе расскажу. Он от них убегал, а некоторые соглашались, деньги давали, потому что если не дать и цыганку разгневать, то могут возникнуть серьезные проблемы.
– Правда? – воскликнула Наталья. – И судьбу предсказать можете?
– Не уверен, – сказал Федосов. – Никогда этим не занимался. Да и никакой я не хиромант, если честно. – Он ласково погладил женскую узкую руку, в который раз восхитившись ее изяществом.
– А мне кажется, вы могли бы…
– Почему вы думаете? – с некоторой тревогой поинтересовался майор.
– Не знаю. Просто вы так внимательно рассматривали, вот мне и показалось.
– Красивая у вас рука, – сказал майор. – Пальцы длинные, как у пианистки.
– Ну уж… – усмехнулась Наталья и повернула руку, обратив ее ладонью к Федосову. – Видите, сколько разных линий? И каждая о чем-то говорит про человека.
– Правда? – удивился майор. – И вы верите в это?
– Как вам сказать? Думаю, что вполне вероятно. Мы ведь многого про человека не знаем.
После того разговора Федосов всерьез заинтересовался хиромантией. И правда ведь любопытно, что же можно узнать по линиям на ладони и насколько это соответствует реальности. Книгу по хиромантии он достал без труда в самом обычном книжном магазине, с цветными иллюстрациями и стал внимательно изучать свои ладони, сравнивая с картинками-схемами. Линия жизни, линия головы, линия успеха, бугор Венеры, бугор Меркурия и так далее. Почти как географическая карта.
Особенно порадовала его линия жизни: она была у него длинной и отчетливой, чего нельзя было сказать о линии успеха, да и бугор Венеры не слишком выразителен. И еще множество линий, крупных и мелких, ровных и извилистых, причудливо сплетались между собой, разобраться в них было не так-то просто, да майор и не собирался особенно вникать. Достаточно было главных, чтобы что-то про себя и свою жизнь понять. Самое удивительное, что линии эти и вправду о чем-то говорили, именно про него, про Федосова, подтверждая то, что он про себя уже знал или во всяком случае догадывался.
Линия жизни довольно внушительная и отчетливая, да и линия здоровья весьма недурна. А вот линии успеха не было почти вовсе. Сколько он ни сгибал пальцы и ни морщил ладонь, не просматривалась она.
Правда, если бы майора спросили, что такое для него успех, он бы наверняка затруднился с ответом. Не всем же быть генералами или маршалами, а майор – тоже командирское звание. В генералы ему точно было уже не выйти, поскольку военная карьера закончена, завести семью, скорее всего, тоже не светило, да он и не рвался, однажды уже обжегшись, да и кто бы теперь на него польстился, имея в виду, понятно, из тех, кто помоложе. Разбогатеть он никогда не стремился, поскольку всегда довольствовался малым. Да и на что, собственно, ему?
А вот соотношения некоторых линий, если верить книге, озадачивали. Все указывало на его романтичность и идеализм, хотя сам он считал себя реалистом. А еще, опять же по книге, он был очень эмоциональным и разрывался между идеализмом и гиперсексуальностью: линии пересекались. Поверить в это было довольно трудно, но, с другой стороны, разве человек и впрямь знает про себя все?
Жить Федосов старался строго по правилам и в себя особенно не заглядывал, а если случалось, то он, если честно, приходил в замешательство: столько там было смутного, невнятного. Даже вот руки, которые вызывали в нем какое-то особое чувство, – что это? Ну да, вроде как странность, вполне простительная, но ведь если автор книги про хиромантию прав, то и в этом можно было увидеть противоборство идеализма (все-таки руки, а не что-то более интимное) и сексуальности, даже без настораживающей приставки «гипер».
Никакого «гипер» Федосов в себе не замечал, а все относящееся к этой сфере (если не любовь) считал сомнительным в моральном смысле, разговоров на эту тему между сослуживцами не только не поддерживал, но и старался избегать. Холостяцкая же жизнь не угнетала (раз уж второй половины не находилось), а на двусмысленные шутки в свой адрес он, будучи человеком сдержанным и дисциплинированным, не реагировал: на чужой роток не накинешь платок.
Еще он вычитал, что если линии подправить ручкой или фломастером, продлить или закруглить, то и в жизни может многое измениться. Не кардинально, но тем не менее. Хотел ли он что-то поменять? Может, да, а может, и нет. Уж больно все получалось легко и просто: подрисовать линии, как на плане военной операции, черточка сюда, черточка туда, смотришь, и все начало выстраиваться совсем по-другому. Нет, как есть, так пусть и будет. Прямолинейно и честно, как и подобает военному. Судьбу не выбирают, судьба выбирает тебя.
Однако спустя некоторое время, почитав еще про людей, подправивших себе жизнь с помощью хиромантии, он неожиданно засомневался. Почему-то при этом в сознании всплыло лицо женщины по имени Наталья, той самой, что заподозрила в нем хироманта. Милое женское лицо с родинкой на щеке, чуть насмешливый взгляд из-под длинных ресниц… Надо же такое придумать: хиромант!
В один из вечеров, когда одиночество и душевная маета сгустились до непереносимости (случалось и такое), майор взял красный тонкий фломастер, которым обычно отчеркивал важные места в газетных статьях, и осторожно, едва касаясь, продлил линию успеха, потом достал из шкафчика початую бутылку дагестанского коньяка, подаренного ему в день рожденья, и позволил себе пару рюмок. Настроение сразу поднялось, и он благополучно забыл про красную линию на ладони, похожую на незажившую, еще кровоточащую царапину. С ней и заснул, а утром, умываясь, незаметно для себя ее смыл.
Была линия – и нет.
А хорошая была – длинная такая, уходящая прямиком к бугру Меркурия.
Наталья, как уже было сказано, работала в парикмахерской, где майор регулярно стригся. Волосы у него были хоть и с сединой, но довольно густые, стригся он всегда коротко и сразу будто молодел лет на пять как минимум. Он сам это чувствовал, так что уже в парикмахерской, так сказать, не отходя от кассы, ему вдруг хотелось взять обслуживавшего его мастера за руку, такую ловкую, такую ласковую, такую умелую, ведь что ни говори, а доверяешь не что-нибудь – голову, которой касаются не только чужие руки, но и расческа, и машинка, и, подчеркнем, ножницы.
Не исключено, что именно Наталья, хотя, вероятно, подсмеивалась, в него и заронила. В конце концов, не случайно же у него такая слабость, такое странное тяготение к этой части человеческого тела. Чем-то же она его влекла, независимо от функций, которые выполняла.
Может, как раз в линиях все и заключалось, может, именно они-то его и притягивали, хотя он об этом даже не догадывался. А не догадывался почему? Потому что просто не умел их читать. Ведь если человек неграмотен, сколько от него должно быть сокрыто. Так, между прочим, и со всем прочим.
В очередной свой поход в парикмахерскую Федосов по окончании процедуры взял Наталью за руку, повернул ее к себе ладонью и, осторожно касаясь пальцем линий, поведал женщине, как у нее при самом первом приближении обстоят дела со здоровьем, с успехом и… ну да, с судьбой, если не побояться этого слова. Не так чтобы очень определенно, и тем не менее.
Прохладная розовая ладошка прямо-таки светилась изнутри, линии обозначались очень четко, палец майора скользил по ним, притормаживая на всяких пересечениях, а Федосов, между тем, вспоминал, что могли обозначать эти хитросплетения.
Наталья слушала очень внимательно, приблизив свою голову к склонившейся над ее ладонью только что остриженной голове майора, тот даже ощущал макушкой ее теплое дыхание. Подтянулись и другие две парикмахерши, которым тоже хотелось узнать что-нибудь про себя. Майору пришлось поведать и им.
Столько рук в такой краткий промежуток у него никогда не было, он разволновался, стал запинаться и в конце концов, утомившись, пообещал в следующий раз отнестись к линиям коллег Натальи серьезней.
– Ну что, права я была? – спросила Наталья, провожая майора к выходу. – Вы действительно хиромант?
– Это вы виноваты. – Федосов улыбнулся. – Вы мне подсказали, я ведь никогда об этом не думал.
– Я тоже никогда не думала, что стану парикмахершей. А однажды стригла младшего брата и вдруг поняла, что это мое. Что я хочу этому научиться.
– Мне нравится у вас стричься. – Майор снова взял Наталью за руку и привычно задержал ее в своей.
– Всегда пожалуйста, – сказала Наталья. – Заходите.
Майор шел домой и размышлял о линии успеха, которую совсем недавно удлинил красным фломастером. Разговор с Натальей навел его на странную мысль: а вдруг это и вправду успех, пусть не такой уж большой, но все-таки? Значит, как-то действовало. В себе самом он чувствовал нечто новое, какую-то необычную легкость и свободу, даже и в разговоре, и в том, что он брал Наталью и ее коллег за руки и что-то им говорил про линии, а те слушали, заглядывали ему в глаза и задавали вопросы.
Никогда Федосов не пользовался таким вниманием у женщин. Не то что ему это надо было, но в то же время почему бы и нет? Не такой уж он и старик, в конце концов. И потом, размечтался вдруг майор, если бы кто-то был рядом, кого можно было в любой момент взять за руку, подержать в своей, порассматривать линии на ладони, поперебирать пальцы, погладить кожу или ногти, гладкость которых всегда интриговала майора, в общем, попользоваться как собственной рукой – а ведь неплохая идея!
Да вот хотя бы та же Наталья, которая так кстати разгадала в нем потенциального хироманта, чем не претендент? И рука у нее милая, ладошка такая уютная, и вся она располагающая по-женски, и к нему вроде бы благоволящая, не говоря уже про ее мастерство в парикмахерском деле.
Ох, как занимательно! Оказывается, жизнь не только не закончилась, как, случалось, временами казалось Федосову, она еще что-то сулила, неведомое и, самое главное, приятное. И как кстати он заметил, что пересечение двух линий возле бугра Венеры сулит Наталье поздний, но счастливый брак. Если честно, майор сам не ожидал, что скажет такое, и не понимал, откуда в нем это взялось: как-то само собой всплыло и само собой сказалось. Без какой-либо корысти с его стороны.
На этом, собственно, можно и закончить.
Действительно, все у майора Федосова с тех пор стало налаживаться. Парикмахерша Наталья стала его законной супругой, военная карьера тоже неожиданно возобновилась, поскольку его пригласили работать в районный военкомат и вскоре присвоили звание подполковника. Да и того музыканта из давних прошлых лет он почти перестал вспоминать, хотя призывников, приходивших в военкомат, строго, с самым суровым видом предостерегал от всяких эксцессов.
Иногда же он брал какого-нибудь призывника за руку и, приблизив его ладонь к своим глазам, внимательно разглядывал. Бог знает, что уж он там видел или хотел увидеть.
Правда, временами ему самому все происходящее казалось не просто странным, но почти неправдоподобным, как бы и не с ним вовсе. Бывало, они с Натальей садились вечером, после всех дневных дел и хлопот рядышком на диване и, сблизив головы, вместе изучали линии на ладонях друг у друга. А если их что-то настораживало или не нравилось, они брали красный фломастер и подправляли их. На всякий случай.
Про длинный взгляд
Кажется, у Достоевского встречается такое выражение «длинный взгляд». Наверно, именно такой взгляд – долгий, задумчивый, который вполне можно назвать длинным, – заметил Леонид у Анжелы, с которой они стояли в коридоре их офиса и разговаривали. Мимо проходила Галина, из другого отдела, высокая, стройная, длинноногая, с красиво уложенными волосами, улыбнулась им и последовала дальше. Анжела же полуобернулась ей вслед, и в лице ее появилось такое выражение, которое, мягко говоря, озадачило нашего героя.
Если взгляд, устремленный вслед Галине, можно назвать длинным, то выражение лица в целом можно было охарактеризовать как… А вот и никак – столько в нем всего. Впрочем, кое-что в нем можно было все-таки выделить, а именно очарованность. Она смотрела вслед Галине так, как может смотреть на объект преклонения страстно влюбленный и жаждущий близости человек. Впрочем, влюбленность вовсе не обязательна. Если напрямоту, просто вожделение, страстное, захватывающее все существо, когда на мгновение забывается все на свете.
Вот такое самозабвение и читалось сейчас в лице Анжелы, которая внезапно умолкла, можно сказать, на полуслове. Вероятно, она реально забылась, потому что нисколько не озаботилась слишком уж большой откровенностью своего взгляда, а он был настолько же откровенным, насколько и пристальным, насколько и длинным.
Леонид, в свою очередь, смотрел на лицо Анжелы, наверно, столь же пристально, сколь и растерянно, потому что заметил то, что видеть ему, скорее всего, не полагалось, проник туда, куда нельзя было, сам того не желая пересек, как теперь принято говорить, красную линию. И сразу возник вопрос: был ли взгляд Анжелы случайным, как и то, что в нем неожиданно полыхнуло? Или этих двух красивых женщин связывало очень личное, даже, можно сказать, интимное.
Надо сказать еще об одном существенном обстоятельстве, а именно об отношении самого Леонида к Анжеле. Замеченное им, наверно, не так бы его поразило, если бы он не испытывал к ней очень большой симпатии. Она давно ему нравилась, причем не только внешне, но и вообще. То есть тут вполне можно сказать и более прямо: Леонид испытывал к ней самое настоящее влечение. Ему нравились и ее темные волнистые волосы, и родинка на правой щеке, и ложбинка на подбородке, и нижняя чуть припухлая губа…
Короче, все в ней было ему мило, но вот что делать с этим дальше – Леонид не очень понимал: все-таки как-никак коллеги, в одной конторе трудятся. Это, конечно, ничему не препятствует, но есть и другая сторона. У них это по разным причинам не приветствуется. Рабочая типа этика. Вот и вопрос: насколько все серьезно и стоит ли нарушать правила? Положим, сопротивление своей мужской природе и тайным влечениям хоть и говорит в пользу героя, но тоже довольно странно. А если все серьезно? И надо ли жертвовать возможными отношениями? Проще говоря, живой жизнью.