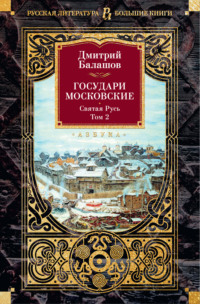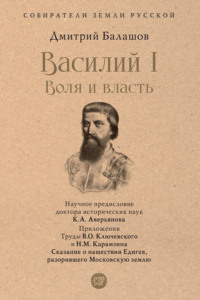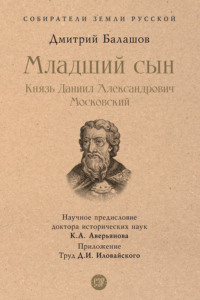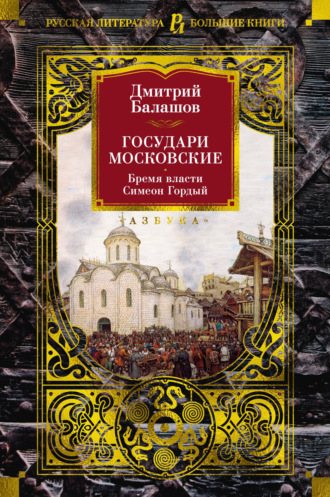
Полная версия
Государи Московские: Бремя власти. Симеон Гордый
Внизу, на широком дворе, теснятся возы, и кони ржут, и весело гомонит дружина, и слуги носятся стремглав, разводят коней по коновязям и стойлам, задают корм, разводят гостей по клетям и повалушам. Сейчас баня, молебен, а потом пир. Радостно благовестят колокола, сверкает снег – солнце взошло над Тверью! И снова надежды, и гордые замыслы вновь, и скоро, уже очень скоро – весна!
Глава 37
Свечи в кованых серебряных стоянцах. Ордынская глазурь на столе. Ковры глушат шаги, заслонки окон задвинуты, муравленая печь пышет жаром. Свет свечей, колеблясь, отражается в кованом узорочье, в драгих окладах икон, резною тенью обводит лица бояр, великой княгини Анны и княжича Федора. На столе закуски, квасы и мед, но это не пир и не дума княжая. Скорее, тайный совет. Князя Константина здесь нет. Анна боится сына, даже не его самого, невестки, которой придется, ежели воротится Сашко, уезжать из Твери. О сю пору справлялась, держала. И сына держала: Константин знал, что должен уступить стол Сашку.
Разговор идет уже второй час, и за многое, сказанное тут, можно ответить головой перед ханом Узбеком. Возможет ли Гедимин одолеть Орду? Не погибнет ли и Тверь под Литвою? О чем ся мыслят орденские немцы? Не предадут ли они в тяжкий час, предав Литву и укрывшись Тверью от ханского гнева? И паче всего: о чем мыслят владыка Василий и бояре Господина Великого Нова Города? Был бы Моисей на престоле Святой Софии! Но Моисей удалился в монастырь, а Василий Калика ликуется с Москвой. Как поворотит Новгород, так и все ся повернет! Плесков готов поддержать Александра Михалыча, но токмо со старшим братом вкупе. И все они страшатся Литвы. О чем думает Гедимин? Это никому не известно. Гедимин неверен и опасен. Он никому не друг, и папу римского обманывает так же, как и патриарха цареградского. Какая вера победит в Литве? И как быть с ханом Узбеком?
Лишь о Москве и о князе Иване Данилыче речи нет. Хоть о нем думают все. И любое решение, любое слово, сказанное в этом укромном покое, прежде всего, яко стрела оперенная, противу Москвы, противу великого князя Ивана.
– С ханом не считатися неможно, надобно ехать в Орду! – говорит наконец Игнатий Бороздин – и как припечатывает.
– Посылала уж… – нерешительно отзывается великая княгиня Анна.
– Посылать мало! – неуступчиво возражает боярин. – Надобен князь!
И тут доныне молчавший Федор подымает голос. Он необычно серьезен и сейчас кажется много старше своих четырнадцати лет. Голос у него ломается и звенит, но даже и по этому юному с переломами голосу видно, что мальчик уже понимает все: и меру беды, и меру мужества заранее взвесил и принял на рамена своя. Сдвинув брови (красив будет, егда возмужает, юный тверской князь!), он говорит как решенное, твердое, принятое, яко крест мученичества, на Голгофу несомый:
– Батюшке неможно. Убьют. Ехать надобно мне! Предстану перед ханом, вызнаю все, а тогда уж…
Анна приоткрывает рот в ужасе, хочет крикнуть, вопреки всему, вопреки горькой нужде и заботам княженья, участи Сашка и будущему Твери: «Не езди!» – и, сталкиваясь со взором мальчика – уже не мальчика, а мужа, героя, воина, юного князя тверского, – сдерживает и крик и стон. И, до крови закусывая губы, сникает. Ехать должен он – и боле нельзя никому. Не пошлешь ведь Константина, ни Василия не пошлешь! Не захотят да и не возмогут ничто! Сама бы поехала! Нельзя, неможно. Надобен князь! Александр или его старший сын. А ей вновь не спать и молить ночами Господа Бога: да не попустит, да приведет живым назад из проклятой Орды!
И ничего не сказала, не изрекла: только в торжественной, стойно церковной, мерцающей полутьме покоя нашарила рукав внука и бережно коснулась сухою ладонью его молодой, мальчишечьей и мужественной руки. Да еще, когда бояре начали обсуждать, кому и с кем сопровождать отрока в Орду, поймала на себе взгляд архимандрита Отроча монастыря, строгий, но и ободряющий. Взглядом, молча, ответила: «Внемлю, знаю, что все в руце Божьей, а сердце томит, поделать ничего не могу!»
Так, единым днем, обрела и потеряла внука своего, потому что все, что было после, – долгие сборы людей и добра, наказы боярам, грамоты, явные и тайные речи, – все было уже: проводы, проводы, проводы! А она уже досыти напровожалась своих близких в Орду. Досыти! Глаза б не видали!
А ничего не можно содеять иного. Понимала сама. Не свержено иго ордынское, и не скоро ослабнет Орда. Или скоро? Или только их робость и мешает тому, неизбежному, жданному? Отместью за поруганные святыни, за кровь, за смерть, за гибель близких, любимых, родных?! И все равно! Надо ехать, клонить голову. Просить у хана Узбека своей собины, волости своей… Хорошо московскому князю: за кажен поклон по княжеству дарят, а им? А ей? А сыну ее, Александру? Но не пришло время железом решать споры с Ордой! Пока еще не пришло. Или пришло уже, и лишь рознь да робость мешают им ниспровергнуть проклятое иго? Да лесть московская, подлая прелесть Иванова! Его, а не Юрия следовало изгубить в Орде!
Глава 38
Зима проходила, и уже в самом деле пахло весной. Протаивала земля на валах, обнажая сухую прошлогоднюю траву, кричали птицы. Волга засинела, вот-вот уже и тронет, с хрустом ломая лед. Уже давно воротил из Орды Иван Данилыч Московский, привезя новое пожалованье – на Дмитров. Передавали, князя Бориса по его, Иванову, навету уморили в Орде. Подступила пахота, потом сев. Скупые весточки из Сарая не радовали. Только и знатья было, что жив. Летом Иван замирился с Новым Городом, видно, прознал что-то. Свалили покос, потом страду осеннюю. Возили хлеб, молотили. А она, строжа посельских и старост, только одно думала: как-то там? Узбек кочевал, внука, верно, увез с собою, совсем и вестей не стало!
Анна пристрастилась гадать; знахарки говорили наразно, а всё лгали, чаяли утешить госпожу, а утешениям веры нет! Думала из деревни колдуна позвать – устыдилась. И так духовник косо смотрит. Анна начала строже блюсти молитвенный устав. Нынче и постилась не так, как в прежние годы, а со тщанием, ограничив себя и в пище, и в питии, и в одежде. Что деется в Орде? Пока грамотки дойдут, той поры и сам Федя приедет, только приедет ли? А то и заложником оставят! Тогда шли и шли в Орду серебро, а после (как уже и было с Дмитрием!) удавят и не воздохнут. Или кожу сдерут с живого, или колодкой уморят, или ино как ни то… На это ордынцы завсегда мастеры!
От Сашка прибыл во Тверь немчин из италийской земли, Дол. Крестился во Плескове, села ему дадены под Тверью, а все не свой! И ласков, и искателен. Обык говорить с великой княгиней, и говорит красно, а только не свой, не свой! И не понять порою, чего хочет. То затеет о папе римском сказывать, то о крестовом походе противу неверных… Раз не выдержала, окоротила:
– Что же Божьи дворяне ваши пошли Гроб Господень освобождать, а сами християнский град Константинополь полонили? А и ныне: с турками ли ратитесь али с теми же греками? – не понять. И орденски немцы! Им бы только грабить наши земли да Литву зорить! Сами не хотят крестить ятвягов, не то окрестят, дак на кого потом станет в походы ходить?! Я и тебя не пойму, нашей ты вроде веры, а все в ту, в латынскую сторону глядишь! Почто на Орду не встанете? Тогда бы и мы с вами пошли! В новый поход крестовый! А то словно и не одна вера Христова у нас, а другояка совсем!
Задышалась, раскраснелась, руки стали дрожать. А немчин тонко улыбается, ладони к сердцу жмет:
– Госпожа! Если бы эта голова, это сердце могли послужить всей Руси, яко служат князю Александру! Увы, я не папа, не король, не император, что я могу сказать? – И начал долгое, увертливое, и о трудностях, и о тайностях, и о том, что в италийской земле фряги друг с другом раскоторовали, что сербский король Стефан разбил болгар и теперь угрожает ихним землям, и про немецкого кесаря, и про Казимира, короля ляшского, и про Карлуса, богемского короля… Ляхи потеснили чехов, а те враждуют с немцы, а ляшский король Казимир в союзе с Гедимином Литовским (вот и понимай тут, кто тебе друг, кто враг!). В толикой тягостной розни неможно собрать всех в крестовый поход на Орду…
Анна, стараясь изо всех сил утишить сердечное трепыхание в груди, почти не слушала. Не могут, не хотят – непочто и баять! Что для них Русь? Иная, чужая земля! В ляхах католики правят, а коли у них с Гедимином союз, дак и в Литве той порою католики победят! А кто нам свой? «Может, – подумала вдруг и, подумав, сама удивилась, – Иван-то Данилыч, насмотрясь на таких краснобаев, и почал с Ордою совет держать! С Ордою… И передолить его надобно тамо, в Орде, у хана. Не на кого оперетися Великой Руси, сами ся должны и защитить, и обиходить, сами решить и о власти спор! И на Орду, как умер Тохта, нету боле надежды! Понимает ли хоть Иван, что творит? Землю родную бесерменам того и гляди подарит!»
Италийского немца и после слушала. Много знал, о многом услышала от него в первый након. Чем-то и помогал коротать дни, ожидаючи Федю из Орды… И все одно был не свой. И не православный даже, хоть и женился во Твери, и в русскую церкву ходил. Все было не то, и велись после бесед с ним мысли нехорошие: а ну как обадили Александра католики? А ну как и этот, как его зовут сенные девки, «наталинский немец», подослан от Гедимина или от папы римского? Надо остеречь Сашка! Не привлекал бы излиха чужих-то к себе, не печалил своих бояр! А может, ему тамо виднее? Может, меж Литвою и Орденом и такие надобны и без них не обойтись? Ах, Сашко! Скорее бы ты воротил во Тверь! Матери твоей уже невмоготу стало! Вернись, сын! Нет Узбека, нет запрета, нет московского князя, нет ни Гедимина, ни Литвы, есть ты, сын, и твоя мать, что ждет тебя уже из последних сил!
Федя с боярами воротился позднею осенью. Привез ханский зов Александру: «Да прибудет!» А она уже и не ждала, не могла, что-то надломилось в ней. Федя ли, Сашок – они оба объединились в одно лицо, в один лик надежды. И так сладко, не сдерживая бегучих слез, было смотреть на него! На это юное, обожженное до красноты степными ветрами лицо, слышать возмужавший, с низкими переливами голос, держать его за руки… Сподобил! Федя! Феденька! Внучонок, сынок!
Она выстояла службу в соборе, выдержала торжественную встречу и пир. Вечером слегла. И к утру уже сама поняла, что серьезно. Быть может, и не встанет! Сенные боярыни и девки суетились с питьем и лекарствами, растирали, согревали стынущие ноги. Она с удивлением глядела на хлопоты, на соболиное одеяло, на шелковые простыни… К чему это все? Потребовала переодеть себя в белое полотно, вместо душной перины положить на солому. Исповедалась и причастилась. Решила, ежели станет хуже, принять постриг. Вызвала сыновей, Василия с Константином. Велела прочесть завещание. Василия, поцеловав, скоро отослала от себя. Как получил Кашин, так пущай и сидит на нем! Константина удержала. Долго-долго глядела в глаза, сказала наконец твердо:
– Может, умру. Останешь один. Помни, как убили отца! – Помолчала. Константин бледнел, белел, руки начинали трястись (и тут робеет!). – Великого, через меру сил твоих, не прошу, – сказала Анна, передохнув и не глядя на сына, – тебе жить. Но не смей… ни ты, ни Василий… Костью моей не двиньте, брата старейшего не обидьте ни в чем! Ни в роду его, ни в сынах, ни во внуках, ни в правнуках! Иначе… Мне стати с тобою на суде пред Господом!
– Матушка! – только и вымолвил, склоняясь, и затрясся, спрятав в ладони лицо (не воин, не муж… Ну, пущай живет, как может, лишь бы этой подлости не свершил!).
– Помни, Костянтин! Все прочее забудь, а это помни! Тверь – Сашку!
– Буду помнить, матушка! – (Едва вымолвил, мальчик ты, мальчик! Зрел смерть отцову, а к смерти не привык!)
– Ну, сын, теперь поцелуй меня и ступай! Может, и не умру… Все одно помни!
Он судорожно кивнул несколько раз, слепо, едва не ощупью, вышел из покоя.
Она долго-долго лежала, смежив очи. Уже и священник, подойдя к ложу, с беспокойством заглядывал в лик великой княгини: не отходит ли света сего? Но Анна открыла очи, тихо и строго велела:
– Позови Федора!
Внука попросила взять ее за руки. Шепотом (громко уже не могла) попросила повторить опять, что и как створилось в Орде у Узбека. Выслушала, хотя и с трудом уже заставляла себя внимать (все отходило, уплывало, становилось ненужным, неважным).
– Так… стало, Сашок поедет теперь? – спросила с придыхом, медленно выдавливая слова. – Не уморит… Узбек?
У Феди – видела, словно в тумане, – как остарело лицо. Он не сразу ответил: видно, хотел, но не мог солгать.
– Наклонись! – велела она.
– Не знаю, мамо! Сулили, не тронут… а Бог весть!
Он даже сам не понял, что назвал бабу матерью, а она учуяла, чуть-чуть улыбнулась нечаянной ласке его, слегка раздвинув сухие морщины впалых щек.
– Ну, значит, не умру. Нельзя мне! Дожду… Сашка из Орды… – Что-то она еще хотела сказать, важнейшее… Что? Что? Неужели не вспомнит? Она наморщила от усилья лоб: что? Что? Наклонясь, внук ловил ее шелестящий прерывистый шепот:
– Пущай… просит… князем великим, тверским… Не будет в кабале у Ивана… Сам с Ордой ся управит… – сказала и, сквозь муть, сквозь туман смерти, вгляделась: понял ли? Федор затряс головой: понял, понял!
– Меж бояр наших о том тоже говорка была!
Анна вздохнула глубоко, освобожденно. Теперь, кажись, почти уже ничто не держало ее на земле… Нет, держало! Сашок… Золотая Орда…
Едва-едва слышные, прошелестели слова:
– Возьми… руки…
Федор взял ее уже холодные, почти неживые ладони в свои, горячие, сильные. Анна закрыла глаза. И тотчас хороводом, кружась, подступили к изголовью видения. Двое подошли к ложу. По темно-синим очам признала покойного Дмитрия, по светлому незаботному зраку – Александра. «И ты здесь?» – неслышно спросила Анна, удивясь ему, живому, больше, чем тому, мертвому. «А где же отец?» – спросила, не разжимая губ, и тотчас он, клубясь, словно бы из тумана, подступил и стал в изножии. Его бугристые плечи, его широко расставленные глаза… «Я старая, некрасовитая нынче!» – горько пожалилась она. «Ты всегда красивая для меня! Краше солнца, краше красного месяца!» И сладко, так сладко ей от этих его слов, и, верно, почуяла, что опять молодая, с высокою грудью, и волнуется, словно невеста пред женихом… Се жених грядет во полуночи!
Чьи-то руки, едва ощутимые, держат ее ладони, не дают уходить. И это единственная тонкая ниточка внешней жизни, которая еще связывает ее с этой землей. Глаза Анны прикрыты. И пение – не пение, а гласы ангельские реют вдалеке. И трое предстоящих, муж и два сына, светлеют, тают, будто в тумане, у ее молодого ложа, весеннего ложа, ложа надежды, мира и любви!
Федор сидит и держит едва теплые, почти неживые ладони. Слезы капают на белый монашеский покров. Горячие слезы юности, слезы мужчины и воина у постели женщины-матери рода своего.
Да будет мир с тобой, баба Анна! Как бы хорошо, как бы нужно было тебе умереть теперь! Да не узнала бы ты и там, в мире горнем, грядущей судьбы сыновей и внуков своих! Так было бы лучше, много лучше для тебя! Ибо суров сей временный мир нашей вседневной скорби, мир, в коем живем и страдаем и ненавидим друг друга мы, живые, мнящие ся бессмертными, и уже обреченные праху и исчезновению в пучине времен.
Дверь покоя приотворяется, заботные лица иерея и двух боярынь маячат в дверях.
– Спит, – говорит Федор. – Не тревожьте ее.
Глава 39
Юный тверской княжич Федор Александрович все еще был в Орде, когда из Новгорода прибыло к великому князю новое посольство архиепископа Василия Калики.
Пышно доцветало лето. Тяжелые высокие облака громоздились и таяли сине-свинцовыми громадами в тусклом, потемневшем, как и листва дерев, небе. Ветер, качая хлеба, обдавал душною сытной жарой. Тяжко брели стада, облепленные роями крылатой нечисти. Тяжко клонили долу усатые головы колосьев. На пригорках, на солнцепеке, уже зачинали жать.
Послы ехали во Владимир, к митрополиту Феогносту, просить заступы и посредничества перед Иваном, и перед ними развертывалось желто-полосатое Ополье в море хлебов, среди которых, словно утонувши в густых ржах, прятались по логам деревни с невысокими, словно тоже втиснутыми в землю избами, крытыми потемневшею от зимних непогод соломой. Люди были в поле, и деревни стояли почти вымершие. Редко брехнет разморенный жарою пес, да белоголовый льняной мальчонка в посконной рубахе, любопытно и долго-долго уставясь круглыми глазами, провожает по-за поскотиною чудной обоз, дивясь на боярское платье и на занятных мужиков-возчиков в сапогах и кожаных постолах вместо лаптей. Или древняя, уже совсем вышедшая из сил, старуха, что бредет обочь дороги, остановит, глядючи из-под ладони, и, догадав по платью, что перед нею духовное лицо, торопливо семеня, поспешает принять благословение у проезжающего в распахнутом возке небольшого ростом и ясноглазого священника, не мысля даже и мыслию, что улыбчивый, проминовавший ее и легко осенивший крестным знамением поп – всесильный архиепископ новогородский, а верхоконные бородачи за ним – великие бояре далекого северного вечевого города…
Пыльный и шумный Владимир встретил торжественными соборами, торжественным звоном и суетой улиц. Бояре приоделись. Варфоломей Юрьевич вздел сверх шелкового рудо-желтого зипуна суконный алый, отделанный парчою, охабень, соболиную шапку и поминутно отирал тафтяным платом обильные струи пота, текущие по лбу и щекам. Зато и народ аж под копыта лез – позреть великого боярина новогородского!
Калика, не разделявший любви своих «детей» – новгородских бояр – к пышности, ехал в том же дорожном платье, и на него до митрополичья двора почти не обращали внимания.
Феогност принял послов не томя. Владыку Василия – как доброго гостя. С той еще, с волынской, поры по нраву пришел ему легкий и деловитый новгородец. Ныне прибавил важности – глава! А в чем-то все тот же любопытствующий странник на здешней бренной земле. (Много лет спустя узнал Феогност о возникшей меж Василием Каликой и тверским владыкою Федором пре о рае зримом и мысленном. Федор Добрый доказывал, что рай неможно узреть бренными очами, токмо духовными и в духе, ибо рай не от мира сего, а Василий Калика утверждал, что можно и смертными очами узрети врата райские, о чем якобы повестили ему северные новгородские мореходцы. Феогност умом был на стороне епископа Федора, но послание Василия о рае – чудесное, яркое, как сказка, полное удивления пред безмерностью мира и сугубой, детской почти, веры в зримое чудо, живо напомнившее ему прежние рассказы Калики, – очаровало его, и он велел переписать послание, сохранив его в ризнице Успенского собора.)
Новогородцы поклонились дарами: поднесли серебряный сион, посох с изумрудом в навершии, иконы – «Николу» с житием и Спасов лик – доброго новгородского письма, связки соболей, куниц и горностаев, шкатулку резную из зуба рыбьего, мед, миро и фряжское красное вино – и Феогност окончательно растаял, теперь уже почтя заключение мира своею прямою обязанностью («Умерять гнев и сводить в любовь, яко отец чад своих…»). Он сам поехал в Москву, к Ивану, упреждая послов, и имел долгую молвь с великим князем («Достоит духовному пастырю Руси умерять гнев сильных и сводить в любовь паству свою…»).
Иван выслушал Феогноста с пристойным смирением, но угрюмо. Сам знал, что надо сотворить мир. До него дошли уже вести, что сын Александра Тверского принят в Орде ханом Узбеком. Да и Гедимин не оказывал того расположенья, коее надеялся Иван получить, женив сына на литовской княжне.
Новгородцы давали теперь тысячу серебра. Этого было мало, но… Дальнейшая неуступчивость грозила уже такими бедами, что следовало согласиться, и как можно скорей. Надо было переступить через себя! И Феогност молил, да и сам знал, что надобно, токмо упрямство одолело паче меры. Не свое, братнино, тупое, глупое упрямство, и держало, как коршун в когтях.
Новгородское посольство он принял. Вновь дивясь про себя лучащейся от Василия Калики деловитой радости, разглядывал он архиепископа Великого Города. (На стены каменные хватает небось серебра! Нынче и внешнюю стену у Славны сложили, не от него ли, великого князя, город боронят?)
– Достоит мне, великому князю владимирскому, имати власть во всей русской земле! И Новгороду Великому, мняща мя яко господина своего, надлежит вкупе с иными нести тяготы ордынские и прочие.
– Вкупе и согласно! – живо отозвался Калика. – Пото и просим о мире, и бор даем, и уряженное по прежним грамотам, како от нас великому князю надлежит! Соучастны есьмы в судьбе нашей, и в любви взаимной надлежит быти нам, не утесняя ничим же друг друга! Молим, княже, отложи гнев и сниди в любовь!
Да, они стояли на своем, давая Ивану после стольких долгих месяцев размирья и которы ратной ровно половину того, что хотел и мнил он получить. Да еще, сверх того, учили, как надлежит ему мыслить о власти княжеской!
Связь соучастия, яко у равных государей, – вот что предлагал ему Новгород Великий. Он же понимал, что неможно, нельзя позволить того, что власть должна быть связью подчинения единому главе, единой силе, иначе все вновь и опять пойдет вразброд, как это уже не раз приключалось на Руси! Но у них была своя правда, и своя вера, и были силы, дабы веру свою защитить. И Иван ничего не мог совершить противу, ни сказать, ни содеять. Новгород не Ростов, не Дмитров! И надо, надо, надо заключать мир!
Вечером к нему в изложню пришел Симеон:
– Не спишь, батюшка?
– Заходи, сынок! – дозволил Иван и позвал, помедлив: – Садись сюда, на постелю!
От целодневной при с новогородцами раскалывалась голова. Может, сын отвлечет чем? Порадует ли, опечалит? Но Симеон, присев на ложе, новый какой-то, суровый, помедлил, вздохнул и высказал, как твердо решенное:
– Батюшка! Достоит тебе заключити мир!
(«И ты тоже!») Иван вдруг почуял нежданные слезы в глазах. В покое было темно, скудный свет в отодвинутые ради ночной прохлады оконца уже померк, уже побледнело алое на вечерней заре небо, и ярче стал невидный совсем по дневной поре лампадный огонек… Сына не прогонишь капризно, ему, Симеону, наследнику, надлежит объяснить все.
– Завтра подпишу, сын! Не хотел, а… передолю, заставлю себя… Надобен мир. Княжич Федор в Орде!
– Сын Александра Михалыча?
Иван кивнул. Привстав, поправил взголовье. Симеон, молча угадывая желанья отца, подал свернутый овчинный ордынский тулуп. Иван, устроив ложе, чтобы мочно было полусидеть, откинулся, поерзал затылком, уминая курчавый мех.
Сумерки сгущались. Лицо Симеона смутно белело в темноте.
– Батя! А почто нам так надобен Новгород? Не то я молвил! – тотчас поправился Симеон. – Почто надобно всех, несхожих друг с другом, как тверичи или новогородцы, склонять под едину власть? Нет ли в этом гордыни? Быть может, прав архипастырь Василий? Не нарушаем мы сим главную заповедь Христову: «Возлюби ближнего своего…»?
Если Иван еще видел сына, то Симеон в тени от высокой спинки княжеского ложа и вовсе не видел отца. Голос Ивана, чуть хриплый, усталый, доносился из темноты и словно бы жил сам по себе.
– «…яко же самого себя!» – строго досказал этот голос и, помедлив, присовокупил: – Себя не токмо любишь, но и неволишь, и жестоко неволишь порой! К труду к деянию. Из тоя же любви! Зри в черных людях: сын спит, а отец уже на ногах, ладит упряжь, лапоть ли починяет, какой обор оторвался тамо, али расплелось непутем… А хозяйка в дому? Еще и свету нет, а уже топит печь, кормит и доит скотину… Дак что ж ты сам себя, возлюбя, мнишь содержать в трудах и в законе, а ближнего своего – в неге, да в холе, да в беспутстве всяком? «Яко же самого себя», сказано у Христа!
– Это я знаю, отец, о том не раз баяли, а только…
– Власть надобна, дабы съединить, совокупить воедино всю землю русскую! Митрополит знаменуется «Всея Руси», и князь должен быть такожде «Всея Руси»! – возвысил голос Иван, перебивая сына. – Зри! Возмог ли Михайло добром да советом достичь того? И сам сильно деял по нужде! И у него в подручниках ходили князья! А токмо пришел час – и сколь жалобщиков набежало губить Михайлу?
– Мы же, отец…
– Да, мы! И прочие все такожде! И Новгород! И суздальский князь! И Ростов! Много я натворил, сын, такого, о чем лучше не сказывать… И ныне творю. С Ярославлем вот. Посылывал даже и к купцам ярославским, и бояр подкупал зятевых… А токмо – надобно сие! Для всей Руси Великой! Для смердов! Бояр! Гостей! Для всех, для всего люда русского!
Иван умолк, чуял, что все чело в испарине, – не нать было кричать так! Симеон выслушал, не перебивая, и только медленно покачал головой.
– Скажи, батя, а где, в чем залог нашей с тобою правды? Ведь такожде и всякий-любой речет: «Творю зло для добра!», «Горек корень болезни лечит» и всякая подобная.
– В чем? В строгих понятиях, в законе Христовом! Надобно быти примером для подданных и в семье: не прелюбы творить, а блюсти чистоту и честь дома… Я матери твоей ни разу пальцем не тронул! Был строг, а и гласа не возвысил никогда! В трудах, в богатств нестяжании. Должно всегда ощущать власть яко труд, долг, обязанность, данную Господом! – Иван передохнул, вновь отер потное лицо: – В сем дели церковь должна помочь государю. В одном удержать, в ином наставить. И сам пред собою, егда на молитве стоиши, являй Господу в умной молитве вся тайная и вся скверная души своея, да очистиши ум от лукавства. И духовник такожде на то и даден тебе, и бдение нощное, и пост. Алексий, крестник мой, даже и некое сказал, важнейшее прочего: надобен святой! Чуешь? Святой! Дабы преклонились пред ним. И еще одно рек: что сей святой явит себя среди тех, коих я утеснил ныне… Сын, я, возможно, гублю душу, и это самая страшная жертва за други своя! – выдохнул Иван, приподнимаясь на локтях, в белое, размытое, почти чужое лицо сына. – Но не похотьствую, не красуюсь в роскоши! Ни сладкоядением, ни сладкопитием, ни иным грехом – блудодейным, иным ли – не согрешил есмь!