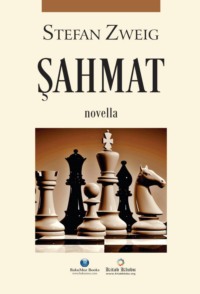Полная версия
Поцелуй, или Нетерпение сердца
Но к моему изумлению, я всякий раз находил в себе силы для этого. Ибо непостижимым образом первое познание человеческой природы влечет за собой все новые и новые открытия, и кто обрел способность искренне сочувствовать людскому горю, хотя бы и в одном-единственном случае, тот, получив чудодейственный урок, научился понимать всякое несчастье, как бы на первый взгляд странно или безрассудно оно ни проявлялось. Вот почему гневные вспышки Эдит, повторявшиеся от случая к случаю, не вводили меня в заблуждение; напротив, чем несправедливее и мучительнее для окружающих бывали эти приступы, тем сильнее они меня потрясали; и я постепенно понял, почему мой приход радовал ее отца и Илону, почему в этом доме мое присутствие было желанным. Долгое страдание изнуряет не только больного, но и его близких; сильные переживания не могут длиться бесконечно. Разумеется, и отец и кузина всей душой жалели бедняжку, но в их жалости чувствовались усталость и смирение. Ее недуг давно стал для них печальным фактом, больная была для них просто больной, и они покорно пережидали, пока отбушует налетевший шквал. Это уже не страшило их так, как страшило меня, я каждый раз пугался. Я был единственным, в ком ее страдания неизменно вызывали взволнованный отклик, и едва ли не единственным, перед кем она стыдилась своей несдержанности. Стоило мне, когда она теряла самообладание, только произнести что-нибудь вроде: «Но, милая фрейлейн Эдит», – и она сразу же потупляла взор, краска заливала ее лицо, и было видно, что она охотнее всего убежала бы куда глаза глядят, если бы не ее парализованные ноги. И ни разу я не попрощался с ней без того, чтобы она не сказала почти умоляющим тоном, от которого меня бросало в дрожь: «Вы придете завтра? Ведь вы не сердитесь на меня за то, что я сегодня наговорила глупостей?» В такие минуты мне казалось необъяснимым и удивительным, как это я, не давая ничего, кроме искреннего сочувствия, обретал такую власть над людьми.
Но такова уж юность: то, что познается впервые, захватывает ее целиком, до самозабвения, и в своих увлечениях она не знает меры. Что-то странное начало твориться со мной, едва я обнаружил, что мое сочувствие не только радостно волнует меня, но и благотворно действует на окружающих; с тех пор как я впервые ощутил в себе способность к состраданию, мне стало казаться, будто в мою кровь проникло какое-то вещество, сделало ее краснее, горячее и заставило быстрее бежать по жилам. Мне вдруг стало чуждым оцепенение, в котором я прозябал долгие годы, точно в серых, холодных сумерках. Сотни мелочей, на которые я прежде просто не обращал внимания, теперь занимали и увлекали меня; я стал замечать подробности, которые меня трогали и поражали, словно первое соприкосновение с чужим страданием сделало мой взор мудрым и проницательным. А поскольку наш мир – каждая улица и каждый дом – насквозь пропитан горечью нищеты и полон превратностей судьбы, то все мои дни отныне проходили в непрерывном и напряженном наблюдении. Так, например, объезжая лошадь, я ловил себя теперь на том, что уже не могу, как бывало, изо всей силы хлестнуть ее по крупу, ибо тут же меня охватывало чувство стыда и рубец словно горел на моей собственной коже. А когда наш вспыльчивый ротмистр бил наотмашь по лицу какого-нибудь беднягу рядового за то, что тот плохо подтянут, и провинившийся стоял навытяжку, не смея пошевельнуться, у меня гневно сжимались кулаки. Стоявшие кругом солдаты молча глазели или исподтишка посмеивались, и только я, я один видел, как у парня из-под опущенных век выступают слезы обиды. Я не мог больше выносить шуток по адресу неловких или неудачливых товарищей; с тех пор как я, увидев эту беззащитную, беспомощную девушку, понял, что такое муки бессилия, всякая жестокость вызывала во мне гнев, всякая беспомощность требовала от меня участия. С той минуты, как случай заронил мне в душу искру сострадания, я начал замечать простые вещи, прежде ускользавшие от моего взора: сами по себе они мало что значат, но каждая из них трогает и волнует меня. Например, я вдруг замечаю, что хозяйка табачной лавочки, где я всегда покупаю сигареты, считая деньги, подносит их слишком близко к выпуклым стеклам своих очков, и тут же у меня возникает подозрение, что ей грозит катаракта. Завтра, думаю я, осторожно ее расспрошу и, может быть, даже уговорю нашего полкового врача Гольдбаума осмотреть ее. Или вдруг вижу, что вольноопределяющиеся в последнее время откровенно игнорируют маленького рыжего К.; догадываюсь о причине: в газетах писали (при чем тут он, бедный малый?), что его дядя арестован за растрату; во время обеда я нарочно подсаживаюсь к нему и завязываю разговор, тотчас ощутив по его благодарному взгляду, что он понимает – я делаю это просто для того, чтобы показать остальным, как несправедливо и плохо они поступают. Или выклянчиваю прощение для одного из своих улан, которого неумолимый полковник приказал поставить на четыре часа под ружье.
Каждый день я нахожу множество поводов вновь и вновь испытать эту внезапно открывшуюся мне радость. И я даю себе слово: отныне помогать любому и каждому, сколько хватит сил. Не быть ленивым и равнодушным. Возвышаться над самим собой, обогащать собственную душу, щедро отдавая ее другим, разделять судьбу каждого, постигая и превозмогая страдание могучей силой сострадания. И мое сердце, дивясь самому себе, трепещет от благодарности к больной, которую я невольно обидел и несчастье которой научило меня волшебной науке действенного сочувствия.
Но вскоре я был пробужден от этих романтических грез, и притом самым безжалостным образом. Вот как это случилось. В тот вечер мы играли в домино, потом долго болтали, и никто из нас не заметил, как пролетело время. Наконец в половине двенадцатого я бросаю испуганный взгляд на часы и поспешно прощаюсь. Еще в вестибюле, куда меня провожает отец Эдит, мы слышим с улицы шум, словно гудят сто тысяч шмелей. Дождь льет как из ведра.
– Автомобиль довезет вас, – успокаивает меня Кекешфальва.
– Это совершенно излишне, – возражаю я; мне просто неловко, что шоферу ради меня придется в половине двенадцатого ночи снова одеваться и выводить машину из гаража (столь заботливое отношение к людям появилось у меня лишь в последние недели). Но в конце концов, уж слишком заманчиво в такую собачью погоду спокойно доехать домой в уютной кабине, вместо того чтобы добрых полчаса шлепать в тонких лаковых ботинках по шоссе и промокнуть до костей; и я уступаю. Несмотря на дождь, старик провожает меня до автомобиля и сам укрывает мне колени пледом. Шофер заводит машину, и мы летим сквозь разбушевавшуюся стихию.
Удивительно приятно и удобно ехать в бесшумно скользящем автомобиле. Но вот мы уже сворачиваем к казарме – как невероятно быстро мы домчались! – и я, постучав в стекло, прошу шофера остановиться на площади Ратуши. В элегантном лимузине Кекешфальвы к казарме лучше не подъезжать! Я знаю, никому не придется по вкусу, если простой лейтенант, словно какой-нибудь эрцгерцог, с блеском подкатит в шикарном автомобиле и шофер в ливрее распахнет перед ним дверцу. На такое бахвальство наши начальники смотрят косо, а кроме того, инстинкт уже давно предостерегает меня: как можно меньше смешивать оба моих мира – роскошный мир Кекешфальвов, где я свободный человек, независимый и избалованный, и мир службы, в котором я должен беспрекословно повиноваться, в котором я жалкий бедняк, каждый раз испытывающий огромное облегчение, если в месяце не тридцать один день, а тридцать. Подсознательно одно мое «я» ничего не желает знать о другом; временами я и сам не могу различить, который же из двух настоящий Тони Гофмиллер – тот, в доме Кекешфальвы, или тот, на службе?
Шофер послушно тормозит на площади Ратуши, в двух кварталах от казармы. Я выхожу, поднимаю воротник и собираюсь побыстрее пересечь широкую площадь. Но как раз в эту секунду дождь хлынул с удвоенной силой и ветер мокрым бичом хлестнул меня по лицу. Лучше несколько минут переждать в какой-нибудь подворотне, думаю я, чем бежать два переулка под ливнем; или, наконец, зайти в кафе, оно еще открыто, и посидеть в тепле, пока проклятое небо не опорожнит свои самые большие лейки. До кафе всего шесть домов, и – смотри-ка! – за мокрыми оконными стеклами тускло мерцает свет. Наверное, приятели еще торчат за нашим постоянным столиком – отличный случай загладить свою вину, ведь мне уже давно бы следовало показаться. Вчера, позавчера, всю эту да и прошлую неделю я здесь не был, и, по совести говоря, у них есть основания на меня злиться; если уж изменяешь, так хоть соблюдай приличия.
Я открываю дверь. В зале кафе газовые рожки из экономии уже погашены, повсюду валяются развернутые газеты, а маркер Эуген подсчитывает выручку. Но позади, в игорной комнате, я вижу свет и поблескивание форменных пуговиц: ну, конечно, они еще здесь, эти заядлые картежники – старший лейтенант Йожи, лейтенант Ференц и полковой врач Гольдбаум. Видимо, они давно окончили партию, но все еще, лениво развалившись, пребывают в хорошо знакомом мне состоянии ресторанной дремоты, когда страшнее всего двинуться с места. Понятно, что мой приход, прервавший унылое безделье, для них все равно что дар божий.
– Привет, Тони! – Ференц, словно по тревоге, поднимает остальных.
– «Моей ли хижине такая честь?» – декламирует полковой врач, который, как у нас острят, страдает хроническим цитатным поносом.
Три пары сонных глаз, прищурившись, улыбаются мне.
– Здорово! Здорово!
Их радость мне приятна. И в самом деле, они славные парни, думаю я, ничуть не обиделись на меня за то, что я столько времени пропадал, даже не извинившись и ничего не объяснив.
– Чашку черного, – заказываю я кельнеру, сонно шаркающему ногами, и с неизменным «Ну, что новенького?», которым начинается у нас всякая встреча, придвигаю к себе стул.
Широкое лицо Ференца расплывается еще шире, прищуренные глаза почти исчезают в красных, как яблоки, щеках; медленно, тягуче открывается рот.
– Что ж, самая свежая новость, – довольно ухмыляется он, – что ваше благородие опять соизволили пожаловать в нашу скромную лачугу.
А полковой врач откидывается назад и декламирует с кайнцевской[11] интонацией:
Магадев, земли владыка,К нам в шестой нисходит раз,Чтоб от мала до великаСамому изведать нас[12].Все трое смотрят на меня с усмешкой, и мне сразу становится не по себе. Лучше всего, думаю я, поскорее начать самому, не дожидаясь, пока они примутся расспрашивать, почему я не показывался все эти дни и откуда явился сейчас. Но не успеваю я открыть рот, как Ференц многозначительно подмигивает Йожи и толкает его локтем.
– Полюбуйся-ка! – показывает он под стол. – Ну, что скажешь? Лаковые штиблеты в такую собачью погоду и новенький мундир! Да, Тони свое дело знает, подыскал тепленькое местечко. Наверное, чертовски здорово там, у старого манихея, а? Каждый вечер пять блюд, рассказывал аптекарь, икра, каплуны, настоящий Bols[13] и отборные сигары – это тебе не наша жратва в «Рыжем льве»! Ай да Тони! Ему палец в рот не клади, а мы-то думали – простак!
Йожи тотчас подхватывает:
– Только вот товарищ он никудышный. Да, брат Тони, ну что тебе стоило намекнуть своему старикашке: «Вот, мол, старина, есть у меня два закадычных приятеля, парни что надо, тоже не с ножа едят, я их как-нибудь к вам приволоку!» – а ты вместо этого думаешь: «Пусть их лакают свою пльзеньскую кислятину да проперчивают себе глотки осточертевшим гуляшом». Вот уж товарищ так товарищ, ничего не скажешь! Себе все, а другим – шиш! Ну, а толстого «упмана» ты мне притащить догадался? Если да – то на сегодня я тебя прощаю.
Все трое смеются и причмокивают губами. Я внезапно краснею до корней волос. Черт возьми, откуда этот проклятый Йожи мог узнать, что Кекешфальва, провожая меня, действительно сунул мне в карман мундира одну из своих превосходных сигар (он делает это всякий раз)? Неужели она торчит оттуда? Хоть бы они не заметили! В смущении я делано смеюсь:
– Еще чего – «упмана»! А подешевле не хочешь? Думаю, что сигарета третьего сорта тоже сойдет! – И протягиваю ему открытый портсигар. Но в тот же миг отдергиваю руку: позавчера мне исполнилось двадцать пять лет, девушки каким-то образом об этом проведали, и за ужином, поднимая со своей тарелки салфетку, я почувствовал, что в ней завернуто что-то тяжелое – это был портсигар, подарок ко дню рождения. Однако Ференц успел заметить новую вещицу: в нашей тесной компании малейший пустяк – событие.
– Э, а это что такое? – гудит он. – Новая амуниция!
Он спокойно забирает у меня портсигар (что я могу поделать?), ощупывает его, осматривает и, наконец, взвешивает на ладони.
– Слушай, – поворачивается он к полковому врачу, – по-моему, это настоящее. Ну-ка погляди как следует, ведь твой почтенный родитель знает толк в таких делах, да и ты, наверное, лицом в грязь не ударишь.
Полковой врач Гольдбаум, сын ювелира из Дрогобыча, водружает пенсне на свой несколько толстоватый нос, берет портсигар, взвешивает в руке, разглядывает со всех сторон и с видом знатока постукивает по крышке согнутым пальцем.
– Золото, – ставит он окончательный диагноз. – Чистое золото, с пробой и чертовски тяжелое. Всему полку можно зубы запломбировать. Семьсот – восемьсот крон цена.
Произнеся свой приговор, изумивший прежде всего меня самого (я был уверен, что это обыкновенная позолота), он передает портсигар Йожи, который берет его уже куда почтительнее (подумать только, какое благоговение мы, молодые парни, испытываем перед драгоценностями!). Йожи рассматривает его, ощупывает, глядится в зеркальную поверхность крышки и, наконец, нажав рубиновую кнопку, открывает его и озадаченно восклицает:
– Ого, надпись! Слушайте, слушайте! «Нашему милому другу Антону Гофмиллеру ко дню рождения. Илона, Эдит».
Теперь все трое уставились на меня.
– Черт побери! – с шумом выдыхает наконец Ференц. – А ты за последнее время неплохо научился выбирать себе друзей. Мое почтение. От меня бы ты получил самое большее латунную спичечницу.
Судорога сдавливает мне горло. Завтра весь полк будет знать о золотом портсигаре, который мне подарили девицы Кекешфальва, и наизусть повторять надпись. «Что ж ты не покажешь свою шикарную коробочку?» – скажет Ференц в офицерском казино, чтобы высмеять меня; и мне придется «покорнейше» предъявлять подарок господину ротмистру, полковнику. Все будут взвешивать его в руке, оценивать и, ухмыляясь, читать надпись; затем неизбежно начнутся расспросы и остроты, а мне в присутствии начальства нельзя быть невежливым.
В смущении, спеша закончить разговор, я предлагаю:
– Ну как, еще партию в тарок?
Тут их добродушные усмешки сменяются хохотом.
– Как тебе это нравится, Ференц? – подталкивает его Йожи. – Теперь, в половине первого, когда лавочка закрывается, ему приспичило играть в тарок!
А полковой врач, лениво откидываясь на спинку стула, изрекает:
– Как же, как же, счастливые часов не наблюдают.
Все хохочут, смакуя пошлую шутку. Но вот приближается маркер Эуген и почтительно, но настойчиво напоминает: «Закрываемся, господа!» Мы идем вместе до самой казармы – дождь прекратился – и на прощание пожимаем друг другу руки. Ференц хлопает меня по плечу: «Молодец, что заглянул к нам!» – и я чувствую, что это говорится от чистого сердца. Почему я, собственно, так рассвирепел? Ведь все трое как один хорошие, славные ребята, без тени недоброжелательства и зависти. А если они слегка прошлись на мой счет, так это не со зла.
Верно, зла они мне не желали, эти добрые малые, но своими идиотскими расспросами и насмешками безвозвратно лишили меня уверенности в себе. Дело в том, что необычные отношения с Кекешфальвами удивительнейшим образом укрепили во мне чувство собственного достоинства. Впервые в жизни я ощутил себя дающим, помогающим; и вот теперь я узнал, как смотрят другие на эти отношения, или, вернее, какими неизбежно должны они казаться людям, не знающим всех скрытых взаимосвязей. Но что могли понять посторонние в утонченной радости сострадания, которой – не могу выразить это иначе – я отдался, словно неодолимой страсти! Для них было совершенно бесспорно, что я окопался в щедром, гостеприимном доме единственно ради того, чтобы, втеревшись в доверие к богачам, пировать за их счет и выклянчивать подачки. При этом в душе они вовсе не желают мне зла – славные ребята, они не завидуют ни моему теплому местечку, ни хорошим сигарам; без сомнения, они не видят ничего бесчестного или нечистоплотного – а это как раз и бесит меня больше всего! – в том, что я позволяю «штафиркам» носиться со мной, – по их понятиям, наш брат кавалерийский офицер еще оказывает честь этакому торгашу, садясь за его стол. Без всякой задней мысли Ференц и Йожи восхищались золотым портсигаром, – напротив, им даже внушило некоторое уважение то, что я сумел заставить раскошелиться моих покровителей. Но сейчас меня беспокоит другое: я сам начинаю сомневаться в собственных побуждениях. Не веду ли я себя и впрямь как нахлебник? Могу ли я, взрослый человек, офицер, допускать, чтобы меня изо дня в день кормили, поили и обхаживали? Вот, например, этот золотой портсигар – его мне ни в коем случае не следовало брать, точно так же, как и шелковое кашне, которое они недавно повязали мне на шею, когда на дворе дул сильный ветер. Куда это годится, чтоб кавалерийскому офицеру совали в карман мундира сигары «на дорогу», да еще – Господи! завтра же поговорю с Кекешфальвой! – еще эта верховая лошадь! Только сейчас меня осенило: позавчера он что-то бормотал, будто мой гнедой мерин (которого я купил, разумеется, в рассрочку и еще не расплатился) не так уж хорош с виду; в этом он – увы! – не ошибся. Но то, что он хочет одолжить мне со своего завода трехлетку, «отличного коня, на котором вам не стыдно будет показаться», – это уж нет, увольте. Вот именно: «одолжить» – теперь-то я понимаю, что это значит! Старик обещал Илоне приданое при условии, что она всю жизнь будет опекать его больную дочь, а теперь он намерен купить и меня, заплатив наличными за мое сострадание, мои шутки, мою дружбу! А я, простофиля, чуть было не попался на эту удочку, даже не заметив, что все время унижаю себя, превращаюсь в приживала!
«Чепуха!» – тут же говорю я себе, вспоминая, как старик робко дотронулся до моего рукава, как светлеет всякий раз его лицо, едва я переступаю порог. Я знаю – сердечная, братская дружба связывает меня с обеими девушками; нет, они не считают, сколько рюмок я выпил, а если что и заметят – искренне радуются, что мне у них хорошо. «Чушь! Ерунда! – твержу я себе снова и снова. – Глупости! Этот старик любит меня больше, чем родной отец».
Но какой толк уговаривать и убеждать себя, если внутреннее равновесие нарушено! Я чувствую, что Йожи и Ференц своим подтруниванием положили конец чувству полной непринужденности. «Ты в самом деле ходишь к этим богатым людям только из сострадания, только из сочувствия? – придирчиво спрашиваю я себя. – А нет ли здесь изрядной доли тщеславия и жажды удовольствий? Так или иначе, но ты обязан внести во все это ясность». И чтобы начать сразу, я решаю сократить отныне свои посещения и завтра же пропустить обычный визит в усадьбу.
Итак, на следующий день я у них не появляюсь. После службы мы с Ференцем и Йожи вваливаемся в кафе; просмотрев газеты, начинаем неизбежную партию в тарок. Но я играю дьявольски скверно; прямо против меня, в обшитой панелью стене, круглые часы, и вместо того, чтобы следить за картами, я веду счет времени – четыре двадцать, четыре тридцать, четыре сорок, четыре пятьдесят… В половине пятого, когда я обыкновенно прихожу к чаю, все уже бывает приготовлено; и если я запаздываю на какие-то четверть часа, меня встречают возгласом: «Что-нибудь случилось сегодня?» Они настолько привыкли к моему аккуратному появлению, что считают это как бы моей обязанностью; за две с половиной недели я не пропустил ни одного вечера, и, должно быть, теперь они смотрят на часы с таким же беспокойством, как я, и ждут, ждут… Надо бы хоть позвонить и сказать, что я не приду. Или пожалуй, лучше послать денщика?..
– Послушай, Тони, ты сегодня отвратительно играешь! Не зевай! – злится Йожи и бросает на меня свирепый взгляд. Моя растерянность стоила нам партии. Я стряхиваю с себя оцепенение.
– Знаешь что, давай поменяемся местами.
– Пожалуйста, но к чему?
– Сам не знаю, – вру я, – уж очень тут шумно, это мне действует на нервы.
На самом же деле я не хочу видеть часы и неумолимое движение стрелок минута за минутой. Все меня раздражает, я ни на чем не могу сосредоточиться, снова и снова мучаюсь сомнением – может быть, снять телефонную трубку и извиниться? Лишь сейчас я начинаю сознавать, что подлинное сочувствие – не электрический контакт, его нельзя включить и выключить, когда заблагорассудится, и всякий, кто принимает участие в чужой судьбе, уже не может с полной свободой распоряжаться своею собственной.
«Да пропади оно все пропадом, – злюсь я на самого себя, – ведь не обязан же ты изо дня в день таскаться туда и обратно!» И, повинуясь тайному закону взаимодействия чувств, по которому недовольство собой вызывает желание свалить вину на другого, я, подобно бильярдному шару, передающему дальше полученный им удар, обращаю свое дурное настроение не против Йожи и Ференца, а против Кекешфальвов. Ничего, пусть подождут разок! Пусть увидят, что меня не купишь подарками и любезностями, что я не являюсь в урочный час, точно какой-нибудь массажист или учитель гимнастики. Незачем приучать их, привычка связывает, а я не хочу чувствовать себя связанным каким-либо обязательством. Так, глупо упорствуя, просиживаю я в кафе три с половиной часа, до половины восьмого, стараясь доказать самому себе, что я волен приходить и уходить, когда мне вздумается, и что вкусная еда и отменные сигары у этих Кекешфальвов мне совершенно безразличны.
В половине восьмого мы поднимаемся из-за стола – Ференц предложил пошататься немного по Корсо. Но едва я вслед за приятелем переступаю порог кафе, как чей-то знакомый взгляд мельком задерживается на мне. Постой-ка, да ведь это Илона! Ну конечно! Даже если бы я не восхищался еще позавчера пурпурным платьем и широкополой шляпой с лентами, я бы все равно узнал ее по походке, по мягкому, плавному покачиванию бедер. Но куда ж она так спешит? Это не прогулочный шаг, а стремительный бег; впрочем, как бы там ни было – поскорей за милой пташкой, не дадим ей упорхнуть!
– Пардон, – несколько бесцеремонно бросаю я ошеломленным друзьям и поспешно устремляюсь за платьем, мелькающим уже на другой стороне улицы. Я и в самом деле безмерно рад, что племянницу Кекешфальвы каким-то ветром занесло в мой гарнизонный мирок.
– Илона, Илона! Погодите! Постойте! – кричу я ей вслед, меж тем как она продолжает идти с поразительной быстротой. В конце концов девушка останавливается, и я вижу, что наша встреча ее нисколько не удивляет. Разумеется, она заметила меня еще тогда, при выходе из кафе. – Это просто замечательно, Илона, что я встретил вас в городе. Я уже давно мечтаю прогуляться с вами по нашим владениям! Или может, лучше заглянем на минутку в знаменитую кондитерскую?
– Нет, нет, – бормочет она чуть смущенно. – Я тороплюсь, меня ждут дома.
– Не беда, подождут еще пять минут. На всякий случай, чтобы вас не поставили в угол, я выдам вам оправдательный документ. Не глядите на меня так сурово, пойдемте!
Вот бы взять ее под руку! Я от души рад, что в другом своем мире встретил именно ее, ту из них, с которой не стыдно показаться, а если я попадусь на глаза товарищам с такой красавицей – тем лучше. Но Илона чем-то встревожена.
– Нет, правда, мне нужно домой, – поспешно отвечает она, – вот и автомобиль ждет.
И в самом деле, с площади Ратуши меня почтительно приветствует шофер.
– Но до машины-то вы мне позволите вас проводить?
– Разумеется, – бормочет она с какой-то непонятной тревогой, – разумеется… Кстати… почему вы сегодня не пришли?
– Сегодня? – медленно переспрашиваю я, словно что-то припоминая. – Сегодня?.. Ах да, дурацкая история. Полковник надумал обзавестись новой лошадью, так вот нам всем пришлось идти любоваться покупкой да еще по очереди объезжать коня. (В действительности это произошло еще месяц назад. Да, врать я не умею.)
Илона колеблется, желая что-то возразить. (Почему она все время теребит перчатку и нетерпеливо притопывает ножкой?) Потом вдруг быстро спрашивает:
– Может быть, вы сейчас поедете вместе со мной?
«Держись, – говорю я себе. – Не поддавайся! Хоть раз, хоть один-единственный день!» И я огорченно вздыхаю:
– Как жаль, мне страшно хотелось бы поехать. Но сегодняшний день все равно потерян: вечером у нас собирается компания, я должен быть там.
Она пристально смотрит на меня (странно, в эту минуту между бровями у нее появляется та же нетерпеливая складка, что и у Эдит) и не произносит ни слова, не знаю – из нарочитой невежливости или от смущения. Шофер распахивает дверцу, Илона с шумом захлопывает ее за собой и спрашивает меня через стекло:
– Но завтра вы придете?