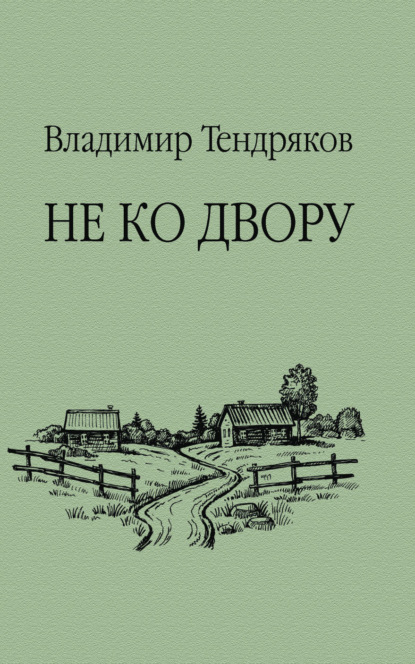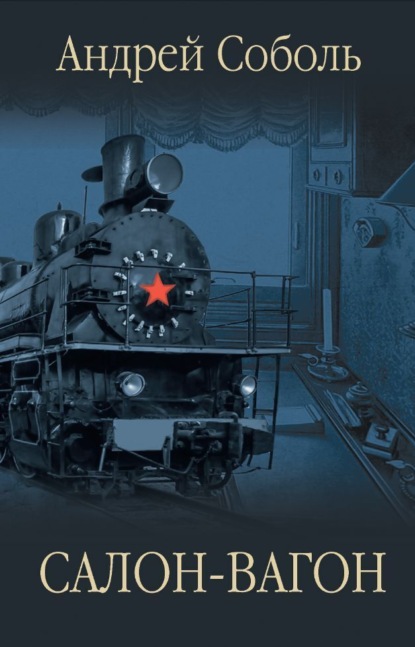Полная версия
Ленинградские рассказы
Так идти приходилось больше версты. Вдруг где-то за спиной раздался одинокий, случайный выстрел и потом гулкое шипение приближавшегося снаряда… Люди замедлили шаги, головы поднялись вверх… Шипение приближалось.
«Убьет, – подумал Мирцев, – увидели… Если правильно прицел возьмут – никто целым не уйдет!»
Что-то большое и горячее ударило в болото шагах в семидесяти от идущих. Снаряд захлебнулся в грязи и со странным звуком: чвашшш… утонул в болоте… Второй и третий упали далеко вперед… Потом наступило молчание. Головы опустились. Но в движениях шедших уже заметна была нервозность. Многие подтянули ближе лошадей, укоротили поводья, вдели мундштуки, надели на себя винтовки, которые несли в руках и зло поглядывали на пехоту…
Мирцев инстинктивно отошел к елкам, как будто это могло спасти или скрыть его от снаряда. Пехота осталась совершенно спокойной. Только один, с козлиной, рваной бороденкой, солдат, черный, как уголь, от пыли, копоти и загара, язвительно пропустил:
– Эх, хорошо бы… Попал бы немец… Нас бы побил, да и жандармам эти досталось бы… Эх, хорошо бы… Всё одно!
И больше он ничего не прибавил и заковылял дальше, такой же черный и усталый.
Мирцев посмотрел на него, и ему стало неловко. Так было хорошо до сих пор, так ладно все шло; довольство оставалось, несмотря на зной, усталость, голод, жажду… Пускай он и голоден, и охота пить, и ногам больно от непривычки ходить так много по такой дороге, и от долгой езды, – полдень уже миновал, – но все это хорошо само по себе, потому что так нужно… Кому? В этом он задумался дать ответ… Но сейчас, когда он пригляделся к этим шагавшим с ним вместе людям, в его уме шевельнулась тяжелая, нудная и некрасивая мысль, от которой вдруг стало неловко.
«Боже мой, – думал он, – неужели это люди? Ведь вот драгуны – любо посмотреть: молодец к молодцу, гордые, ловкие, что бы там ни говорил Шестов, самоуверенные, даже наглые, но и наглость эта подкупает и располагает в их пользу, а это что? Стадо, стадо серых зверей, ни у кого нет ничего яркого, выдающегося, даже просто человеческого, точно поднялась и идет по дороге целая поляна пней, – пней, заросших мхом, покрытых вековой пылью, дремой дремучего леса, песком и глиной многих бурь, прахом сваленных и сгнивших старых дубов и сосен. Идут эти пни и молчат и что-то несут под серыми, ужасными одеждами. Что? Неужели такое же, как у него, молодое, полное сердце?.. И клонятся вниз страшные молчаливые головы, и кажется, что не мысли в черепах, а какие-то тяжелые камни, которые давят книзу, и оттого глаза так бездушны и тусклы, и оттого ноги спотыкаются, как палка в руках слепца… И как они молчат… Но еще стало страшней и неожиданней, когда один из них заговорил с Мирцевым: было это уже в лесу, когда миновали дорогу, и драгуны сели на лошадей, а «пленники» шли, окруженные ими… Ближайший к Мирцеву пехотинец замедлил шаг и спросил:
– А что, товарищ, вас-то разве не утесняют? – И Мирцев, поймав эти слова, так дернул поводья, что лошадь задрала кверху голову и остановилась.
Он не ответил и отвернулся. Он думал о другом, назойливом, гнетущем чувстве, которое вползало в его душу вместо прежнего здорового довольства.
Точно в празднично убранную залу с роскошно сверкающим столом, коврами, картинами, вазами и занавесками вползло темное, косматое чудовище, липкими и грязными лапами испачкало серебро и порвало ткани, заслонило перепончатыми черными крыльями свет в окнах, вымочило лучшие фрукты и сладости в зеленой отвратительной пене и слюне и очаровало всех нарядных, красивых гостей холодным, бездонным взглядом. И может быть, этот призрак, идущий вровень с его лошадью, ничего не сказал. Ему почудилось? Но приблизилось на близкое мгновение лицо того, и запомнил Мирцев на всю жизнь простые и величавые, точно глубоко задумавшиеся, черты его, человеческие, ясные черты под черной, грубой, шелудивой корой заветренного дерева… И так это было неожиданно, точно овца, отделившаяся от стада, заговорила с пастухом человеческим голосом. И жажда, и голод, и усталость сразу упали на Мирцева, и он задрожал от горького и постыдного упрека, который бросил ему кто-то в самое святое-святых его существа…
Угрызение не угрызение, тоска не тоска, но что-то большое и суровое укололо его сердце, и этот укол будет мучить его и день, и ночь, и завтра, и долго потом, пока не захочет он узнать всю правду об этих людях, показавшихся ему пнями и животными…
XIIРастягин проснулся только на рассвете, спал крепко; на ночь он выпил малины, накрылся двумя одеялами и шинелью, и утром, выйдя на улицу, надел шинель в рукава, несмотря на то что день предвещал быть жарким. Вместе с ним в автомобиль сел Камба, склонный много говорить о деловых мелочах сегодняшнего дня, но когда он увидел, что генерал еще чувствовал недомогание, то сразу ушел в себя и стал все высматривать и запоминать по своей всегдашней привычке.
Автомобиль быстро и солидно катился с моста на мост, с горки на горку, резал воздух голосистой сиреной, подпрыгивал на обочинах, шурша под изволок, а генерал молчал и думал; он вспоминал вчерашнее свое состояние, беседу с Кургановым и рассердился, даже покраснел…
«Вот ведь нагнал мальчишка какого тумана. Сидел и лил, как медь, а я слушал». И сколько у него нашлось возражений, острых и мучительных, и веских, именно таких, какими нужно было осадить этого искосольца… «Ворона, ворона, поддался, и ничего сказать не смог… еще объяснить подробнее попросил»…
Меньше всего он старался думать о том, зачем и куда едет. И когда мимо него прошли броневые автомобили, грузовики и кавалеристы, он осмотрел их без всякого внимания, любезно поздоровался с Янычаровым, что-то сказал Фугастову, куда-то торопившемуся, и, только когда увидал Курганова, оглядел его с ног до головы, точно сфотографировал, и сразу успокоился… И совсем не хотелось больше вспоминать вчерашнее…
«Вот, если бы мой Боря был жив теперь, тоже был бы таких лет, как Курганов, и тоже на войне со мною, и офицером, как Камба… фу, какая мерзость, – и неужели, неужели он говорил бы так, как этот Курганов – так пламенно, с такой верой, его тихий, послушный, любимый Боря… И как бы кончил? Как все они, особенные, кончают… Не так, как обыкновенно, как вот он, генерал Растягин…»
Автомобиль остановился, и тут он увидел солдат третьего батальона. Они пробегали и строились, и не обращали на него внимания: между ними и генеральским автомобилем стояли тесными рядами драгуны. Растягин стал глядеть на солдат, с томительными и болезненными мыслями, которые опять вернулись к нему, и опять начала расти лихорадка, и пальцы задрожали в карманах, задрожали холодной дрожью, несмотря на то что кругом дышал жгучий, душный полдень… И когда трое или четверо из стрелков посмотрели в его сторону, ему вдруг стало стыдно, так стыдно, что захотелось выскочить из автомобиля и бежать в кусты, засунуть голову в зеленую, густую чащу и смотреть, смотреть туда в зелень и тихий мрак леса, забывая все: себя, окружающих, «тех», что строятся на дороге…
Он закрыл глаза и начал ощупью застегивать расстегнувшуюся верхнюю пуговицу шинели… Камба куда-то ушел. Шофер разговаривал с драгунским вахмистром, и белые зубы его сверкали, как перламутр, и от них все его смуглое лицо было красиво и мягко.
Растягин опустил голову на грудь; странные, далекие картины проносились опять в его воспаленном мозгу… «Опять бред», – подумал он: ему казалось, что он идет в толпе серых, безликих шинелей куда-то далеко-далеко, и он знает их всех, всех, и знает, что они думают и куда идут, и от этого радостно и спокойно на его сердце. И сквозь какой-то дым и гром они бегут вперед, и он с ними, и они чему-то рады, и пляшут и поют зажигательно и звонко, и он видит село, богатое, красивое село, и украшенные цветами и лентами девушки танцуют какой-то милый, давно знакомый танец… И он идет по селу между солдат, и тут пьет сладкую воду, густой мед, холодный квас, там пробует щи, жирные щи со свининой, которые всегда так хороши на походе, потом хохочет с каким-то высоким парнем и сватает ему невесту – и вдруг кто-то тянет его за плечи и начинает вторить его хохоту, и село проваливается куда-то вниз, как на сцене, и солдаты бросают танцы, песни и котелки и бегут испуганной толпой строиться…
Он открывает глаза… Шофер хохочет непринужденно, смахивая еловой веткой пыль со своих новых желтых ботинок, Камба идет к автомобилю в сопровождении Янычарова и какого-то драгуна и двух офицеров, – а стрелки уже построились, и пристраиваются торопливо и серьезно только запоздавшие…
Что-то коротко и неясно, холодно и строго докладывают ему Янычаров и Камба, он качает головой и молчаливо соглашается. Потом Камба садится опять с ним рядом, и автомобиль трогается. Едут по фронту третьего батальона.
И тут генерал движением человека, забывшего спросить о чем-то главном, привстает в автомобиле и смотрит, смотрит прямо в землистые серые лица и хочет, кажется, разрешить какую-то загадку, неумолимую и грозную, и потом со вздохом опускается на сиденье и снова молчит и думает…
И опять летят мосты за мостами, перелески за полями, повороты шоссе, и генерал смотрит по сторонам и видит: леса не те, что были, стоят углубленные, тихие, приветливые, такие, какими они были в его далеком детстве; поля – тоже простые, спокойные, дышащие рассветом и теплом, сельские, мирные, а не те, что видел он в эти ужасные годы безжалостной и страшной жизни: облака величавы и неподвижны, как будто не на небе они, а нарисованы на соборном куполе, вокруг фигуры Бога Саваофа, – дорога, старая, деревенская, летняя дорога, на которой вот покажется нищий в драном зипуне, с обожженным солнцем лицом, с жидкими космами поседевших от старости волос, и попросит милостыньки, или телега с горшками, с мужиком, едущим на ближайшую ярмарку, с бабой, подгоняющей мочальным жгутом корову, пеструю, с большими лиловыми глазами и крутыми бедрами, корову – и странно, когда из-за угла выскакивает и пропадает в пыли фигура согнувшегося к рулю мотоциклиста, в кожаной, белой от пыли куртке…
И хорошо думается на просторе: все было и снова будет… И нет границ миру, как нет конца власти Господина мира, и сладко погрузиться в прошедшее, и не страшно будущее… Вот эти поля, леса, облака, дороги, они вернулись к нему… И многое еще вернется – так всегда бывает перед концом… Он не чувствовал так, как сегодня, долгие-долгие годы, а теперь почувствовал близко и беззлобно, точно едет он домой, на хороший, дружный праздник, и ничего не может с ним случиться худого, потому что кто-то, Мудрый и Чувствующий и Взвешивающий все, простил ему прежнюю грешную, тяжелую и горькую жизнь, и оттого таким легким стало тело, и так горячо сердце, точно молодая кровь вновь брызнула в него, и не нужно глядеть по сторонам и пугаться, и думать, – а закрыть глаза, успокоиться и ждать, ждать, ждать… и сквозь закрытые веки чувствовать, как летят поля, леса, мосты, повороты…
А Камба смотрел на генерала, углубившись в себя, и говорил себе мысленно: «Запомни все, запиши в своем уме, Камба, будешь детям рассказывать, как ты генералов разделывал, за собой возил, и творил историю, Камба… Историю! Сильно сказано… Это бывает не каждый год и не со всяким… Ничего не упусти, Камба… Больших денег это все потом будет стоить… Запомни же все, мудрый, умный Камба… Ты будешь историческим человеком… Дед был веревочником, плел сети для рыбаков и лестницы на кораблях, отец – чиновник, плетет мелкие и гнусные кляузы в своих бумагах в суде, а ты, Камба, ты плетешь нити истории, ты берешь узловатые жилы жизни и в них вплетаешь тонкие, алые ленты красивой фантазии, которую ты несешь в жизнь!»
XIIIКогда драгуны поздно вечером этого дня возвращались в свою стоянку, в курорте Г., и проезжали станцию, им пришлось остановиться у будки, чтобы пропустить поезд.
– Ба, Зейман! – закричал плотный бравый пограничник, подходя к председателю комитета. – А я к тебе собирался сегодня вечером… Ну как, удачно?
– Все исполнено в точности… А на заседание культурно-просветительской комиссии я смогу приехать только послезавтра. Может быть, найдете возможность перенести его на другой день…
– Плюнь, вон он о чем. Отложим – да и все. Все равно половина народу не соберется, а вот что я тебе скажу: слезай с лошади, садись в поезд и едем к нам в М.?
– Это зачем?
– Да у нас вечер, такой шикарный, увидишь: водевильчик, клоуны, куплеты, конфетти. – И, приблизившись, пограничник сказал, подмигивая: – Летучая почта и барышни, такие, брат, там, загляденье, специально выписали…
– Что ты говоришь, для вечера? И ты хочешь, чтобы я поехал?
– Ну, конечно, поддержи компанию. И цена билету три целковых.
– Да я устал, как собака… Такую даль…
– Да ведь не верхом, в поезде. Так и быть, с одной познакомлю, благодарен будешь…
– Ну, ладно, сейчас, только освобожусь от лошади… Господин вахмистр! Господин вахмистр!
– Я! – отозвался, подъезжая, с иголочки одетый блондин, тот, что шутил по-хохлацки на позициях. – Что вы хотите?
– Возьмите, пожалуйста, лошадь. Я должен по делу сейчас ехать в М…
– Хорошо! Захаров, ей, Захаров – возьми лошадь, поведешь в поводу… Она нашего эскадрона? Ах, это «Змейка»?
– Да!
– Ну, так хорошо… Счастливо!
Зейман и пограничник бросили бегом на станцию к остановившемуся поезду. Полк длинной, извивавшейся змеей вполз в улицу курорта…
XIVКогда Растягин вошел в свою квартиру, за ним последовал и Камба.
– Господин генерал! – заторопился он. – Мне нужно срочно передать вам некоторые бумаги; тут немного вопросов: о производстве в унтер-офицерский чин «вице» прибывших пополнений, о награждении Георгиевскими крестами, о выдаче кормовых и командировочных…
– Хорошо! – глухо ответил Растягин. – Вы подождите, пожалуйста, в столовой. Я велю вам дать чаю, а я позавтракаю. И потом, мне сильно нездоровится.
Да, опять он едва стоял на ногах, держась за спинку стула. Камба взглянул на него и чуть-чуть испугался. И в самом деле помрет старик – возьмет да и помрет. И он даже отодвинулся к двери, будто генерал уже падал на него мертвой, безжизненной массой…
Камбе в столовую принесли хлеба, масла и стакан чаю. Он с аппетитом поел, чмокая губами, поднялся и стал ходить по комнате. В кабинете у генерала было тихо. Наконец, Камбе послышалось, что Растягин его зовет. Он прислушался. Ему снова послышался голос. Он взялся за ручку двери, секунду постоял в нерешимости и потом сразу остановился, притворив за собою дверь.
Генерал стоял у стола, бледный, изможденный, сразу постаревший и сгорбившийся, и смотрел в окно упорным, страдальческим взглядом. Камба подошел неслышно к нему и посмотрел в окно на зрелище, к которому приковалось внимание генерала.
На площади перед долом слезали с грузовиков темные, знакомые фигуры «расформированных» стрелков. Их окружали новые конвоиры: казаки. Вдали держались любопытные, собравшись кучками… Можно было предположить, как остро шипели их языки и какие язвительные шутки переходили из уст в уста, с гаденьким, тихим смешком… Юмор обывателей – как колесная мазь – дешева, густа и с запахом…
– Что, что… – начал было Камба, но в эту минуту Растягин повернулся к нему, схватил его за рукав, притянул к окну и гневно и строго, голосом громким и резким, каким он всегда произносил выговоры, голосом, испугавшим Камбу, скал первые слова:
– Что вы с ними сделали, а? – Он захлебнулся, и следующие слова вырвались почти со стоном: – Ведь я не могу на них смотреть. Ведь я плачу… душой плачу. Ведь любил я их, чертей косматых, грязь эту серую, непромешанную… А теперь? Что им сказали про меня? Зачем нас разъединили, зачем никто правды не скажет!.. О том, что у меня погоны с зигзагами – это запомнили, что я лампасы красные ношу, тоже запомнили, а что я душу имею – забыли? Кричат, что их дело – свобода, гордость, чистота, а что это: тоже гордость, тоже чистота? Какой ложью вы оправдаетесь, какими словами очиститесь? Как изворачиваться будете?.. Воевать не хотят! Изменники! Врете, все врете! – закричал он. – Они дрались как львы, как герои, как мученики, кому хотите скажу, Богу в глаза скажу, меня от смерти спасали, гибли – ах, как они гибли! А под Шавлями, под Августовом, под Праснышем, что они делали… как они были велики! Я жизни с ними не пожалею… И всё… всё с ними… А теперь? Обманом, предательством их покрыли, а ведь на них пыль только, пот и кровь их… да как же пыли не быть, столько верст они проходили в неделю, сколько другой во всю жизнь свою не сделает, да как же не вспотеть от труда – третий год, третий год, – и каждый такой год стоит двадцати – тридцати лет, – работают без отдыха, а кровь – кровь всегда дорога, а их кровь бесценна, как жертва, понимаете ли, как жертва – их кровью другие спасутся… Да, да… не смейтесь, вы…
Камба не смеялся. Он побледнел сам, нервно дергал плечом и искал слов, какими нужно ответить этому старику. Он сам поразился, сам понял чутьем, что перед ним происходит. И он сказал, и слова его были не похожи на обыкновенные слова – и нечасто так говорил Камба и таким тоном:
– Генерал, генерал! Я всегда уважаю чужое горе, я понимаю, тяжело… ах, да разве вы не видите… но… генерал, я не могу… но я должен…
Растягин печально растянул губы и взглянул на Камбу тяжелым взглядом:
– Я… Уходите… слышите, уходите… И не беспокойтесь… Я завтра же подам рапорт о болезни…
И он снова отвернулся и стал дрожащими руками собирать рассыпанные по столу бумаги. «Конец, – сказал он себе, – да, это необходимо!» Точно подымался он, таща тяжелые сани к вершине горы, и добрался и теперь летит оттуда вниз с такой быстротой, что нельзя даже соображать и больно думать, и знает, что вдребезги разобьется он и мертвым ляжет внизу, там, в неизвестной ему и страшной и сладостной стране.
XVМирцев поужинал в команде связи, прошелся на пляж, полежал на песке и пришел домой, когда было уже совсем темно. Взяв ключ от хозяйки, он поднялся на верхний этаж, зажег свечу и стал раздеваться. Наверху было три комнаты: одна из них – маленькая, с одним окном, была темна и неприветлива. В ней стояла кровать с продранным матрацем и желтый бельевой шкап, в котором валялись сломанные корзины, бутылки из-под красного вина и всякий хлам… Мирцев сегодня нуждался в одиночестве. Поэтому он лег спать в этой комнате, предварительно заперев дверь на крючок, а так как крючок запирал неплотно, то загородил дверь еще двумя стульями и табуреткой. Потом накрылся с головой одеялом и заснул.
Через три часа после того, как Мирцев лег, пришел Иванов. Убедившись, что дверь в маленькую комнату заперта, он нашел это обыкновенным, зажег у себя зеленую кривую лампу с разбитой подставкой, державшейся, как он говорил, на честном слове, вынул из кармана коробку сардин, притащил с балкона квадратный жестяной чайник с холодным чаем, отыскал на окне горбушку хлеба и разделся… Раздевшись, достал из шкапчика книжку и углубился в чтение, сидя на кровати, болтая ногами, прихлебывая чай и жуя хлеб с сардинами.
На лестнице послышались чьи-то ровные, медленные шаги. В комнату вошел Шестов.
– Один! – сказал он, садясь у стола, – а я тоже сидел, сидел на своем чердаке, дай, думаю – спать неохота – пойду, газеты почитаю сегодняшние… Получены?
– Вон там, за ротатором…
Шестов отыскал газеты, снова сел и увидал сардины.
– Я одну украду? – спросил он. – А это что? – Он взял книжку. – А, старый знакомый. Когда-то давно из-под полы читал…
– Да? «Речи бунтовщика»… Кропоткин. Мое любимое, – отвечал Иванов. – Берите сардинки. Сейчас я хлеба дам. Кружку для чая возьмите на столе, бумагами где-то завалена, а сахар, наверно, с собой есть…
– Спасибо!
Шестов съел сардинку, выпил кружку чаю… Несколько времени сидели, не разговаривая. Оба читали: один книжку, другой – газеты… Вдруг лестница снова задрожала. Кто-то шел, уверенно и крепко ступая. Иванов засмеялся:
– Вот наш колосс Мемнона прется. Сейчас его разыграем.
Действительно, это был Зейман.
– Что ты глядишь: поздно пришел? – спросил он, смотря на секретаря. – А где Мирцев?
– Я ничего, – отвечал Иванов, – ты знаешь, что у меня часов не существует. Анархисты по своему времениисчислению живут. Мирцев храпит уже: затаскали молодчика по болотам.
– Ну, прочитал газеты, гнусно все, – сказал Шестов, поднимаясь. – Пойду спать – может, приснится что-нибудь получше.
– Посидите, поговорим, – остановил его Зейман. – Я вам расскажу кое-что интересное…
– Политическое? – заинтересовался Иванов.
– Ну, конечно…
– Тогда проваливай к себе в комнату объясняться. Мне мешать будешь спать.
– Вот дурак… Идемте, товарищ Шестов…
– Покойной ночи – эвакуируйся…
Секретарь полкового комитета сладко зевнул два раза, прошелся босыми ногами по комнате, закрыл окно, затушил лампу, лег под одеяло и, засыпая, долго сосал крепкий, большой кусок сахару. Снизу доносились тихие голоса Шестова и Зеймана… Далеко был слышен глухой, однообразный шум моря. Стекла чуть-чуть дрожали, испуганно и тихо… И если вслушиваться, то можно было бы уловить другой дальний и минутами почти непрерывный гул: это шла артиллерийская подготовка. Немцы готовились наступать… И все уже спали, когда над курортом проплыло темное сигарообразное тело цеппелина, летевшего на северо-восток… От одного особенно резкого залпа, когда дрогнуло все окно, Иванов проснулся, поднялся на постели, сказал: «Вот черти, спать не дают!» – и повернулся на другой бок…
XVIЧерез три дня, в газете «Р… Вестник» в хронике была помещена краткая заметка о том, что «в ночь на 30-е июля выстрелом в голову покончил с собой генерал-майор Растягин. Смерть наступила мгновенно. Покойный не оставил никакой записки. Причина самоубийства не установлена». Других пояснений не было.
В том же нумере газеты был опубликован приказ о том, что командование особой армией поручается генерал-лейтенанту Седлецкому.
Халиф
Рассказ
IВице-генералиссимус турецкой армии, убийца Назим-паши, зять халифа, наместник Магомета, «главнокомандующий всеми войсками ислама», друг эмира, контрреволюционер и авантюрист Энвер-паша погибал в каменных расщелинах, как последний дезертир.
Пленный красноармеец без шлема стоял перед ним. Щека его была рассечена прямым ударом нагайки. Мутные глаза его дымились от усталости.
Его так быстро гнали по тропе вверх, что его грудь равнинного жителя ходила ходуном. Штаны и гимнастерка были разорваны. Кроме всего, он струсил и непрерывно переступал ногами, точно стоял на угольях.
Энвер вспомнил свой старый жест, который он называл маршальским.
– Хасанов, – сказал он, дотрагиваясь до пленного концом маузера, такие люди хотят задержать меня? Жалкий народ. Отпустите его вниз – дайте ему моих прокламаций.
Человек в серой маленькой шапочке закрыл левый глаз. Он негодовал:
– Это ошибка. Зачем оставлять лишнего бойца? Паша…
– Этот солдат – плохой солдат! Он не много причинит нам вреда. Дайте ему прокламаций и отпустите… Я сказал…
Энвер отошел в сторону и прекратил разговор.
Он поднял бинокль и обвел весь горный ералаш внимательнейшим взором. Он остановился на фигурке пленного, прыгавшей под гору, становившейся все меньше и меньше. Потом он увидел, как около этой фигурки мелькнуло что-то похожее на голубиную стаю. Это взлетели брошенные красноармейцем прокламации. Сейчас же он отвел глаза, и горы восточной Бухары стали подсовывать ему в двойные стекла бинокля многообразие своих троп и пятна осыпей, и оврынги, и балконы, и переправы внизу в густых тенях ущелья, жующего воду и швыряющего камни.
И вот двойные стекла бинокля стали нащупывать легко скользившие серые комочки стрелков. Желтые, кое-где одетые можжевельником, точно в ужасе цеплявшимся за камни, эти горы мучительно походили на Триполитанские горы. Перед ним мелькнуло презрительное лицо Кемаля и ястребиное – Джемаля. Они смеялись. Они называли его великим неудачником.
Да, это было так, но не сейчас. Разве не сейчас? Разве не бежит он по каменным коридорам из одного в другой и серые комочки катятся за ним, как заведенные? Он поднял снова бинокль, и сердце солдата стало ударять в ребра. Там над осыпями, оврынгами и балконами всплывали дымки. Сильное эхо удесятерило звук, и нельзя было понять, с какого расстояния бьют.
Изредка, словно набрав злости, ударяла пушка. В бинокль он видел даже винтовки, просунутые между камней, и одного неудачного наблюдателя, высунувшегося до пояса и махавшего кому-то рукой.
Он прикидывал цифры: взвод держит тропинку, три пулемета, несомненно, у переправы, два горных орудия – спешенная кавалерия в ущелье. Красноармейцы сбегают вниз, нарочно показываясь. Значит, начался обход. Пушки берут высоко, перелетами, развлекая басмачей.
Они обходят. Цифры цеплялись одна о другую. 35–50—75 метров они пройдут в полчаса, подъем – час без тяжести: двигаться, нападать бессмысленно. Он вспомнил ночные рестораны Берлина, заряженные гулом толпы, песнями и криками.